Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы
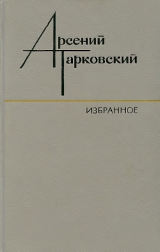
Текст книги "Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы"
Автор книги: Ованес Туманян
Соавторы: Григол Абашидзе,Владимир Каминер,Адам Бернард Мицкевич,Галактион Табидзе,Арсений Тарковский,Важа Пшавела,Ираклий Абашидзе,Михаил Квливидзе,Амо Сагиян,Ованес Шираз
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Стихотворения
Гостья-звезда
1929–1940
Перед листопадомПрохожий
Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моем.
Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потемках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.
Если считаться начнем, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, еще рассыпается гравий
Под осторожным ее каблуком.
Там, в заоконном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В желтом, и синем, и красном – на что ей
Память моя? Что ей память моя?
Колыбель
Прохожему – какое дело,
Что кто-то вслед за ним идет,
Что мне толкаться надоело,
Стучаться у чужих ворот?
И никого не замечает,
И белый хлеб в руках несет,
С досужим ветерком играет,
Стучится у моих ворот.
Из дома девушка выходит,
Подходит и глядит во тьму,
В лицо ему фонарь наводит,
Не хочет отворить ему.
– Что, – скажет, – бродишь,
колобродишь,
Зачем еще приходишь к нам,
Откуда, – скажет, – к нам
приходишь
Стучаться по ночам?
Андрею Т.
«Река Сугаклея уходит в камыш…»
Она:
Что всю ночь не спишь, прохожий,
Что бредешь – не добредешь,
Говоришь одно и то же,
Спать ребенку не даешь?
Кто тебя еще услышит?
Что тебе делить со мной?
Он, как белый голубь, дышит
В колыбели лубяной.
Он:
Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.
Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы глубокой?
Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;
День провожаю, звезду встречаю. Дай мне напиться.
Она:
Где криница – там водица,
А криница на пути.
Не могу я дать напиться,
От ребенка отойти.
Вот он веки опускает,
И вечерний млечный хмель
Обвивает, омывает
И качает колыбель.
Он:
Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня что хочешь —
Свет вечерний, ковш кленовый, траву подорожник…
Дом
Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким…
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.
«Зеленые рощи, зеленые рощи…»
Юность я проморгал у судьбы на задворках,
Есть такие дворы в городах —
Подымают бугры в шелушащихся корках,
Дышат охрой и дранку трясут в коробах.
В дом вошел я как в зеркало, жил наизнанку,
Будто сам городил колченогий забор,
Стол поставил и дверь притворил спозаранку,
Очутился в коробке, открытой во двор.
Погоди, дай мне выбраться только отсюда,
Надоест мне пластаться в окне на весу;
Что мне делать? Глумись надо мною, покуда
Все твои короба растрясу.
Так себя самого я угрозами выдал.
Ничего, мы еще за себя постоим.
Старый дом за спиной набухает, как идол,
Шелудивую глину трясут перед ним.
«Под сердцем травы тяжелеют росинки…»
Зеленые рощи, зеленые рощи,
Вы горькие правнуки древних лесов,
Я – брат ваш, лишенный наследственной мощи,
От вас ухожу, задвигаю засов.
А если я из дому вышел, уж верно
С собою топор прихвачу, потому
Что холодно было мне в яме пещерной
И в городе я холодаю в дому.
Едва проявляется день на востоке,
Одетые в траурный чад площадей
Напрасно вопят в мегафоны пророки
О рощах-последышах, судьях людей.
И смутно и боязно в роще беззвучной
Творить ненавистное дело свое:
Деревья – под корень, и ветви – поштучно…
Мне каждая ветка – что в горло копье.
«Если б, как прежде, я был горделив…»
Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребенок идет босиком по тропинке,
Несет землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю.
Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.
Ночной дождь
Если б, как прежде, я был горделив,
Я бы оставил тебя навсегда;
Все, с чем расстаться нельзя ни за что,
Все, с чем возиться не стоит труда, —
Надвое царство мое разделив.
Я бы сказал:
– Ты уносишь с собой
Сто обещаний, сто праздников, сто
Слов. Это можешь с собой унести.
Мне остается холодный рассвет,
Сто запоздалых трамваев и сто
Капель дождя на трамвайном пути,
Сто переулков, сто улиц и сто
Капель дождя, побежавших вослед.
«Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке…»
То были капли дождевые,
Летящие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день,
И только радуги в тумане
Вокруг неярких фонарей
Поведали тебе заране
О близости любви моей,
О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила.
Как слезы, капли дождевые
Светились на лице твоем,
А я еще не знал, какие
Безумства мы переживем.
Я голос твой далекий слышу,
Друг другу нам нельзя помочь,
И дождь всю ночь стучит о крышу,
Как и тогда стучал всю ночь.
«Я боюсь, что слишком поздно…»
Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,
Все никак не мог проститься и листок держал в руке.
Свет растекся по брусчатке. На ресницы, и на мех,
И на серые перчатки начал падать мокрый снег.
Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь зажег,
Засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок.
И рассыпался неловкий, бестолковый разговор,
Легче пуха, мельче дроби… Десять лет прошло
с тех пор.
Даже адрес потерял я, даже имя позабыл
И потом любил другую, ту, что горше всех любил.
А идешь – и капнет с крыши: дом и ниша у ворот,
Белый шар над круглой нишей, и читаешь: кто живет?
Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета, точно молодость сама.
Т. О.-Т.
Страус в 1913 году
Я боюсь, что слишком поздно
Стало сниться счастье мне.
Я боюсь, что слишком поздно
Потянулся я к беззвездной
И чужой твоей стране.
Мне-то ведомо, какою —
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какою
Неспокойной, молодою
Ты бываешь без меня.
Я-то знаю, как другие,
В поздний час моей тоски,
Я-то знаю, как другие
Смотрят в эти роковые,
Слишком темные зрачки.
И в моей ночи ревнивой
Каблучки твои стучат,
И в моей ночи ревнивой
Над тобою дышит диво —
Первых оттепелей чад.
Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод.
Вешний лед в крови твоей.
Град на Первой Мещанской
Показывали страуса в Пассаже.
Холодная коробка магазина,
И серый свет из-под стеклянной крыши,
Да эта керосинка на прилавке —
Он ко всему давным-давно привык.
Нахохлившись, на сонные глаза
Надвинул фиолетовые веки
И посреди пустого помещенья,
Не двигаясь, как чучело, стоял,
Так утвердив негнущиеся ноги,
Чтоб можно было, не меняя позы,
Стоять хоть целый час, хоть целый день
Без всякой мысли, без воспоминаний.
И научился он небытию
И ни на что не обращал вниманья —
Толкнет его хозяин или нет,
Засыплет корму или не засыплет,
И если б даже захотел, не мог
Из этого оцепененья выйти.
25 июня 1935 года
Бьют часы на башне,
Подымается ветер,
Прохожие – в парадные,
Хлопают двери,
По тротуару бегут босоножки,
Дождь за ними гонится,
Бьется сердце,
Мешает платье,
И розы намокли.
Град
расшибается вдребезги
над самой липой.
Все же
Понемногу отворяются окна,
В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.
«Отнятая у меня, ночами…»
Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи – на что же
Мне тишина травы, и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых?
Игнатьевский лес
Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный богом,
Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.
Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти – в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?
Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.
«Когда купальщица с тяжелою косой…»
Последних листьев жар сплошным самосожженьем
Восходит на небо, и на пути твоем
Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем.
В заплаканных глазах отражена дорога,
Как в пойме сумрачной, кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, не трогай,
Не задевай лесной наволгшей тишины.
Ты можешь услыхать дыханье старой жизни:
Осклизлые грибы в сырой траве растут,
До самых сердцевин их проточили слизни,
А кожу все-таки щекочет влажный зуд.
Все наше прошлое похоже на угрозу —
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
А небо ежится и держит клен, как розу, —
Пусть жжет еще сильней! – почти у самых глаз.
Мельница в Даргавском ущелье
Когда купальщица с тяжелою косой
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.
Над хрупкой чешуей светло-студеных вод
Сторукий бог ручьев свои рога склоняет,
И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.
Портрет
Все жужжит беспокойное веретено —
То ли осы снуют, то ли гнется камыш, —
Осетинская мельница мелет зерно,
Ты в Даргавском ущелье стоишь.
Там в плетеной корзине скрипят жернова,
Колесо без оглядки бежит, как пришлось,
И, в толченый хрусталь окунув рукава,
Белый лебедь бросается вкось.
Мне бы мельника встретить: он жил над рекой,
Ни о чем не тужил и ходил по дворам,
Он ходил – торговал нехорошей мукой,
Горьковатой, с песком пополам.
«Я так давно родился…»
Никого со мною нет.
На стене висит портрет.
По слепым глазам старухи
Ходят мухи,
мухи,
мухи.
– Хорошо ли, – говорю, —
Под стеклом в твоем раю?
По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:
– А тебе в твоем дому
Хорошо ли одному?
Дождь
Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студеная вода.
А я лежу на дне речном,
И если песню петь —
С травы начнем, песку зачерпнем
И губ не разомкнем.
Я так давно родился,
Что говорить не могу,
И город мне приснился
На каменном берегу.
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.
Я так давно родился,
Что если ты придешь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,
А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.
25 июня 1939 года
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,
Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —
Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты
Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону —
Зеленый слепок грозового гула.
А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всем подобный Актеону.
У ног моих он пал на полдороге.
Дождь в Тбилиси
И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить.
Я так любил домой прийти к рассвету
И в полчаса все вещи переставить,
Еще любил я белый подоконник,
Цветок и воду, и стакан граненый,
И небосвод голубизны зеленой,
И то, что я – поэт и беззаконник.
А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женщин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливый,
И завиток волос неповторимый,
И этот поцелуй неотвратимый.
Расставлено все в доме по-другому,
Июнь пришел, я не томлюсь по дому,
В котором жизнь меня терпенью учит,
И кровь моя мутится в день рожденья,
И тайная меня тревога мучит, —
Что сделал я с высокою судьбою,
О боже мой, что сделал я с собою!
«Ты, что бабочкой черной и белой…»
Мне твой город нерусский
Все еще незнаком, —
Клен под мелким дождем,
Переулок твой узкий,
Под холодным дождем
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулке твоем,
По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.
Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.
Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?
В переулке твоем
В этот час непогожий
Я – случайный прохожий
Под холодным дождем,
В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то странно похожий.
«С утра я тебя дожидался вчера…»
Ты, что бабочкой черной и белой,
Не по-нашему дико и смело
И в мое залетела жилье,
Не колдуй надо мною, не делай
Горше горького сердце мое.
Чернота, окрыленная светом,
Та же черная верность обетам
И платок, ниспадающий с плеч.
А еще в трепетании этом
Тот же яд и нерусская речь.
Ялик
С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придешь,
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник! И я выходил без пальто.
Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.
Ни словом унять, ни платком утереть…
Звездный каталог
Что ты бродишь, глазной хрусталик?
Хоть бы сам себя поберег.
Не качается лодочка-ялик,
Не взлетает птица-нырок.
Камыши полосы прибрежной
Достаются на краткий срок.
Что ты бродишь, неосторожный,
Вдалеке от больших дорог?
Все, что свято, все, что крылато,
Все, что пело мне: «Добрый путь!» —
Меркнет в желтом огне заката.
Как ты смел туда заглянуть?
Там ребенок пел загорелый,
Не хотел возвращаться домой,
И качался ялик твой белый
С голубым флажком над кормой.
Цейский ледник
До сих пор мне было невдомек —
Для чего мне звездный каталог?
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов,
Десять миллионов номеров
Телефонов марев и миров,
Полный свод свеченья и мерцанья,
Список абонентов мирозданья.
Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон ее найду,
Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:
– А-13-40-25.
Я не знаю, где тебя искать.
Запоет мембрана телефона:
– Отвечает альфа Ориона.
Я в дороге, я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.
Я звезда – денницына сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет.
Позвони мне через триста лет.
Сверчок
Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.
Здесь хранит сама природа
Явный след былых времен —
Девятнадцатого года
Очистительный озон.
А внизу из труб Садона
Сизый тянется дымок,
Чтоб меня во время óно
Этот холод не увлек.
Там над крышами, как сетка,
Дождик дышит и дрожит,
И по нитке вагонетка
Черной бусиной бежит.
Я присутствую при встрече
Двух времен и двух высот,
И колючий снег на плечи
Старый Цее мне кладет.
Если правду сказать,
я по крови – домашний сверчок,
Заповедную песню
пою над печною золой,
И один для меня
приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
приготовит шесток золотой.
Путешественник вспомнит
мой голос в далеком краю,
Даже если меня
променяет на знойных цикад.
Сам не знаю, кто выстругал
бедную скрипку мою,
Знаю только, что песнями
я, как цикада, богат.
Сколько русских согласных
в полночном моем языке,
Сколько я поговорок
сложил в коробок лубяной,
Чтобы шарили дети
в моем лубяном коробке,
В старой скрипке запечной
с единственной медной струной.
Ты не слышишь меня,
голос мой – как часы за стеной,
А прислушайся только —
и я поведу за собой,
Я весь дом подыму:
просыпайтесь, я сторож ночной!
И заречье твое
отзовется сигнальной трубой.
Перед снегом
1941–1962
I
Рассчитанный на одного, как номер
Гостиницы – с одним окном, с одной
Кроватью и одним столом, я жил
На белом свете, и моя душа
Привыкла к телу моему. Бывало,
В окно посмотрит, полежит в постели,
К столу присядет – и скрипит пером,
Творя свою нехитрую работу.
А за окном ходили горожане,
Грузовики трубили, дождь шумел,
Посвистывали милиционеры,
Всходило солнце – наступало утро,
Всходили звезды – наступала ночь,
И небо то светлело, то темнело.
И город полюбил я, как приезжий,
И полон был счастливых впечатлений,
Я новое любил за новизну,
А повседневное – за повседневность,
И так как этот мир четырехмерен,
Мне будущее приходилось впору.
Но кончилось мое уединенье,
В пятнадцатирублевый номер мой
Еще один вселился постоялец,
И новая душа плодиться стала,
Как хромосома на стекле предметном.
Я собственной томился теснотой,
Хотя и раздвигался, будто город,
И слободами громоздился.
Я
Мост перекинул через речку.
Мне
Рабочих не хватало. Мы пылили
Цементом, грохотали кирпичом
И кожу бугорчатую земли
Бульдозерами до костей сдирали.
Хвала тому, кто потерял себя!
Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!
Хвала тебе, благословенный тензор,
Хвала тебе, иных времен язык!
Сто лет пройдет – нам не понять его,
Я перед ним из «Слова о полку»,
Лежу себе, побитый татарвой:
Нас тысяча на берегу Каялы,
Копье торчит в траве,
а на копье
Степной орел седые перья чистит.
Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.
Надежная старая стать
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукояти,
Буханку бы хлебную дать,
Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы, —
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями вросли.
Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипел материк.
Стихи мои, птенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!
Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.
Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,
И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый,
И как пророк заговорил.
Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка – слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку,
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.
Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.
Трава – под конскою подковой,
Душа – в коробке костяной,
И только слово, только слово
В степи маячит под луной.
Почиет степь, как неживая,
И на курганах валуны
Лежат – цари сторожевые,
Опившись оловом луны.
Последним умирает слово.
Но небо движется, пока
Сверло воды проходит снова
Сквозь жесткий щит материка.
Дохнет репейника десница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло.
И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням,
Любовный бред самосознанья
Вдохнет, как душу, в корни трав,
Трепещущие их названья
Еще во сне пересоздав.
Werde der du bist…
Гёте
Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны
И все и всех найдешь в порядке.
А ты – как ряженый на святки —
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, —
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.
Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.
Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.
Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.
Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Странным светится огнем,
Бьется жилка, вьется живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.
Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт,
И когда пути другого
У тебя на свете нет,
Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!
Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.
Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.
Начинается новая жизнь для меня,
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.
Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей,
И уже, наконец, над собою стою,
Отделяю постылую душу мою,
В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя – на него.
Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,
Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!
Я читаю страницы неписаных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,
Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не умею сберечь,
Потому что сосудом скудельным я был
И не знаю, зачем сам себя я разбил.
Больше сферы подвижной в руке не держу
И ни слова без слова я вам не скажу.
А когда-то во мне находили слова
Люди, рыбы и камни, листва и трава.








