Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы
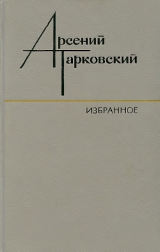
Текст книги "Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы"
Автор книги: Ованес Туманян
Соавторы: Григол Абашидзе,Владимир Каминер,Адам Бернард Мицкевич,Галактион Табидзе,Арсений Тарковский,Важа Пшавела,Ираклий Абашидзе,Михаил Квливидзе,Амо Сагиян,Ованес Шираз
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.
Где свистуны свистели
И щелкал щелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.
Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.
А все-таки уставлю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставлю
Навек или на час,
Оставлю в каждом звуке
И в каждой запятой
Натруженные руки
И трезвый опыт свой.
Вот почему без страха
Смотрю себе вперед,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берет.
Далеко, далеко, за полсвета
От родимых долгот и широт,
Допотопное чудище это
У меня на окошке живет.
Что ему до воклюзского лавра
И персидских мучительниц-роз,
Если он под пятой бронтозавра
Ластовидной листвою оброс?
Терпеливый приемыш чужбины,
Доживая стотысячный век,
Гонит он из тугой сердцевины
Восковой криворукий побег.
Жажда жизни кору пробивала, —
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.
Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна Д’Арк,
Какие голоса тогда поют!
И управлять я научился ими:
То флейты вызываю, то фаготы,
То арфы. Иногда я просыпаюсь,
А все уже давным-давно звучит,
И кажется – финал не за горами.
Привет тебе, высокий ствол и ветви
Упругие, с листвой зелено-ржавой,
Таинственное дерево, откуда
Ко мне слетает птица первой ноты.
Но стоит взяться мне за карандаш,
Чтоб записать словами гул литавров,
Охотничьи сигналы духовых,
Весенние размытые порывы
Смычков, – я понимаю, что со мной:
Душа к губам прикладывает палец —
Молчи! Молчи!
И все, чем смерть жива
И жизнь сложна, приобретает новый,
Прозрачный, очевидный, как стекло,
Внезапный смысл. И я молчу, но я
Весь без остатка, весь как есть – в раструбе
Воронки, полной утреннего шума.
Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.
Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!
Пусть коронован твой король, – какая
Заслуга в том? Шумит волшебный дуб,
И что-то голос говорит, а ты
Огнем горишь в рубахе не до росту.
Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели.
А разве я не хорошо горю
И разве равнодушием корю
Вас, для кого я столько жил на свете,
Трава и звезды, бабочки и дети?
Мне шапку бы и пред тобою снять,
Мой город —
весь как нотная тетрадь,
Еще не тронутая вдохновеньем,
Пока июль по каменным ступеням
Литаврами не катится к реке,
Пока перо не прикипит к руке…
Когда я вечную разлуку
Хлебну, как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.
Постой у смертного порога
До темноты, как луч дневной,
Побудь со мной еще немного
Хоть в трех аршинах надо мной.
Ужасный рот царицы Коры
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.
Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных.
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я не царь, я из другой семьи.
Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту.
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.
Я плоть от вашей плоти, высота
Всех гор земных и глубина морская.
Как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота.
Даже песня дается недаром,
И уж если намучились мы,
То какими дрожжами и жаром
Здесь когда-то вздымало холмы?
А холмам на широкую спину,
Как в седло, посадили кремли
И с ячменных полей десятину
В добрый Пильзен варить повезли.
Расцветай же, как лучшая роза
В наилучшем трехмерном плену,
Дорогая житейская проза,
Воспитавшая эту страну.
Пойте, честные чешские птицы,
Пойте, птицы, пока по холмам
Бродит грузный и розоволицый
Старый Гёте, столь преданный вам.
Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.
Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведет
Свои насекомые ноты.
Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель —
На каждого по сто спиралей.
И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.
– Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!
Слова Секки
Здесь, в Риме, после долгого изгнанья,
Седой, полуслепой, полуживой,
Один среди небесного сиянья,
Стоит он с непокрытой головой.
Дыханье Рима – как сухие травы.
Привет тебе, последняя ступень!
Судьба лукава, и цари не правы,
А все-таки настал и этот день.
От мерцовского экваториала
Он старых рук не властен оторвать;
Урания не станет, как бывало,
В пустынной этой башне пировать.
Глотая горький воздух, гладит Секки
Давным-давно не чищенную медь.
– Прекрасный друг, расстанемся навеки,
Дай мне теперь спокойно умереть.
Он сходит по ступеням обветшалым
К небытию, во прах, на Страшный суд,
И ласточки над экваториалом,
Как вестницы забвения, снуют.
Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.
Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,
За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.
Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис.
Лимонный крон и темно-голубое, —
Без них не стал бы я самим собою;
Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч,
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,
Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.
Пиликает скрипка, гудит барабан,
И флейта свистит по-эльзасски,
На сцену въезжает картонный рыдван
С раскрашенной куклой из сказки.
Оттуда ее вынимает партнер,
Под ляжку подставив ей руку,
И тащит силком на гостиничный двор
К пиратам на верную муку.
Те точат кинжалы, и крутят усы,
И топают в такт каблуками,
Карманные враз вынимают часы
И дико сверкают белками, —
Мол, резать пора! Но в клубничном трико,
В своем лебедином крахмале,
Над рампою прима взлетает легко,
И что-то вибрирует в зале.
Сценической чуши магический ток
Находит, как свист соловьиный,
И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.
И весь этот пот, этот грим, этот клей,
Смущавшие вкус твой и чувства,
Уже завладели душою твоей.
Так что же такое искусство?
Наверное, будет угадана связь
Меж сценой и Дантовым адом,
Иначе откуда бы площадь взялась
Со всей этой шушерой рядом?
Это не мы, это они – ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, – это они!
Кровь, как булыжник, торчит из щербатого горла,
И невозможно пресытиться жизнью, когда
В дыхало льву пернатые вогнаны сверла,
В рабьих ноздрях – жесткий уксус царева суда.
Я проклинаю тиару Шамшиадада,
Я клинописной хвалы не пишу все равно,
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.
Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней,
Чтобы заполнить глотающий кости провал.
В башенном городе у ассирийцев на тризне
Я хорошо бы с казненными попировал.
Я проклинаю подошвы царских сандалий.
Кто я – лев или раб, чтобы мышцы мои
Без воздаянья в соленую землю втоптали
Прямоугольные каменные муравьи?
Шах с бараньей мордой – на троне.
Самарканд – на шахской ладони.
У подножья – лиса в чалме
С тысячью двустиший в уме.
Розы сахариной породы,
Соловьиная пахлава,
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Полуголый палач в застенке
Воду пьет и таращит зенки.
Все равно. Мертвеца в рядно
Зашивают, пока темно.
Спи без просыпу, царь природы,
Где твой меч и твои права?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Да пребудет роза редифом,
Да царит над голодным тифом
И соленой паршой степей
Лунный выкормыш – соловей.
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Зазубрил ли ты, переводчик,
Арифметику парных строчек?
Каково тебе по песку
Волочить старуху-тоску?
Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Порой по улице бредешь —
Нахлынет вдруг невесть откуда
И по спине пройдет, как дрожь,
Бессмысленная жажда чуда.
Не то чтоб встал кентавр какой
У магазина под часами,
Не то чтоб на Серпуховской
Открылось море с парусами,
Не то чтоб захотеть – и ввысь
Кометой взвиться над Москвою,
Иль хоть по улице пройтись
На полвершка над мостовою.
Когда комета не взвилась,
И это назовешь удачей.
Жаль: у пространств иная связь,
И времена живут иначе.
На белом свете чуда нет,
Есть только ожиданье чуда.
На том и держится поэт,
Что эта жажда ниоткуда.
Она ждала тебя сто лет,
Под фонарем изнемогая…
Ты ею дорожи, поэт,
Она – твоя Серпуховская,
Твой город, и твоя земля,
И невзлетевшая комета,
И даже парус корабля,
Сто лет как сгинувший со света.
Затем и на земле живем,
Работаем и узнаем
Друг друга по ее приметам,
Что ей придется стать стихом,
Когда и ты рожден поэтом.
Памяти Н. А. Заболоцкого
За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.
Листва, трава – все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.
Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,
И в сумерках, нависших как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.
Венков еловых птичьи лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них,
Туда, к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.
Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.
Заката огненное веко
Не может в небе догореть.
Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.
Над полосою отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В средине ночи на реке.
И в желтом колыбельном свете
У мирозданья на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.
Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.
И осторожно, как художник,
Следит проезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.
II
Когда б на роду мне написано было
Лежать в колыбели богов,
Меня бы небесная мамка вспоила
Святым молоком облаков,
И стал бы я богом ручья или сада,
Стерег бы хлеба и гроба, —
Но я человек, мне бессмертья не надо:
Страшна неземная судьба.
Спасибо, что губ не свела мне улыбка
Над солью и желчью земной.
Ну что же, прощай, олимпийская скрипка,
Не смейся, не пой надо мной.
Кто может умереть – умрет,
Кто выживет – бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.
На предпоследнюю войну
Бок ó бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!
Счастливец, кто переживет
Друзей и подвиг свой военный,
Залечит раны и пойдет
В последний бой со всей вселенной.
И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
И эта жизнь – плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.
Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.
Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.
Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».
Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,
И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,
И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,
И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.
Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.
Я говорю – не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,
Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.
И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.
Я все забыл. В окне еще светло
И накрест не заклеено стекло.
Кони ржут за Сулою…
«Слово о полку Игореве»
Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!
Ты для новобрачного – свадебная скатерть,
Для младенца – колыбель, для юного – хмель,
Для скитальца – посох, пристань и постель,
Для пахаря – поле, для рыбаря – море,
Для друга – надежда, для недруга – горе,
Для кормщика – парус, для воина – меч,
Для книжника – книга, для пророка – речь,
Для молотобойца – молот и сила,
Для живых – отцовский кров, для мертвых – могила,
Для сердца сыновьего – негасимый свет.
Нет тебя прекрасней и желанней нет.
Разве даром уголь твоего глагола
Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола?
Разве горький Игорь, смертью смерть поправ,
Твой не красил кровью бебряный рукав?
Разве киноварный плащ с плеча Рублева
На ветру широком не полощет снова?
Как душе – дыханье, руке – рукоять.
Хоть бы в пропасть кинуться – тебя отстоять.
Тебе не наскучило каждому сниться,
Кто с князем твоим горевал на войне,
О чем же ты плачешь, княгиня зегзица,
О чем ты поешь на кремлевской стене?
Твой Игорь не умер в плену от печали,
Погоне назло доконал он коня,
А как мы рубились на темной Каяле,
Твой князь на Каяле оставил меня.
И впору бы мне тетивой удавиться,
У каменной бабы воды попросить.
О том ли в Путивле кукуешь, зегзица,
Что некому раны мои остудить?
Так долго я спал, что по русские очи
С каленым железом пришла татарва,
А смерть твоего кукованья короче,
От крови моей почернела трава.
Спасибо тебе, что стонала и пела.
Я ветром иду по горячей золе,
А ты разнеси мое смертное тело
На сизом крыле по родимой земле.
Вытрет губы, наденет шинель
И, не глядя, жену поцелует.
А на улице ветер лютует,
Он из сердца повыдует хмель.
И потянется в город обоз,
Не добудешь ста грамм по дороге,
Только ветер бросается в ноги
И глаза обжигает до слез.
Был колхозником – станешь бойцом.
Пусть о родине, вольной и древней,
Мало песен сложили в деревне —
Выйдешь в поле, и дело с концом.
А на выезде плачет жена,
Причитая и руки ломая,
Словно черные кони Мамая
Где-то близко, как в те времена,
Мчатся, снежную пыль подымая,
Ветер бьет, и звенят стремена.
Чего ты не делала только,
чтоб видеться тайно со мною…
Тебе не сиделось, должно быть,
за Камой, в дому невысоком,
Ты пóд ноги стлалась травою,
уж так шелестела весною,
Что боязно было: шагнешь —
и заденешь тебя ненароком.
Кукушкой в лесу притаилась
и так куковала, что люди
Завидовать стали: ну вот,
Ярославна твоя прилетела!
И если я бабочку видел,
когда и подумать о чуде
Безумием было, я знал:
ты взглянуть на меня захотела.
А эти павлиньи глазкú —
там лазори по капельке было
На каждом крыле – и светились…
Я, может быть, сó свету сгину,
А ты не покинешь меня,
и твоя чудотворная сила
Травою оденет, цветами подарит
и камень, и глину.
И если к земле присмотреться,
чешуйки все в радугах. Надо
Ослепнуть, чтоб имя твое
не прочесть на ступеньках и сводах
Хорóм этих нежно-зеленых.
Вот верности женской засада:
Ты зá ночь построила город
и мне приготовила отдых.
А ива, что ты посадила
в краю, где вовек не бывала?
Тебе до рожденья могли
терпеливые ветви присниться,
Качалась она, подрастая,
и соки земли принимала.
За ивой твоей довелось мне,
за ивой от смерти укрыться.
С тех пор не дивлюсь я, что гибель
обходит меня стороною:
Я должен ладью отыскать,
плыть и плыть и, замучась, причалить,
Увидеть такою тебя,
чтобы вечно была ты со мною,
И крыл твоих, глаз твоих,
рук – никогда не печалить,
Приснись мне, приснись мне, приснись,
приснись мне еще хоть однажды.
Война меня потчует солью,
а ты этой соли не трогай,
Нет горечи горше, и горло мое
пересохло от жажды,
Дай пить, напои меня, дай мне воды
хоть глоток, хоть немного.
Не пожалела на дорогу соли,
Так насолила, что свела с ума.
Горишь, святая камская зима,
А я живу один, как ветер в поле.
Скупишься, мать, дала бы хлеба, что ли.
Полны ядреным снегом закрома,
Бери да ешь. Тяжка моя сума;
Полпуда горя и ломоть недоли.
Я ноги отморожу на ветру,
Я беженец, я никому не нужен,
Тебе-то все равно, а я умру.
Что делать мне среди твоих жемчужин
И кованного стужей серебра
На черной Каме, ночью, без костра?
С чемоданчиком картонным,
Ластоногий, в котелке,
По каким-то там перронам,
С гнутой тросточкой в руке,
Сумасшедший, безответный,
Бедный житель городской,
Одержимый безбилетной,
Неприкаянной тоской.
Не из Лодзи, так из Львова,
Не в Казань, так на Уфу.
Это ж казнь, даю вам слово,
Без фуфайки, на фу фу!
Колос недожатой нивы
Под сверкающим серпом.
Третьи сутки жгут архивы
В этом городе чужом.
А в вагонах – наркоматы,
Места нет живой душе,
Госпитальные халаты
И японский атташе.
Часовой стоит на страже,
Начинается пальба,
И на город черной пряжей
Опускается судьба.
Чудом сузилась жилетка,
Пахнет снегом и огнем,
И полна грудная клетка
Царским траурным вином.
Привкус меди, смерти, тлена
У него на языке,
Будто царь царей из плена
К небесам воззвал в тоске.
На полу лежит в теплушке
Без подушки, без пальто
Побирушка без полушки,
Странник, беженец, никто.
Он стоит над стылой Камой.
Спит во гробе город Львов.
Страждет сын печали, самый
Нищий из ее сынов.
Ел бы хлеб, да нету соли,
Ел бы соль, да хлеба нет.
Снег растает в чистом поле.
Порастет полынью след.
Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать, —
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.
Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,
У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.
Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая
Ничего не хотеть —
Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой, —
Но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.
Ехал из Брянска в теплушке слепой,
Ехал домой со своею судьбой.
Что-то ему говорила она.
Только и слов – слепота и война.
Мол, хорошо, что незряч да убог,
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог.
Немец не тронул, на что ты ему?
Дай-ка на плечи надену суму,
Ту ли худую, пустую суму,
Дай-ка я веки тебе подыму.
Ехал слепой со своею судьбой,
Даром что слеп, а доволен собой.
Мы крепко связаны разладом,
Столетья нас не развели.
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом
В текучем словаре земли.
Держась бок ó бок, как слепые,
Руководимые судьбой,
В бессмертном словаре России
Мы оба смертники с тобой.
У русской песни есть обычай
По капле брать у крови в долг
И стать твоей ночной добычей.
На то и волхв, на то и волк.
Снег, как на бойне, пахнет сладко,
И ни звезды над степью нет.
Да и тебе, старик, свинчаткой
Еще перешибут хребет.
Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем,
Штыком вы отрезали лучшую треть.
Мы намертво знаем, за что умираем, —
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам – за ворованный хлеб умереть.
На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи.
Так вот что мне с детства так горько знакомо:
Видение цезарианского Рима —
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма…
А ты, мое сердце, и это стерпи.
Стояла батарея за этим вот холмом,
Нам ничего не слышно, а здесь остался гром,
Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,
И в воздухе морозном остались взмахи рук.
Ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.
Сегодня снова, снова убитые встают.
Сейчас они услышат, как снегири поют.
Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.
Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.
В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.
Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.
Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.
А потом
И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.








