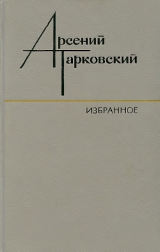
Текст книги "Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы"
Автор книги: Ованес Туманян
Соавторы: Григол Абашидзе,Владимир Каминер,Адам Бернард Мицкевич,Галактион Табидзе,Арсений Тарковский,Важа Пшавела,Ираклий Абашидзе,Михаил Квливидзе,Амо Сагиян,Ованес Шираз
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

Арсений Тарковский. Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы
Сергей Чупринин. Арсений Тарковский: Путь и мир
Когда в 1962 году вышла первая книга лирических стихов Арсения Тарковского «Перед снегом», имя ее автора было уже давно и широко известно знатокам многоязычной поэзии нашей страны. Тонкий и взыскательный переводчик, давший новую жизнь творениям крупнейших поэтов Средней Азии и Закавказья, прекрасному созданию каракалпакского эпоса «Сорок девушек», Арсений Тарковский по справедливости должен быть назван среди тех, кто создавал и совершенствовал традиции советской школы художественного перевода, много сделал для взаимопонимания братских народов, взаимообогащения их культур.
И все же только с появлением в печати оригинальных лирических и лиро-эпических произведений поэта стали вполне ясны масштабы дарования Арсения Тарковского, неповторимость и значительность его голоса, духовного и творческого опыта, роли и места в современной поэзии. За первым сборником, сразу же вызвавшим большой читательский интерес, привлекшим внимание критики, последовали книги «Земле – земное» (1966), «Вестник» (1971), «Стихотворения» (1974), «Волшебные горы» (1979), «Зимний день» (1980). За каждой строкой этих сборников угадывались мастерство зрелого художника, весомость его мыслей, сложность и своеобразие его внутреннего мира. От стихотворения к стихотворению, от книги к книге все яснее вырисовывался «портрет художника в зрелости», нравственный облик современника и деятельного участника нашей эпохи.
Казалось, что Тарковский так и пришел в литературу – сложившимся мастером, которому открыты и доступны все богатейшие возможности российского стиха. И только даты, обозначенные на титульных листах его книг (первая из дат – 1929 г.), свидетельствовали: перед читателем итог многолетнего творческого труда, напряженных идейно-философских и художественных исканий автора.
Поэзией, искусством Арсений Александрович Тарковский жил в буквальном смысле этого слова с раннего детства. Родившись в 1907 году в семье народовольца-восьмидесятника, долгие годы проведшего в якутской ссылке, он рос в высококультурной, прогрессивно настроенной среде. В Елизаветграде (ныне Кировоград), где прошли детство и отрочество будущего поэта, стихи писали едва ли не все его родные и близкие. Лирические, но чаще шуточные стихи «на случай» сочинял отец, владевший, как вспоминает ныне Арсений Александрович, семью европейскими и двумя древними языками. Не чужды поэзии были и мать, и товарищи-гимназисты, и друзья дома, знакомившие мальчика со стихами Пушкина и Лермонтова, Байрона и Баратынского, Тютчева, Фета, Некрасова, Случевского, навсегда привившие ему пылкую любовь к замечательному украинскому поэту и философу Григорию Сковороде, к великой русской поэзии XVIII века.
Пристрастие к литературе не оставило Тарковского и в пореволюционное время. С 1925 по 1929 год он учился на Высших государственных литературных курсах при Союзе поэтов, в 1924–1926 годах сочинял стихотворные фельетоны для газеты «Гудок», где в ту пору сотрудничала поистине блистательная плеяда литераторов: М. Булгаков, К. Паустовский, Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров и др., позднее работал на радио, заведовал литературным отделом научно-исследовательского радиоинститута. И постоянно писал стихи. Горячие, страстные, прочно связанные с классической традицией, они рождались и в дни мира, и в годы Великой Отечественной войны, когда гвардии капитан Тарковский работал в редакции газеты 16-й (затем 11-й гвардейской) армии – «Боевая тревога».
Размышляя впоследствии о том, что «служение поэзии родственно подвигу или и есть подвиг», Арсений Тарковский с покоряющей силой утверждал в своем творчестве мысль о пророческой, преображающей власти искусства, о великом призвании поэта, тысячью нитей связанного с жизнью, Родиной, с историей своего народа и всей отечественной и мировой культурой:
Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до листвы моей
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.
Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока
Течет по жилам – боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эР и эЛь святого языка.
(«Словарь»)
И естественно, что одной из наиболее прямых, жизненно важных форм служения поэзии стала для Арсения Тарковского начавшаяся еще с 1932 года работа над переводами с восточных языков. «Почему восточных?» – спрашивает сегодня поэт самого себя. И отвечает: «Мне нравилось работать над чем-то, у чего не было ничего общего со мною. Но потом оказывалось, что общее все-таки было». Общим, если продолжить эту мысль, был взгляд на поэтическое творчество как дело всей жизни; общим было тяготение к сложнейшей нравственно-философской проблематике, передающей диалектику человеческого бытия в ее узловых моментах и конфликтах; общей, роднящей поэтов разных эпох и народов, была сосредоточенная, страстная любовь к художественному слову.
Сопоставляя сейчас оригинальные стихи Тарковского с его переводами, видишь, как много дали поэту десятилетия напряженного творческого «диалога» с иноязычными культурами, с литературными традициями арабских стран, Средней Азии, Закавказья. И дело здесь не только в специфически восточных мотивах, прихотливо вплетающихся в ткань размышлений и переживаний русского поэта, хотя и это тоже весьма существенно для правильного понимания эстетического кодекса и художественных пристрастий Тарковского. Важнее другое – удивительная «распахнутость» поэтической системы Тарковского, невольно заставляющая вспомнить об искони присущей русской литературе «всемирной отзывчивости», широта его духовного и творческого кругозора, умение обогатить современный русский стих тем ценным, что выработано десятилетиями и веками художественных исканий человечества.
Поразительно цельное в своей глубинной сути, поэтическое творчество Арсения Тарковского противится насильственному вычленению из него отдельных тем, мотивов и сюжетов. О чем бы ни говорил поэт, то обращаясь к воспоминаниям детства и отрочества, то подытоживая опыт, накопленный в дни мира и войны, то воскрешая в стихах облик минувших эпох, он неизменно ведет речь о главном – о смысле человеческого существования, о колоссальных духовно-созидательных задачах, решаемых обществом и культурой, о братском единении и согласии всех людей доброй воли.
Стихи о любви и природе, философские и лирические медитации очерчивают контуры художественного мира поэта, представляют нерасщепимый в своей целостности и диалектичности взгляд современного художника на действительность. Сила Тарковского не в «оперативности» отклика на злободневные проблемы и нужды, а в умении поставить злободневное в контекст «вечных» запросов личности и человеческого сообщества, соотнести явления и события текущего дня с общими принципами и завоеваниями отечественной и мировой культур. Поэт всегда видит «небо – в чашечке цветка», всегда доискивается до первопричин, до самой сути явлений, что и придает даже наиболее исповедальным, интимным его стихам масштабность, значимость авторитетного свидетельства «о времени и о себе».
Торжественно с забытой уже, казалось бы, нами величавостью и силой звучит голос Тарковского – художника и философа, распахивая дверь в просторный и ясный мир – мир больших страстей, глубоких, порою драматических переживаний:
Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проемы черные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми.
Но там
Взошли мои алмазные Плеяды.
(«Телец, Орион, Большой Пес»)
Это – Тарковский.
Это – его характерные интонации, им возведенный, незримый, но прочный мост к традициям ломоносовского, державинского века, его взгляд на мироздание.
Это – его движение стиха, своей мерной, одической поступью напоминающее поступь древних, блещущих металлом ратей…
Отношения, складывающиеся между поэтом и миром в лирике Арсения Тарковского, справедливо было бы – помня всю условность метафоры – назвать «средневековыми». Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина, Прекрасной Дамы рыцарских легенд и странствующего менестреля. Ни о какой взаимности, ни о каком равноправии и речи быть не может: слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы.
Природа, какой она предстает в стихах Тарковского, не требует от смертного сообразительности в разрешении ее загадок, не искушает стремлением постигнуть ее секреты, ибо тайна ее в принципе недоступна дерзким притязаниям разума. Природе нет нужды прибегать к помощи «демонов глухонемых», к переплясу молний, поражающему воображение, к устрашающему реву стихий, настигающих ослушника. Ей вполне достаточно возвести свои светлые чертоги, развернуть звездное полотнище, обворожить согласной музыкой небесных сфер, чтобы склонилась и самая непокорная голова, чтобы в памяти осталось одно только ломоносовское: «Открылась бездна звезд полна; //Звездам числа нет, бездне дна».
Вчитываясь в стихи Тарковского, не стоит помышлять ни о какой готовности природы к антропоморфизму, к приязненному или неприязненному ответу ее на человеческие страсти и переживания. В лучшем случае она милостиво подаст знак чуткой душе, чуть-чуть приоткроет волшебную завесу над своими сокровищами и дарами. И – верх благосклонности: природа позволит смертному отпраздновать его счастье как некий мистериальный акт, «как богоявленье», как трагическое и прекрасное приобщение к мировой тайне:
Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола…
(«Первые свидания»)
Но и праздник этот небывалый отпущен потому только, что у любящих нет будущего, они обречены. И даже в миг наивысшего торжества земной страсти им не дано забыть: такое возможно лишь в дни, «когда судьба по следу шла за нами, //Как сумасшедший с бритвою в руке».
С царственным величием внимая хвале и славе, мироздание и тут держит человека на почтительном расстоянии. Сокращение дистанции опасно для обеих сторон: а ну как примнится смертному грубый подмалевок на месте нерукотворного мерцанья; а ну как театральной бутафорией покажутся ему вдруг непостижимая красота и стройная гармония?.. И за самое-то малое, боязливое проникновение в тайну тайн, и за самую нечаянную фамильярность природа мстит человеку, как разгневанная Диана мстила Актеону, увидавшему ее без одежд, в прельстительной наготе простой купальщицы…
Мстит собственным совершенством, до которого не дотянуться человеку.
Мстит собственным бессмертием, жестоко напоминающим человеку о его смертности, о фатальной краткости его земного срока. Эта кара – всех кар страшней.
Неужто в в самом деле «…после сладчайшей из чаш – никуда?». Неужто единственное, что остается человеку на пороге небытия, это сказать:
Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,
Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!
(«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был…»)
Можно, конечно, сколько угодно благословлять от века заведенный порядок вещей, радоваться прощальным дарам мира. Но, как ни наполняй душу смирением, как ни приучай себя к стоицизму, не убережешься от горького, жалобного вздоха: «Я жизнь люблю и умереть боюсь».
Да и как уберечься, если действительно «Жизнь хороша, особенно в конце, //Хоть под дождем и без гроша в кармане, //Хоть в Судный день – с иголкою в гортани».
Вот и бьется душа в тисках между чувством собственной обреченности, надеждой на вечное бытие и роковой тревогой: «…Я не знаю, //В чем мое бессмертье…» Вот и казнится она невытравимой обидой на неумолимо действующие, снова и снова срабатывающие законы природы, на мироздание в конечном счете.
В который уж раз – то с лихорадочной поспешностью, то с мнимым спокойствием – просматриваются варианты ответа, предлагаемые многовековым опытом человечества; их немного, этих вариантов. Жизнь души в царстве теней, за чертой земного опыта? «Но я человек, мне бессмертья не надо: //Страшна неземная судьба». Такого бессмертья не надо, такой – запредельной, нездешней – судьбы не хочется; да и веры в нее, нездешнюю, нет. Значит, остается уповать на то, что после себя оставишь книгу, деревце, сына? Верно, оставишь, и успокоение, хотя бы относительное, это наверняка принесет, а вот как быть с утешением?.. Разве что принять вариант «Метаморфоз» Заболоцкого: «Как все меняется! Что было раньше птицей, //Теперь лежит написанной страницей; //Мысль некогда была простым цветком, //Поэма шествовала медленным быком; //А то, что было мною, то, быть может, //Опять растет и мир растений множит»?
Пусть и льнет чувство к этой сладкой версии непрекращающегося бытия, к необозримому миру «туманных превращений», мысль все равно слишком ценит себя, слишком горда собою, чтобы принимать на веру заблуждения чувства, его попытки утешиться хотя бы иллюзией или грезой. Мысль все обольщения, все соблазны отдаст за пугающую точность истины – это, в частности, утверждается в стихотворении «Могила поэта», где вернувшийся с похорон Заболоцкого автор понимает: «…Без всякого бессмертья, в грубой прозе //И наготе стояла смерть одна».
Вот и всё. Так что же, значит, смирись, гордый человек? Значит, удовольствуйся скромной долей, тебе отпущенной, и не сетуй понапрасну?
И тут – по чудодейственным законам творчества – логика поэзии побеждает логику рассудочных построений, переплавляет житейский опыт и житейскую мудрость в высоком и чистом пламени вдохновения. Грозно поют органные трубы в лирике Арсения Тарковского, приветствуя мир и человека гимном в честь вечной жизни, бессмертия, неоскудевающего бытия:
Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
(«Жизнь, жизнь»)
«Я бессмертен, пока я не умер…» – вот поэтическое кредо Арсения Тарковского, вот ядро его концепции времени, его собственное слово в традиционных и давнишних для мировой поэзии спорах о коренных проблемах бытия, о смысле человеческой жизни и назначении личности.
Да, человек смертен, соглашается поэт. Да, никому не дано перенести свою душу за грань физического небытия. Но пока человек жив, он вправе ощущать себя сверстником вечности, разомкнувшим границы времени и навстречу прошедшему, и навстречу грядущему. Человек и силен способностью духовное пространство собственной жизни расширять до бесконечности, своим личным опытом объемля опыт всей человеческой истории и культуры. Подобно тому как соприкосновение с Землею сообщало Антею непобедимость, культура и история, материализовавшиеся в Слове, сообщают поэту бессмертие, неподвластное жестокой воле природы, ибо это бессмертие повинуется иным, нежели физические, законам – законам духа.
Настоящее в этом смысле – не единственно возможная данность, а лишь тот перевал, с которого, куда ни глянь, открываются необозримые просторы времени. «Я связь миров, повсюду сущих, //Я крайня степень вещества; //Я средоточие живущих, //Черта начальна божества; //Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, //Я царь – я раб – я червь – я бог!» – так начал в русской поэзии эту традицию понимания человеческого удела Державин. «Я человек, я посредине мира, //За мною мириады инфузорий, //Передо мною мириады звезд. //Я между ними лег во весь свой рост – //Два берега связующее море, //Два космоса соединивший мост», – так продолжил традицию наш современник Арсений Тарковский.
Сверстнику вечности тесно в пределах земной биографии, одного своего непосредственного опыта. И посягает он не на ближние радости личной судьбы, а «на игрушки внука, //Хлеб правнука, праправнукову славу», твердо зная, что мечта эта лучше всякой машины времени, надежнее лукавых придумок фантастов перенесет его в любую эпоху, в любую область человеческого бытия и культуры.
Сказанное, впрочем, не вполне точно. Поэту вовсе нет надобности «переноситься», путешествовать во времени и в пространстве. Эпохи в его сознании сопряжены столь тесно, «взаимообменно», столь открыты друг другу, что диалог с Овидием, например, стоит ему ничуть не больших усилий, чем разговор со случайным собеседником в переделкинских аллеях. Мифическая царица Кора так же несомненна и жива в воображении Тарковского, как и вполне реальный итальянский астроном Анджело Секки, ибо и Кора, и Секки напрочно впечатаны в историю человеческой культуры, а значит – в миропонимание самого художника.
Вбирая весь доступный сознанию опыт истории и культуры, ежесекундно уверяясь в своей защищенности круговой порукой всех сгоревших и сгорающих во имя жизни, поэт по праву чувствует себя полномочным представителем человечества: «Я призван к жизни кровью всех рождений //И всех смертей…»
Здесь образ поэта, которому любо «с рифмовником бродить по белу свету //Наперекор стихиям и уму», вырастает в образ поэта, избранного и призванного для высшей доли. Скромное признание: «Если правду сказать, //Я по крови – домашний сверчок», – нимало не противоречит горделивому утверждению: «Сказать по правде, мы уста пространства //И времени…», а лишь создает характерное для лирики Тарковского напряжение меж двумя полюсами, так как и сверчок, если понадобится, способен на многое:
Ты не слышишь меня,
голос мой – как часы за стеной,
А прислушайся только —
и я поведу за собой,
Я весь дом подыму:
просыпайтесь, я сторож ночной!
И заречье твое
отзовется сигнальной трубой.
(«Сверчок»)
В этом – весь Тарковский. В споре смертности и бессмертия. В поединке смирения и дерзкого величия. В процессе стремительного высвобождения всех сил, заложенных в человеческой душе и дремлющих в ожидании урочного часа.
Когда же наступает этот час, поэт, ничтожный, казалось бы, перед лицом неумолимого миропорядка, навеки обреченный на вассальную от него зависимость и коленопреклоненность, порядку этому – бросает вызов. И помина больше нет об Актеоне. Забыт Антей. Новым героям суждено выступить теперь на авансцену поэтического театра Арсения Тарковского.
И главный среди них – Марсий. Нет, кажется, мифа, более близкого и дорогого Тарковскому, чем печальная история о фригийском силене, вздумавшем состязаться в искусстве с самим солнцеликим Аполлоном и жестоко поплатившемся за свою отвагу.
Марсием двигало высочайшее самомнение. Поэт у Тарковского движим высочайшим мнением о человеке, о его судьбе и предназначении. Движим обидой и болью за несправедливость тех законов мироздания, которыми человек осужден на смерть, одиночество, душевную дисгармонию. Движим уверенностью в том, что согласие человека и природы все-таки возможно.
Гордость, боль и надежда человеческая избирают поэта своим певцом, заступником и воителем, одаряя его тем единственным, но могущественным оружием, которого он достоин, – Речью, Голосом, Словом.
На стороне мудрой поэтической речи – память о тех легендарных временах, когда было «осиянно только слово средь земных тревог», когда «солнце останавливали словом, словом разрушали города». На стороне этой речи – круговая порука человечества, та от начала начал идущая традиция, которую и спустя «семь тысяч лет» подхватит новый поэт, ибо и он
…в смертный час попросит вдохновенья,
Чтобы успеть стихи досочинить:
– Еще одно дыханье и мгновенье!
Дай эту нить связать и раздвоить!
Ты помнишь рифмы влажное биенье?
(«Рифмы»)
Соперничающий с вечностью поэт чувствует в себе «народа безымянный гений» – тот самый гений, что «немую плоть предметов и явлений //Одушевлял, даруя имена». Именуя все – от былинки до космоса, – поэт волею слова творит новую, «вторую» реальность, напоминая, что «стихотворение – дитя жизни, но не копия ее». Именно эта вторая – духовная – реальность, множеством плоскостей соприкасающаяся с «внепоэтической» явью, властно перестраивает мироздание по человеческим законам – законам духа, поэзии и красоты.
В стихах Тарковского дело поэта – всегда подвиг поэта, ибо «слово только оболочка, //Пленка жребиев людских, //На тебя любая строчка //Точит нож в стихах твоих». Незримое, но неустранимое присутствие судьбы в каждом – даже случайном – слове и обогащает речь, пропитывая ее живой кровью, и становится источником трагедии, требуя «сполна платить судьбой //За паспортное сходство //Строки с самим собой».
Таков удел могучих, гордых натур, способных, по словам А. Блока, жить, лишь предъявляя «безмерные требования к жизни». Такова судьба поэта, который, в отличие от фригийца Марсия, сам казнит себя, сам вершит над собою строгий суд совести и чести, грудью встречая все зло земное, чтобы преобразовать его в ослепительный луч добра и истины.
Именно высокость целей, избранных поэтом, именно трагизм, неминуемо разрешающийся катарсисом, нравственным просветлением, приобщает лирические создания Арсения Тарковского к лучшим страницам отечественной поэзии от Ломоносова и Державина до Тютчева, Иннокентия Анненского, Ахматовой. Именно все это, вместе взятое, создает тот неповторимый, полнозвучный контекст, в свете которого прочитываются и самые «темные», «загадочные» из поздних стихов поэта, стихов, равно проникнутых утренней радостью «дышать и жить» и вечерней смутой: «По деревне ходит Каин, //Стекла бьет и на расчет, //Как работника хозяин, //Брата младшего зовет… //Я гляжу из-под ладони на тебя, судьба моя, //Не готовый к обороне, //Будто в Книге Бытия».
Напряженной философичностью, строгостью формы, где кованая пластика изобразительного решения помогает выявлению виртуозного музыкального «рисунка», отличаются, как правило, и переводы Арсения Тарковского, в лучших своих образцах вошедших в настоящее издание. И арабский поэт XI века Абу-ль-Аля аль-Маарри, и более близкие к нам по времени Махтумкули, Кемине, Молланепес, Саят-Нова, Григол Орбелиани, и поэты XX века предстают у Тарковского прежде всего как мыслители, щедро делящиеся с нами сокровищами исторического, культурного и духовного опыта своих народов.
Заслуги Арсения Александровича Тарковского в деле сближения разных народов и культур были по справедливости высоко оценены читателями и критикой, отмечены знаками общественного признания. К боевым наградам военного журналиста прибавились Государственные премии Каракалпакской АССР имени Бердаха (1967), Туркменской ССР имени Махтумкули (1971), орден Дружбы народов (1977). Ни возраст, ни интенсивная работа над оригинальными лирическими стихами не ослабляют сосредоточенного творческого внимания Тарковского к сокровищам мировой поэзии прошлого и к тому новому, что появляется в поэзии братских республик и должно в полный голос зазвучать на русском языке.
Знакомясь с переводами Тарковского, читатель, несомненно, почувствует первородную прелесть и своеобразие арабского, туркменского, грузинского или армянского стихосложения, мастерски передаваемые поэтом. В давнем споре о принципах переводческого искусства Тарковский неизменно стоит на позициях точного, «буквального» воспроизведения всех – ритмических, графических, интонационных – особенностей подлинника, избегая, насколько это возможно, модного «осовременивания», подгонки классических образцов к требованиям «нынешнего вкуса». В его переводах пряную, несколько саркастическую элегичность Абу-ль-Аля аль-Маарри не спутаешь с напористой, словно бег скакуна, повествовательной интонацией каракалпакского эпоса «Сорок девушек», так же как напряженную метафоричность Саят-Новы всегда отличишь от благородно-сдержанного лирического рисунка стихов Симона Чиковани.
Не соблазняясь поверхностной, стилизованной «экзотичностью» в передаче национального поэтического опыта, национальной образной системы и одновременно страшась того, что на его родном языке речь подлинника потеряет свои особые, неповторимые черты, Тарковский всегда придерживается чувства меры, подсказываемого великолепным знанием предмета и безупречным вкусом; он не соперничает с переводимым поэтом, как это иной раз случается, а помогает его новому рождению – на русском языке, в русской литературной традиции.
Сосредоточенное, самозабвенное углубление в мир подлинника еще и еще раз доказывает: сколь бы разными путями ни шли поэты разных эпох и народов, движутся они к единой для каждого честного и талантливого художника цели – к постановке и решению насущных гражданских, социальных задач, к разгадыванию великих тайн человеческой личности, к постижению вечных проблем жизни, смерти, бессмертия, любви, творчества.
Голоса великих поэтов, достойно представляющих свои народы и свои литературы в пантеоне мировой культуры, звучат в переводах Арсения Тарковского столь же современно, как и голос самого переводчика. Они и сегодня вмешиваются в споры о смысле человеческого существования, о предназначении искусства и сегодня властно воздействуют на формирование гражданской и творческой позиции наших современников. Как мы уже говорили, дело поэта, по убеждению Тарковского, сродни подвигу. Эту же мысль о подвиге, заключающемся в беззаветном служении истине, красоте, человечности мы находим, например, и у переведенного Тарковским армянского поэта Амо Сагияна:
Пускай меня согнет работа,
Годам забот не будет счета,
Но только бы в часы полета
Не тяжелеть, не тяжелеть.
И жить веками, жить веками,
Сшибаться грудь ó грудь с горами,
Дышать ветрами, встретить пламя,
Гореть, и крепнуть, и сгореть.
(«Так жить»)
И в оригинальных стихах и в переводах Арсения Тарковского явственно ощутима вся полнота его творческой и гражданской самоотдачи, стремление своим поэтическим – пророческим! – словом раздвинуть горизонты привычного мировосприятия, поведать людям знание о человеке – творящем и чудотворящем.
Поэту, с болью замечающему: «Меркнет зрение, сила моя – //Два незримых алмазных копья, //Глохнет слух, полный давнего грома //И дыхания отчего дома», – все дороже становятся воспоминания младенчества и отрочества. Все понятнее таинственная, словно бы из полутонов сотканная, библейская символика, несколько оттесняющая в сторону соблазнительно яркие, скульптурные образцы античных мифов. Все роднее, милее каждый миг из прожитых на белом свете, каждый миг, уводящий в дальнюю даль…
И как же теперь не собирать «всего, что напела мне птица, //Белый день наболтал, наморгала звезда, //Намигала вода, накислила кислица…»? Как не помянуть добрым и лукавым словом веселую проказницу Йоту из «поселковой повести» «Чудо со щеглом» и дни, когда «весна была, как Боттичелли, //И лиловата и смутна…»? Как не вглядеться сквозь слезы, туманящие взор: «Красный фонарик стоит на снегу, //Что-то я вспомнить его не могу»? Ведь только здесь, в этой прекрасной, исчезающей яви, можно осуществить себя с такой полнотой и несомненностью, когда не будет страшен путь «в аорту, неведомо чью, наугад», когда исполнится сказанное с торжественной, пророческой верою:
Я – свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.








