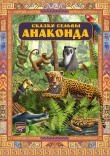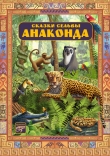Текст книги "Анаконда"
Автор книги: Орасио Кирога
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
VII
Ничольсон долго ходил по улицам, воскрешая в памяти все подробности своего последнего визита. Не отдавая себе отчета почему, он был недоволен собой, словно совершил большую подлость. Перед его глазами стояло осунувшееся лицо Софии, в тот момент когда она сказала ему все то, что он о ней думал. Неожиданная проницательность девушки поразила Ничольсона, овладела всем его существом, а слова Софии глубоко запали ему в душу, и это еще больше огорчило его. Он не считал ее способной на это… Это была не просто проницательность. Только одним можно было объяснить такой взлет заурядного ума, только одним: да, София любила его, и любила сильно…
И вновь ощущение совершенной подлости вызвало в нем глубокое недовольство собой. Напрасно Ничольсон повторял, желая успокоить себя: «Да, у нее действительно плоское лицо, она красится и ни на что больше не способна, как только шуршать шелками». Но слова эти не доходили до его сердца. Ему представлялось изменившееся лицо Софии, когда она высказывала его мнение о себе. Ну что ж, скоро конец, и к лучшему. Еще разок– другой ему придется зайти к де Сааведра, пока не приедет Ольмос. И он, Ольмос…
Сердце Ничольсона остановилось, он почувствовал внезапное головокружение. До сего момента Ничольсон не представлял себе со всей ясностью, что София будет женою другого. Да, Ольмос действительно очень скоро будет ее мужем…
Ничольсон ускорил шаг, стараясь думать о чем угодно, о разной мелочи: о своей поскрипывающей двери, об аэропланах Куртиса, о всевозможных марках сигарет, которые он видит изо дня в день…
Наконец он нанял извозчика и приказал везти себя в Палермо. Всю дорогу он терзался уверенностью, что ему никогда больше не удастся устроить свою собственную жизнь.
VIII
На следующее утро, пребывая все в том же подавленном настроении, Ничольсон получил телеграмму: «Ольмос тяжелом состоянии, тиф. Подготовьте семью».
Что-то вроде тяжелого кошмара, какого-то ужасного несчастья, из которого, кажется, нет выхода, душило Ничольсона. Ольмос умирает! Очевидно, он уже скончался! А как же София…
Страдания, которые он перенес за последние сутки, убедили его во всей бесплодности, недосягаемости и абсолютной невозможности почувствовать себя хотя бы на секунду счастливым, и это страшное сообщение было мучительным, как головокружение. «Ольмос тяжелом состоянии… тиф…» Ведь еще в письме он сообщал о своем недомогании, об отсутствии аппетита… И он умер… София! София!
Это был стон души мужчины, страдающего за любимую женщину, порыв счастья, какой испытываешь, пробудившись ото сна, во время которого было потеряно это счастье. София его! Она принадлежит ему! Ему!
Ничольсон нисколько не сомневался, что телеграмма была простым предупреждением. «Умер, умер!» – беспрестанно повторял Ничольсон, не находя и даже не пытаясь искать хотя бы малейшее сочувствие в своей душе… Этот человек обнимал, целовал его Софию… О нет! Теперь она принадлежит только ему, Ничольсону! Она его, его, его!
Тем не менее Ничольсон сел; он был слишком взволнован, чтобы сразу же отправиться к де Сааведра. Весь день он бесцельно ездил по городу, а когда поздним вечером вернулся домой, то нашел вторую телеграмму: «Известите семью де Сааведра кончине Ольмоса прошлой ночью».
Конец! Свершилось! Кошмар закончился. Да, этот день был тоже полон мучений для Ничольсона. Больше не будет ни писем, ни телеграмм из Европы! А там, на улице Родригэс Пенья живет она, только его, София!
Было девять часов вечера, когда Ничольсон приехал в дом де Сааведра. Не успело еще отзвучать эхо его шагов в пустом зале, как он услышал быстрые шаги сеньоры де Сааведра. Она вошла в зал, нервно жестикулируя. Лицо ее осунулось.
– Нет, видели ли вы что-нибудь более ужасное? – сеньора схватилась за голову. Она даже забыла поздороваться с Ничольсоном. – Полчаса назад мы получили телеграмму… И так неожиданно! Какое страшное известие! Вы уже знаете?.. Представляете, в каком мы теперь положении… Но как это могло случиться?
– От кого вы получили телеграмму? – прервал ее удивленный Ничольсон. – Я тоже только что получил телеграмму, где меня просили предупредить вас…
– Не знаю… откуда мне знать!.. Сабалия… что-то в этом роде… Должно быть, какой-нибудь приятель. Ах, если бы знал бедный Ольмос, как он нас огорчил!.. И к чему было оставаться там столько времени, спрашиваю я. Посмотрите теперь на бедную Чичу… ни с того ни с сего вдова, это почти смешно. Боже мой, за что ты нас так наказываешь! Поверьте мне, я очень любила Ольмоса, но вы сами понимаете, мы в таком нелепом положении!
Сеньора де Сааведра была глубоко раздосадована.
– Я задаю себе вопрос, что же теперь будет с моей дочерью? Она – вдова, представьте себе, и все из-за его конгрессов… О, это немыслимо! И вот, пожалуйте, она в слезах, хотя, правда, я еще не уверена, из-за бедного ли Ольмоса эти слезы… – добавила сеньора, пожимая плечами.
А Ничольсон уже горел нетерпением поскорее увидеть Софию.
– Скажите, София в отчаянии?
– Откуда я знаю!.. Она плачет… Хотите повидаться с нею? Побеседуйте с Софией, было бы хорошо, если бы вы поговорили с ней… Сейчас я пришлю ее.
Ничольсон остался один, и в течение пяти минут он только и думал о том, что теперь он, он один будет ее ждать, и через пять минут она будет с ним, через две минуты… через минуту…
Вошла София. Глаза ее были заплаканы, но было видно, что она только что привела в порядок свою прическу. София протянула ему руку, силясь улыбнуться, и села. Ничольсон ходил по комнате. Он был мрачен.
«Плакала, а не забыла поправить прическу», – думал он. Когда Ничольсон повернулся, София взглянула на него, силясь улыбнуться. И несмотря на то, что он тоже ответил ей улыбкой, на душе у него не стало легче. Девушка сидела неподвижно, время от времени проводя пальцами по ресницам. Затем она поднесла платок к глазам.
Ничольсон вдруг осознал всю свою несправедливость к ней. «Какой же я негодяй! – подумал он. – София поправила волосы, потому что любит тебя, потому что изо всех сил старается понравиться тебе, а ты еще…»
Потрясенный Ничольсон сел рядом с ней и нежно взял ее руку. София всхлипнула в ответ.
– София… Любовь моя, дорогая!
Рыдания усилились, а ее головка опустилась на плечо Ничольсона. Он хорошо знал, что эти слезы не были теперь тем беспомощным плачем, как раньше, вызванным боязнью, что Ничольсон не любит ее больше.
– Жизнь моя! Моя, моя!
– Да, да… – шептала она, – твоя, твоя!
Слезы кончились, и счастливая улыбка озарила ее, еще мокрое от слез, лицо.
– Вот теперь моя! Моя невеста! Моя женушка!
– Мой муж! Мой любимый!
И когда вошла сеньора де Сааведра, у нее не оставалось уже никакого сомнения в том, что она уже давно подозревала.
– Мне и раньше казалось, что вы любите друг друга, По-иному это и не могло кончиться… Почему только мы вас раньше не знали, Ничольсон! Представьте себе, сколько теперь неудобств из-за этого! Если бы Ольмосу не пришло в голову перед отъездом просить руки моей дочери… Ну да ладно!.. Раз уж он умер, так не будем больше вспоминать о нем.
Ничольсон и София смотрели друг на друга и не слышали ни одного ее слова. Сеньоре де Сааведра пришлось повысить голос, чтобы напомнить им о том, что, кроме их двоих, в мире существует еще и многое другое.
Священный змей

В этих местах никто не слышал о теодолите. И когда люди увидели, как Говард устанавливает на земле какой-то подозрительный аппарат, смотрит в трубочки и привинчивает гайки, все решили, что он персона важная, а приборы его – с точки зрения крестьянской логики – настолько полезны, насколько с первого взгляда кажутся ни к чему не пригодными. Притом он являлся обладателем сантиметров, флажков и нивелиров. Все это придавало Конраду Говарду в глазах местных жителей почти дьявольскую силу.
Сюда, в район Парагвая, расположенный недалеко от бразильской границы, Говард приехал с тем, чтобы измерить участок земли, который его хозяин намеревался срочно продать. Участок этот был небольшим, но работа предстояла нелегкая, ибо весь он был покрыт непроходимыми лесами и оврагами, что значительно затрудняло нивелировку. Тем не менее Говард все организовал как нельзя лучше, и работа была в полном разгаре, когда с ним произошел необыкновенный случай.
В гуще сельвы, раскинувшейся от Вильи-Энкарнасион до низовий реки Амазонки, люди родятся и умирают, так ни разу в жизни и не выйдя из лесного полумрака. Лишь изредка в сельве попадаются прогалины протяженностью в восемь – десять гектаров, и местные жители спешат ими воспользоваться. Там они пасут своих коров, лошадей – и так, постепенно, возникает селение.
На одной из таких прогалин и расположился Говард. До конца зимы работа его шла успешно. Но начало лета выдалось таким сырым и душным, что весь лес гудел от обилия комаров и мошек. У Говарда не хватило сил противостоять им. К тому же работа не была неотложной, и землемер решил устроить себе двухнедельный отдых.
Ранчо Говарда находилось на вершине холма, западный склон которого вплотную подходил к сельве. На закате солнечные лучи окрашивали холм в золотистые тона, и воздух наполнялся такой прозрачной свежестью, что в один прекрасный день тридцативосьмилетний Говард вспомнил о проделках своего детства.
Бумажный змей! Что может быть прекраснее, чем запустить в предвечернее небо покачивающийся бочонок, волнующийся шар или неподвижную звездочку! Когда солнце заходит и стихает ветер, змей успокаивается. Хвост его повисает, а нитка описывает дугу. И там, высоко-высоко, едва заметно покачиваясь в воздухе, змей победоносно парит в небе нашего изобретательного детства.
В десять лет у Говарда лучше всего получалась звезда. Особенно ему удавалась форма: его змей действительно напоминал звезду и легко поднимался в воздух. Удавались ему и трещотки. Кому не известно, что для того, чтобы веревка не цеплялась за них, им следует придать особую форму. Помнится, он долго клеил и переклеивал трещотки, прежде чем добился успеха.
Удивительно живо представил себе Говард всю эту детскую технику, о которой ни разу не вспомнил, с тех пор как стал взрослым. И вот теперь вместе со своим помощником он срезал тростник и старательно заострил его концы, оставив почти нетронутой середину. «Змей, сломавшийся посредине, навсегда опозорит своего творца», – с детским опасением размышлял Говард.
И вот змей готов. Сначала мужчины смастерили два квадрата и наложили их один на другой так, чтобы получилась звезда. Среди вещей Говарда они нашли кусок красного шелка, которым обтянули каркас. За неимением бахромы от кашемировой шали, из которой принято делать хвосты, землемер смастерил его, по всем правилам Искусства, из одной штанины своих брюк. И, наконец, трещотки.
Змей запустили на следующий день. Это бесхитростное сооружение являло собой чудо устойчивости, тяги и взлета. Солнечные, лучи, проникая сквозь пунцовый шелк, окрашивали его в ярко-алый цвет. А когда Говард запустил змей, тот стремительно взмыл вверх, сопровождаемый легким гудением.
На другой день, когда змей парил высоко в небе, послышался отдаленный барабанный бой. Казалось, звуки эти сопровождали какую-то процессию: там-там-там… трататам…
Говард и его помощник в недоумении переглянулись.
– Что это?
– Не знаю, – ответил помощник, оглядываясь по сторонам. – Кажется, они идут сюда.
– Да, я вижу людей, – подтвердил Говард.
И в самом деле, по тропинке, ведущей к холму, двигалась процессия, впереди которой несли хоругвь.
– Они идут сюда… Что бы это могло значить? – спрашивал себя Говард.
Он слишком мало сталкивался с местными жителями, чтобы знать их обычаи.
Однако минуту спустя ему все стало ясно. Процессия подошла к его ранчо, и землемер получил возможность внимательно ее осмотреть.
Во главе процессии шел человек с барабаном – босой индеец с повязанным на груди платком. За ним следовала необычайно толстая негритянка с маленьким мулатиком на руках. Она несла эмблему. Это была настоящая хоругвь пунцового цвета, украшенная развевающимися по ветру лентами. На самом ее верху красовалась розочка из ажурной бумаги. За хоругвью следовала процессия: старуха с огромной сигарой во рту, мужчина с мешком за спиной, молоденькая девушка, еще один мужчина в брюках с поясом из грубого холста, еще одна женщина с грудным ребенком на руках, еще один мужчина, еще одна женщина с сигарой и негр.
Так выглядела свита, которая, как узнал впоследствии Говард, имела в тех местах немаловажное значение. Они несли божество, о чем свидетельствовала восковая голубка, завернутая в тряпку и привязанная к хоругви. Время от времени божество обходило район, неся исцеление его жителям. Чем лучше ему платили за услуги, тем большее счастье оно приносило.
– А барабан зачем? – поинтересовался Говард.
– Это их музыка, – пояснили ему.
Несмотря на то что у Говарда и его помощника было отличное здоровье, они радушно отнеслись к паллиативному вмешательству святого духа. Говарду вручили хоругвь, и он стоял, держа ее в руках, в то время как барабан выбивал свой причудливый аккомпанемент, а свита пела:
Божество в твой дом пришло,
тебе счастье принесло.
И пускай наш бог великий
ниспошлет тебе здоровье,
Божество тебя излечит,
тебе счастье обеспечит.
Будь же ты, сеньор наш, счастлив,
и твоя сеньора тоже.
Слава, слава, слава духу,
и сеньору, и сеньоре.
Пусть святое божество
ниспошлет вам много счастья.
И дальше в том же духе. И хотя у Говарда никакой сеньоры не было, песня звучала как обычно.
Несмотря на то что единственной целью процессии было приносить с собой счастье, Говард ясно видел, что все мысли и взоры людей были обращены к змею, которого держал в руках его помощник; таким образом, их раскрытые рты и хвалы были обращены прямо к звезде.
Никогда в жизни не видели они ничего подобного. Да это и не удивительно, ибо даже значительно южнее о змее не имеют ни малейшего представления. В конце концов Говарду пришлось спустить свой змей на землю и запустить его снова. Люди были вне себя от радостного изумления, но в глазах их светилась зависть, Наконец они ушли. Женщина, несшая хоругвь, привязала полученные два песо к шее голубки и, надо сказать, сделала это гораздо более тщательно, чем того требовало воплощение божества – ведь божество приносит здоровье и охраняет деньги.
Все шло бы своим чередом, если бы к концу следующего дня, в тот момент, когда Говард запускал свою звезду, на холме вновь не появилась процессия.
На этот раз Говард не на шутку испугался – именно в тот день ему слегка нездоровилось. Он уже собирался вежливо выпроводить незваных гостей, когда двое из них изложили ему свою просьбу: не мог ли он отдать им своего змея, чтобы сделать из него божество? Они хотели привязать к нему голубку, К тому же трещотки…
Процессия глупо улыбалась, заранее предвкушая радость обладания змеем. Казалось, откажи им в их просьбе, и они могли бы умереть с горя.
Превратить его змей в святой дух! Это обстоятельство представилось Говарду глубоко казуистическим. Правда, он был землекопом и творцом своего змея, но имел ли он право помешать этой, если ее можно так назвать, транссубстанции?
Он решил, что нет. В результате священное существо было вручено свите. Люди немедленно привязали голубку к звезде и подняли ее вверх на тростниковой палке, Поблагодарив Говарда, процессия гордо удалилась, сопровождаемая громким барабанным боем. Впереди нее с победоносным видом высился превращенный в божество змей Говарда с гудящими трещотками.
Это необычайное божество, с треском и хвостом, которое к тому же еще и летало – вернее, которое по-видимому когда-то летало, потому что никто не решался вернуть ему его былую функцию, – пользовалось несомненно самым большим успехом на сто лиг в округе.
Много раз видел Говард, как гордо проплывал его священный змей, сея вокруг себя добро. Он с удовольствием соорудил бы себе новую звезду, но какая-то религиозная предосторожность мешала ему сделать другой такой же змей.
И все же как-то раз один местный старик, работавший консультантом – в былые времена ему довелось работать в более цивилизованных странах, – дал понять Говарду, что, подарив людям змея, он посмеялся над ними.
– Никоим образом, – произнес в свое оправдание Говард.
– Да, никоим образом… Да, да, – задумчиво повторил старик, пытаясь вспомнить, что же означает это «никоим образом». Да так и не вспомнил.
Говард же спокойно закончил свои измерительные работы, ибо ни один человек не осмелился больше обращаться к нему, дабы не оказаться лицом к лицу с его непонятными ответами.
Сарай

Пожалуй, ни одно из человеческих чувств по глубине и всеобъемлющей силе своей не сравнится со страхом. Любовь и ярость, потрясающие душу человека, не имеют и крупицы той всепоглощающей силы, которая присуща страху, ибо страх по природе своей – самое непосредственное и самое жизненное чувство: он защищает жизнь. Инстинкт, логика, интуиция разом оживают в нас. Леденящий холод, противная расслабляющая тошнота, превращающая мышцы в безвольную мякоть, сознание неотвратимости чего-то ужасного – все это сразу говорит нам о том, что пришел страх, страх – и этого достаточно. Но, с другой стороны, страх, если удается преодолеть его первое проявление, рождает огромный прилив жизненной энергии. Отчаяние любовника или взрыв гнева вызывают крайнее напряжение сил, но, согласитесь, если приступ ярости или отчаяния способен заставить человека пробежать за десять секунд сто метров, то обыкновенный страх заставит его пробежать сто десять.
Так рассуждал Каррассале, когда мы заговорили на эту тему. Нас было четверо в пристанционном кафе: сам Каррассале, Фернандес – молодой парень с тронутым оспою лицом, мясистым носом и очень близко посаженными глазами, словно бусинки, блестевшими у переносицы; третьим был Эстардё – вечный студент при каком– то инженерном институте, который временами от нечего делать пропадал на бегах; четвертым был я.
Фернандес и Каррассале были едва знакомы. И хотя в рассуждениях Каррассале не было и тени того догматизма, который появился в моем пересказе от желания быть кратким, Фернандес посмотрел на него с веселой дерзостью, так свойственной юности.
– А вы что, пугливы? – спросил он.
– Думаю, что нет, не очень… Иногда и совсем нет, но порою, бывает, я чувствую это…
– Но не страх же?
– Нет, именно страх.
Всем известно, что те, кто действительно умеют любить и легко справляются со страхом, не похваляются этим. Но Фернандес был еще слишком молодым, чтобы ценить скромность, а с другой стороны, уже достаточно взрослым, чтобы сохранить искренность. Эстардё поддержал Каррассале.
– Мне тоже случалось испытывать страх. Я уж не говорю о том жутком страхе, который охватывает ребенка, когда даже в объятьях матери он чувствует себя, как в осажденной крепости, вокруг которой сжимается кольцо осады, – это случай особый. Но, по-моему, страх перед чем-то определенным гораздо меньше действует на разум, чем всякая чертовщина. Одно из самых сильных в моей жизни переживаний как раз подтверждает это. Во всяком случае…
– Нет, постойте, расскажите, как это было.
– Я бы предпочел вообще забыть об этом; ну да ладно, слушайте.
Вы знаете, я – уругваец. Из Сан-Эухенио, с севера. Я езжу туда – или, вернее, ездил – каждое лето. Там у меня живут тетка и две сестры, до сих пор еще одинокие. Теперь-то дом, наверное, перестроили, но тогда у него был жалкий вид. Комната, в которой я жил, находилась на отшибе, вдали от остальных. Знаете, деревенские дома строятся по какому-то странному принципу – кухня, например, оказывается затерянной где-нибудь в глубине дома.
Так как обычно возвращался я домой поздно, а шаги мои легкостью никогда не отличались, я предпочитал ходить через пристройки, примыкавшие к жилой части дома. Таким образом, у меня был отдельный ход, и я никого не беспокоил. Мой дядя тоже иногда проходил там, осматривая перед сном свое хозяйство. Путь был довольно длинным. Сначала амбар, потом склад, мимо навеса, под которым стояли повозки, и наконец сарай, где хранились невыделанные шкуры.
Однажды я возвращался домой в час ночи. Я уж не буду рассказывать вам, как тихо по ночам в Сан-Эухенио, тем более в те времена. Была удивительная лунная ночь. В потемках прошел я через амбар и склад, потому что дорогу знал прекрасно. Но через сарай – совсем другое дело: висевшие там шкуры, случалось, падали, а крючья, за которые их подвешивали, царапали лицо, и это было не очень-то приятно.
Я открыл дверь, запер ее за собой и, как всегда, остановился, чтобы зажечь спичку. Но, едва вспыхнув, огонь тотчас же погас. Я замер, сердце у меня остановилось, Я ни на что не натыкался, рядом в темноте – пустота. Но у меня было четкое ощущение, будто огонь погасили, кто-то задул пламя.
Я заставил себя тихо повернуть голову налево, затем – направо, но ничего не разглядел – полная темнота, и только в глубине сарая, на уровне пола просачивались между досок тонкие лучи света. Однако огонь погасили: здесь, в сарае, кто-то был. Но кто и зачем? Усилием воли я заставил себя успокоиться и открыть коробок, чтобы снова зажечь огонь. Я уже почти чиркнул спичкой… А что, если ее опять задуют? Почти физически я ощутил, как холод, ужасный леденящий холод поползет у меня вверх по позвоночнику, если огонь снова погасят… И рука моя остановилась. Я подумал, что, может быть, здесь – передо мной, рядом со мной, позади меня – стоит кто-то, и в этой мрачной близости он уже приготовился снова задуть огонь, чтобы я его не увидел!
Я не выдержал и, подавив противную слабость, кинулся вперед наугад. Кажется, я коснулся рукой чего-то похожего на крюк, наткнулся на что-то, поцарапал лицо… И наконец, пробежав метров двадцать, показавшиеся мне в моем почти бредовом состоянии бесконечностью, добрался до противоположной двери и, выбравшись, судорожно вздохнул. Придя к себе, я принялся читать и читал до половины четвертого, настораживаясь при малейшем шуме. Это была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни…
– По крайней мере, – перебил его Каррассале, – переживания длились недолго.
– Как сказать. На следующую ночь моего дядю нашли мертвым – его убили ударом ножа у входа в сарай. Человек, подкарауливавший накануне дядю, и задул мою спичку, чтобы я его не заметил.