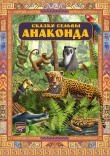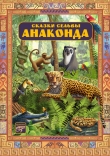Текст книги "Анаконда"
Автор книги: Орасио Кирога
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
II
В конце декабря «первак» – так называют первый рой пчеловоды – громко зажужжал на пасеке; возвращаясь из бананового сада, Кеан услышал шум издалека. Когда смотришь на большой рой, то сначала поражаешься, как столько пчел умещается в одном улье, а потом создается впечатление, что они будут роиться вечно. Бурный поток беглянок едва протискивался сквозь пятнадцатисантиметровую щель – так велик был рой. Кеан поспешно накачал воды в оросительный шланг и мелким дождичком осадил пчел на ветку мандаринового дерева.
Размеры роя внушали Кеану надежду, что улей больше не будет делиться. Однако через двенадцать дней на пасеке вновь раздалось призывное жужжание: «вторак», крутясь волчком, взмыл вверх и направился к лесу. Кеан помчался вдогонку; некоторое время он продирался сквозь чащу, не выпуская рой из виду, но наконец в изнеможении отстал, а пчелы продолжали свой танцующий полет над вершинами деревьев.
Когда пчелы роятся таким образом, не «привившись» предварительно гроздью на ветке дерева, это значит, что они летят к заранее разведанному дуплу. Подобное поведение никак не устраивало Кеана, и он напомнил своим компаньонкам взаимные обязательства сторон. В ответ пчелы дали ему понять, что подати медом они платят исправно, а на запрет роиться в договоре нет и намека.
Возражение было законным, и Кеану нечего было сказать. Однако он решил, если пчелы еще раз его прогневают, довести до их сведения непреложное отцовское право печься о здоровье сына, которое с уменьшением медовых запасов окажется под угрозой. А раз пчелы удирают, запасы неизбежно иссякнут.
И вот однажды, теплым февральским утром, оживленное жужжание пчел, их волнение и особая тревожная толчея подсказали Кеану, что очередной рой готовится к вылету. Кеан, недолго думая, смастерил так называемого «сторожа», чтобы помешать царице выбраться из улья. «Сторож» – это металлическая пластинка с дырочками, которые пропускают рабочих пчел, но задерживают более крупную матку. Простая, на первый взгляд, работа отняла у Кеана целый день, зато, когда стемнело, «сторож» был водворен у входа в улей.
Утро возвестило начало новых событий на пасеке. Кеан, бывший настороже, уселся с книгой в руках под мандариновым деревом; без четверти десять он увидел, как вылетел рой и, описывая в воздухе круги, стал удаляться, неистово жужжа. И хотя Кеан был уверен, что правильно выбрал диаметр отверстий, он на секунду усомнился в своем приборе. Вдруг, непонятно как, пчелы заметили, что царицы с ними нет. Кружение сразу замедлилось, и весь рой удрученный, вернулся в улей, чего и добивался Кеан. Испытывая все же легкие уколы совести, Кеан вечером открыл улей, желая лишний раз убедиться, что пчелам не тесно. Нет, улей не перенаселен: если в сотах заложено пятнадцать маточников, сулящих новые рои, то причиной тому – лихорадочная жажда странствий, которая порой овладевает пчелами и побуждает их роиться четыре, шесть и даже двенадцать раз подряд. Последний рой образуют в таких случаях одни молодые неплодные матки – сумасбродная авантюра лишенных трона принцесс, которые вернутся под вечер к родному дворцу и там будут уничтожены собственными кормилицами.
Кеан почувствовал искушение вырезать ячейки этих ненужных инфант, свергнутых с престола еще до рождения; но, зная, что при наличии «сторожа», – который помешает роению, а тем самым и выходу из ячеек новых маток, – царица сама загрызет возможных соперниц, он воздержался. К тому же на правом виске и на шее у него выступили мертвенно-бледные пятна. Только открыв улей, он уже заработал два укуса; что же будет, если руками, запятнанными цареубийством, он осквернит священные ячейки?
Остаток дня прошел спокойно. Кеан подстриг кокосовые пальмы, обстругал эвкалипты и наконец блаженно вздохнул, всеми порами впивая прохладу субтропической ночи.
На следующее утро, ровно через сутки, пчелы снова мощной струей забили из улья. Упорная воля к переселению опять побуждала их роиться, и живой шар вновь тщетно кружился в воздухе: рой не смог улететь без царицы.
Кеан приподнял было крышку улья, чтобы посмотреть, что там происходит, но пчелы тучей напали на него. Отбежав на несколько шагов, он еще раз попробовал усовестить своих компаньонок.
Пчелы в ответ прожужжали, что мед тысячу раз принадлежит Кеану, но на том его права и кончаются.
Так распалось и навеки угасло в ночи странное содружество, которое могло бы быть чудом согласия и мира…
III
Беда стряслась ровно в полдень, вскоре после второго завтрака. Доведенные до отчаяния проклятым решетом, не выпускавшим матку, пчелы убили ее. Кеан увидел на летке исколотый жалами трупик. Он предпочел бы не покидать пасеку, но ему необходимо было ненадолго отлучиться. Привязав лошадь к столбу проволочной изгороди, он ушел пешком, не имея времени проследить за тем, что творится в ульях.
До сих пор ничто не предвещало готовящегося нападения. Когда жена Кеана увидела среди пальм гневно жужжавших пчел, она не сочла это угрозой, но на всякий случай кликнула сынишку, который играл эвкалиптовыми семечками, и завезла под навес галереи коляску с грудной дочуркой.
Вдруг мальчик вскрикнул:
– Ай, мама!
Мать поспешила на крик. Не успела она сообразить, в чем дело, как раздался новый жалобный вопль ребенка, и в ту же минуту пчелы, немилосердно жаля, набросились на нее. Воздух потемнел от разъяренных полчищ. Закрывая руками искусанное лицо, Хулия побежала к сыну, который, истошно вопя, мчался ей навстречу.
Мать в отчаянии укрыла его у себя в юбках, но тут же услыхала, как зашлась плачем дочка.
– Боже мой! Малышка! Беги в столовую, сынок! – И, подтолкнув мальчика, бросилась к галерее.
Лица малютки не было видно под тучей облепивших его пчел. Мать, голося от ужаса, смахнула этот страшный пластырь и, выхватив девочку из коляски, вбежала с ней в столовую. Но обезумевшие от ярости пчелы неотступно следовали за ней. Хулии пришлось укрыться в своей комнате и вместе с сыном отчаянно звать на помощь. Наконец она услышала издалека искаженный го– л ос мужа:
– Хулия, слушай хорошенько! Не выходи! Дети с тобой?
– Да, в моей комнате. Поспеши, Кеан! Хулита умирает!
Кеан, сам весь искусанный, успел на бегу заметить, что лошадь повалилась на землю, выворотив проволочную изгородь. Во дворе было темным-темно от пчел, а черные вереницы все еще ползли из летков.
Кеан сразу убедился, что сын его вне опасности, несмотря на сильно искусанное лицо и руки. Но крохотная дочурка…
– Смотри, смотри, – убивалась жена, – она умирает, Кеан!
Тельце девочки не пострадало, но вместо лица был чудовищно распухший комок мяса: рот, нос и глаза слились в один мертвенно-бледный волдырь.
Когда Кеан приоткрыл дверь в столовую, туча пчел ринулась ему навстречу, впилась в лицо.
– В кровать, под полог от москитов! Обоих! Сама надень сетку! – закричал Кеан, схватил сомбреро с сеткой и опрометью выбежал из комнаты.
Он мигом приготовил большие повязки, намочил их в горячей воде и с ног до головы обернул малютку. Каждые десять минут он менял компрессы, но лишь спустя несколько часов супруги вздохнули с облегчением. Пульс восстановился, жар и опухоль спали.
Измученная Хулия начала тихонько всхлипывать.
– А я еще хотела по такой жаре оставить ее в одних пеленках! – Она улыбнулась мужу полными слез глазами. – Даже подумать страшно.
– Да, иной раз и от фланели прок бывает, – ответил шутливо Кеан, желая подбодрить жену. И, впервые поглядев друг на друга, оба невольно расхохотались. У Кеана левый глаз совсем закрылся, а на отекшем лице Хулии светились лишь узенькие щелочки.
– Теперь не грех и о взрослых подумать. Сделай примочки Эдуарде, хоть парень он у нас крепкий, да не забудь и себя. А я уж не отойду от Хулиты.
На заходе солнца Кеан улучил минутку и вышел поглядеть на лошадь. Она сдохла несколько часов назад: раздувшийся труп не оставлял сомнений в том, что животное погибло от пчелиного яда. Кеан окинул ульи холодным взором равнодушного прохожего. Под покровом сумерек взбесившиеся пчелы одна за другой возвращались на пасеку, изувеченные, обессиленные, утолив свою жажду смертоубийства. Десятка три их еще сидело на столбе проволочной изгороди, ожесточенно впиваясь в твердую древесину.
Кеан содрогнулся. Ему еще предстояло сказать жене, что дочь их, возможно, ослепнет.
– Если господь не сотворит чуда… – пробормотал он.
Сумерки сгущались; охваченный внезапной прохладой, Кеан сбросил сомбреро и в глубоком вздохе излил всю смертельную тревогу этого рокового дня, этого пчелиного наваждения, отнявшего у него лошадь и здоровье дочурки.
Пустыня

Каноэ скользило по реке, огибая лес или то, что во мраке могло сойти за лес. Скорее инстинктивно, нежели по приметам догадывался Суберкасо, что лес действительно близко; ибо тьма, казалось, превратилась в монолитную непроницаемую глыбу, которая начиналась у самых рук гребца и уходила в недосягаемую высоту. Человек довольно хорошо знал свою реку, чтобы иметь представление о том, где он плывет; но в такую ночь, да еще в ожидании дождя, пристать к берегу, покрытому сгнившим жнивьем и заросшим колючим бамбуком, было не так просто, как пришвартоваться к собственной маленькой пристани. К тому же Суберкасо был не один в лодке.
Стояла страшная духота. Нечем было дышать. И в это мгновенье о дно лодки отчетливо и звонко застучали первые капли.
Суберкасо поднял глаза и посмотрел на небо. Но напрасно он ожидал, что молния пробьет в нем брешь. По-прежнему не было слышно раскатов грома.
«Дождь зарядил на всю ночь», – подумал он. И, обернувшись к своим спутникам, молча сидевшим на корме, бросил:
– Наденьте плащи и держитесь крепче.
Теперь лодка продвигалась вперед, подминая под себя встречные ветки. И пару раз левое весло попадало под сучья, погрузившиеся в воду. Но даже рискуя сломать весло, Суберкасо продолжал плыть у самого берега, ибо, удались он от него на пять метров, он всю ночь мог бы кружить около своей пристани и не увидеть ее.
Огибая плавучий лес, гребец продвинулся еще немного. Дождь стал чаще, но шел он теперь с большими перерывами. Он прекращался неожиданно, словно его неизвестно из чего вылили. Потом опять начинали стучать одинокие, крупные и горячие капли, чтобы снова умолк– путь, спрятавшись в непроглядной тьме, растворившись в тяжелом, душном воздухе.
– Держитесь крепче, – повторил Суберкасо, обращаясь к своим двум спутникам. – Мы уже приехали.
В самом деле, он только что различил очертания пристани. Еще два сильных взмаха веслом – и лодку выбросило на прибрежную голубую глину. Пока он привязывал лодку к шесту, его молчаливые спутники выпрыгнули на землю, которую, несмотря на темноту, хорошо было видно из-за мириад светлячков, устилавших ее красными и зелеными огоньками.
Вверх по обрыву путники взбирались уже под проливным дождем, светилась мокрая глина. Затем тьма снова отделила их от всего мира, и во мраке они принялись искать свою двуколку.
Верна поговорка: «Ни зги не видно». В такие ночи после короткой вспышки зажженной спички одуряющий мрак становится еще гуще.
В конце концов они нашли двуколку, но куда-то пропала лошадь. Тогда, оставив у колеса, на страже, своих двух спутников, укрывшихся плащом, по которому барабанил дождь, Суберкасо с трудом добрался до конца лесной тропинки, где и нашел свою лошадь, запутавшуюся в постромках.
На все это у него ушло не более двадцати минут.
– Вы здесь, ребятки? – крикнул Суберкасо, чтобы сориентироваться, где двуколка, и услышал:
– Да, папа!..
Только теперь Суберкасо осознал до конца, что этой ночью с ним были его дети – пяти и шести лет. Их головки не доставали еще до втулки колеса… Прижавшись друг к другу под плащом, с которого струями сбегала вода, они спокойно ожидали возвращения отца.
Наконец, весело болтая, они вернулись домой. Позади остались минуты полные опасности и тревог, и голос Суберкасо изменился. Когда с детьми надо было обращаться словно со взрослыми, он говорил с ними совсем иначе. А теперь его голос стал на два тона ниже, и, услышав, какая нежность звучит в нем, никто бы не поверил, что этот человек еще полчаса назад говорил с малышами так сурово… Собственно, разговаривали и смеялись только Суберкасо и его дочка; мальчонка же – младший —* успел заснуть на коленях у отца.
Суберкасо обычно вставал на рассвете и, хотя при этом старался не шуметь, хорошо знал, что в соседней комнате его мальчик, такой же любитель вставать спозаранку, как он сам, уже лежит с открытыми глазами в ожидании, когда проснется отец. И тогда начиналась неизменная утренняя перекличка – из одной комнаты в другую.
– Доброе утро, папа!
– Доброе утро, дорогой сыночек!
– Доброе утро, любимый папуленька!
– Доброе утро, невинный ягненочек!
– Доброе утро, бесхвостый мышонок!
– Зверушечка мой!
– Папочка-таточка!
– Котеночек!
– Змейкин хвостик!
Так перекликались они еще некоторое время. Наконец, одевшись, вдвоем они шли под пальмы пить кофе. А девчушка спала как убитая до тех пор, пока солнечный луч, упав на лицо, не будил ее.
Суберкасо воспитывал детей, прививая им свои вкусы и привычки, и считал себя счастливейшим отцом на земле. Но это счастье далось ему ценой страданий, самых жестоких из всех, какие выпадают на долю женатого мужчины.
Несчастья, уму непостижимые по своей ужасной несправедливости, приходят внезапно… Суберкасо потерял жену. Он вдруг остался один с двумя крошками, которые почти не узнавали его, в доме, выстроенном им самим и убранном ею; в доме, где каждый гвоздь и каждый мазок кисти на стене остро напоминали о былом счастье.
На следующий день, случайно открыв гардероб, он почувствовал, каково это – увидеть вдруг белье уже похороненной жены и платье, которое она так и не успела обновить.
Испепеляя взглядом сухих глаз письма, написанные когда-то жене, которые она хранила с тех пор как стала его невестой, бережнее, чем городские наряды, Суберкасо сознавал, что если он хочет жить, то необходимо как можно скорее забыть о прошлом. И в тот же вечер он понял, как нелегко, ослабев от рыданий, удержать на руках ребенка, который рвется поиграть с мальчиком кухарки.
Тяжело, страшно тяжело… Но теперь Суберкасо играл и смеялся со своими малышами. Оба они составляли с ним одно целое. И это благодаря воспитанию, довольно любопытному, которое давал им отец.
Дети не боялись ни темноты, ни одиночества, ничего из того, что приводит в ужас малюток, выросших на коленях у матери. Не раз он возвращался с реки уже ночью; тогда дети сами зажигали «летучую мышь» и спокойно дожидались отца. А иногда они просыпались одни и слышали, как бьется о стекла разъяренная буря, но тут же засыпали снова, уверенные, что папа скоро вернется.
Они боялись только того, от чего отец предостерегал их: и в первую очередь змей. Свободные, пышущие здоровьем, брат и сестра смотрели на мир широко раскрытыми глазами счастливых малышей, и все-таки ни минуты они не могли обойтись без отца, Но если, уходя из дома, он предупреждал, чтоб ждали его тогда-то, дети, спокойные и веселые, принимались играть друг с другом. Бывали случаи, когда во время их совместных длительных походов в горы или к реке, Суберкасо вынужден был оставлять детей на несколько минут и даже часов. Тогда они сейчас же затевали игру и ожидали отца на том самом месте, где он их оставил, отвечая слепым и радостным послушанием на его доверие.
Без посторонней помощи они скакали верхом на лошади; мальчонка – с четырех лет. Как и все дети, выросшие на лоне природы, они прекрасно знали меру своим силам и никогда не переоценивали их. Иногда они сами добирались до прибрежных, сложенных из розового песчаника, скал Ябебири.
– Хорошенько осмотрите песок и траву, а уж потом садитесь, – говорил им отец.
Отвесные скалы на двадцать метров возвышались над глубокой и мрачной рекой, чья вода освежала их покрытое трещинами подножье. А там, наверху, крошечные ребятишки Суберкасо осторожно продвигались вперед, ощупывая камни носком ноги. И, убедившись наконец, что им не грозит никакая опасность, усаживались над пропастью и принимались болтать сандалиями.
Конечно, всего этого Суберкасо добился постепенно, пережив немало тревожных минут.
– Когда-нибудь один из них убьется, – говорил он себе. – И остаток своих дней я буду терзаться вопросом, верно ли поступил, воспитав их так, а не иначе.
Да, он поступал верно. И среди слабых утешений, которые выпадали на долю отца, оставшегося с двумя сиротами, самым значительным было то, что он имел возможность воспитывать детей согласно собственным убеждениям.
Итак, Суберкасо был счастлив, а дети чувствовали, что они кровно связаны с этим сильным мужчиной, который целыми часами играет с ними, своими загрубевшими ручищами зашивает им дыры на шароварах и учит их читать, выписывая суриком на полу огромные и неуклюжие красные буквы.
Со времени, когда он шил мешки в Чако, где у него была хлопковая плантация, Суберкасо сохранил привычку и любовь к шитью. Он мастерил белье себе и детям, шил кобуры для револьверов и паруса для каноэ – все это сапожными нитками и большими узловатыми стежками. Таким образом, его рубаха могла порваться в любом месте, но только не по шву, прошитому навощенной ниткой.
По части игр дети единодушно признавали его учителем. Кто еще так мастерски умел бегать на четвереньках, как их отец? Глядя на него, они заливались веселым смехом.
Помимо повседневной работы, у Суберкасо были и экспериментальные заботы, направление которых менялось каждые три месяца. Его дети, всегда находившиеся подле него, знали добрую часть вещей, о которых ребята их возраста обычно никакого представления не имеют. Они видели, как отец разделывает туши животных (и иногда помогали ему), как он приготовляет креолин и добывает каучук из деревьев, чтобы чинить непромокаемые плащи; они видели, как он во все цвета окрашивал свои рубашки; сооружал прессы весом до восьми тонн, чтобы испытать прочность цемента; изготовлял суперфосфаты и апельсиновое вино; строил сушилки типа Мейфарс, и протягивал от леса к бунгало, на высоте десяти метров от земли, проволочные рельсы. В скользивших по проволоке вагонетках дети стремительно спускались к дому.
К тому времени внимание Суберкасо привлекли залежи или, вернее, жила белой глины, вышедшая на поверхность последнего большого склона Ябебири. От этих залежей он перешел к другим, расположенным в округе. Глину Суберкасо обжигал в керамической печи, которую сложил своими руками. Когда же появлялись признаки обжига, остекленения и другие, он вместо того чтобы проводить опыты на бесформенных образцах, предпочитал мастерить горшки, маски и сказочных зверушек, в чем ему успешно помогали детишки.
По вечерам и в темные непогожие дни фабрика приходила в движение. Суберкасо пораньше разжигал печь, и экспериментаторы, поеживаясь от холода и потирая руки, садились лепить поближе к теплу.
Температура в маленькой печи Суберкасо за каких-нибудь два часа достигала тысячи градусов, и каждый раз, когда он открывал дверцу раскаленной добела печи, чтобы подбросить топлива, из нее вырывался язык пламени, опалявший ресницы. Тогда гончары отходили в другой конец мастерской и оставались там, пока ветер, со свистом дувший сквозь щели в бамбуковой стене, не прогонял их вместе с рабочим столом назад – греть спины у печи.
Теперь огонь обжигал лишь босые ноги детей, в остальном же все шло хорошо. Суберкасо питал слабость к доисторическим сосудам. Девочка отдавала предпочтение каким-то фантастическим сомбреро, а мальчонка лепил только змей.
Случалось, однако, что монотонный гул печи недостаточно вдохновлял их, и тогда они прибегали к помощи граммофона. Пластинки были те же самые, которые Суберкасо приобрел, когда женился. Все эти годы ребята царапали их всевозможными шипами, гвоздями, колючками и бамбуковыми щепками, которые сами оттачивали. Каждый из них по очереди брал на себя труд «управлять» граммофоном, то есть, не поднимая глаз от глины, автоматически сменять пластинки и тут же снова приниматься за работу. Когда все пластинки были прокручены, наступала очередь следующего – ставить их с самого начала. Они уже не вслушивались в музыку, которую знали наизусть; просто их развлекал шум.
В десять гончары кончали работу и поднимались, чтобы в первый раз подвергнуть свои произведения искусства критическому разбору: до того как работа бывала окончена, никто не позволял себе ни единого замечания. И надо было видеть, какую шумную радость вызывали фантастические украшения девчурки, с каким восторгом встречалась неизменная коллекция змей ее братишки. Затем Суберкасо задувал огонь в печи, и, держась за руки, они шли сквозь морозную ночь домой.
* * *
Три дня спустя после ночной прогулки, о которой мы рассказали, от Суберкасо ушла служанка, и этот, казалось бы, незначительный случай перевернул жизнь трех отшельников вверх дном.
Когда у Суберкасо умерла жена, то первое время он рассчитывал, что воспитать детей ему поможет кухарка. Эта превосходная женщина горько плакала, говоря, что после смерти сеньоры в доме стало пусто и одиноко.
Но на следующий месяц она ушла, и Суберкасо хватил немало горя, пока искал ей замену. На ее месте побывали три или четыре темнокожие девушки, взятые с лесных ферм, но каждая из них оставалась у Суберкасо не больше трех дней. По прошествии этого времени они брали расчет, ссылаясь на слишком тяжелый характер хозяина.
Кое в чем Суберкасо действительно был виноват и признавал это. В разговоре с девушками он употреблял минимум слов, необходимых для того, чтобы они его поняли. При этом во всем, что он говорил, сквозила чисто мужская педантичность и логика. Например, когда служанки убирали в столовой, Суберкасо предупреждал их, чтобы они обметали пыль вокруг каждой ножки стола. Причем замечания делались в короткой отрывистой форме, что утомляло и раздражало девушек.
В течение трех месяцев Суберкасо не мог найти даже девчонки, которая согласилась бы посуду мыть. За эти месяцы он выучился купать детей и постиг еще кой-какие премудрости. Стряпать он умел и раньше, а теперь научился и горшки чистить. Он чистил их песком, во дворе, сидя на корточках против холодного ветра, от которого синели руки. Суберкасо научился каждую минуту отрываться от работы, чтобы снять молоко с огня или открыть дверцу дымящей печи. Он научился каждый вечер приносить по три ведра воды – ни больше ни меньше – для мытья посуды. Мысль об этих трех неизбежных ведрах превратилась для него в какой-то кошмар, и прошел целый месяц, прежде чем он понял, что от них никуда не денешься. Первые дни он, разумеется, откладывал на потом мытье горшков и тарелок и копил их на полу, друг подле друга, чтобы затем вычистить все сразу. Но после того, как однажды Суберкасо целое утро просидел на корточках, чистя закопченные кастрюли (а они все были закопченными), он предпочел стряпать, есть и сразу после еды мыть посуду. Прелесть этих трех последовательных процессов тоже незнакома женатым мужчинам.
У него ни на что не оставалось времени, особенно в короткие зимние дни. Уборку обеих комнат Суберкасо доверил детям, и те кое-как справлялись со своей работой. Но у него не хватало духу взяться за уборку двора. Это исключительно женское дело требовало научного подхода и безупречного исполнения. И хотя Суборкасо понимал, что оно лежит в основе всяческого благополучия горных ранчо, на уборку двора у него не хватало терпения.
Нетронутый песок, который палило солнце и поливали дожди, время превратило в свой опытный участок. В нем развелись нигуа{22}22
Нигуа (здесь – пикэ, синоним) – латиноамериканское насекомое, самка которого откладывает яйца под кожу животных и людей, чаще всего под кожу ног.
[Закрыть], которые то и дело впивались в босые ребячьи ноги. Даже Суберкасо, всегда обутый в ботинки на толстой подошве, платил им нелегкую дань. Он почти всегда хромал, а после завтрака, крапал ли дождь, пекло ли солнце, ему приходилось добрых полчаса проводить в открытом коридоре или во дворике, не выпуская из рук ножонки сына. Покончив с мальчиком, он принимался за самого себя. И едва он поднимался, стараясь разогнуть спину, как сынишка снова звал его; три нигуа опять впились ему в ноги.
Девчушка, к счастью, казалась неуязвимой. Ей никогда не приходилось ощупывать ноготками нигуа, забравшихся под кожу. Из каждых десяти насекомых семь приходилось на долю малыша и только три – на долю его отца. Однако для того и трех нигуа было многовато: ведь он жил в горах, где главное для человека – ноги.
В общем, нигуа куда безобиднее, чем гадюки, ура{23}23
Ура (арг.) – черви, которые заводятся в ранах некоторых животных.
[Закрыть] и тем более баригуи. Нигуа взбираются по ноге и внезапно прокалывают кожу до самого мяса, где образовывают мешочек и наполняют его яичками. Извлечение из ноги нигуа или его гнезда, как правило, не причиняет беспокойства, да и сами ранки от прокола не слишком болезненны. Но среди сотни нигуа попадается один, который заносит под кожу инфекцию. И уж тогда следует поостеречься.
Как-то Суберкасо не удалось вытащить нигуа, который забрался ему в мизинец на правой ноге. Вместо крошечной красноватой дырочки вокруг ногтя образовалась распухшая и очень болезненная трещина. Йод, бихлорид, перекись водорода, формалин – все было испробовано. Суберкасо по-прежнему надевал ботинки, но из дому не выходил. Прекратились неутомимые походы в горы, которые любил совершать Суберкасо в дождливые вечера. Их сменили медленные и печальные прогулки по двору, когда небо прояснялось и прямо против солнца силуэты деревьев выступали отчетливо, словно в китайском теневом театре, а воздух был таким чистым, что до леса, казалось, рукой подать.
Суберкасо сознавал, что, живи он в других условиях, его организм справился бы с инфекцией, ведь для этого требовалось лишь немного отдыха. Он плохо спал: по ночам его бил озноб, а боли усиливались. Лишь на рассвете он забывался тяжелым сном и много бы дал, чтобы не просыпаться хотя бы до восьми часов. Но мальчик и зимой поднимался так же рано, как летом. И Суберкасо, дрожа от озноба, тоже вставал, чтобы разжечь примус и приготовить кофе. А после завтрака – чистка кастрюль. В полдень же – для разнообразия – вечная история с нигуа, которых надо вытаскивать из ног сына.
– Так дальше продолжаться не может, – наконец сказал себе Суберкасо. – Любой ценой я должен найти служанку.
Но как? Еще когда он был женат, прислуга составляла одну из его постоянных забот. Как мы говорили, девушки приходили и уходили, не объясняя почему, и это в ту пору, когда в доме была хозяйка. Тогда Суберкасо забрасывал все свои дела и по три дня не слезал с лошади. В поисках какой-нибудь завалящей девчонки, которая согласилась бы пеленки стирать, он объездил все тропинки от Апарисиосуе до Сан-Игнасио. И вот как-то в полдень Суберкасо выехал из лесу, окруженный живым ореолом слепней. С головы его лошади струйками стекала кровь, но чувствовал он себя победителем. Девушка явилась на следующий день: она сидела на лошади, позади отца, держа в руке узелок. Однако ровно через месяц она ушла – с тем же узлом в руках, только на этот раз пешком. А Суберкасо снова отложил мачете и мотыгу и пошел за лошадью, которая, не шевелясь, потела на солнце.
Эти проклятые путешествия оставили после себя горькие воспоминания, и вот теперь они предстоят снова. Но до каких же это пор будет он ездить?
По ночам, не в силах уснуть, Суберкасо слушал, как ливень с треском и грохотом обрушивается на деревья. Весна в Мисьонес, как правило, сухая, зато зима – очень дождливая. Но бывает, что привычный порядок вещей меняется. От капризного климата Мисьонес всего можно ожидать. И тогда за каких-нибудь три месяца облака спешно выливают на землю целый метр воды – из полутора метров осадков, которые должны выпасть за год.
Они чувствовали себя словно в осаде. Через Оркету, которая перерезала дорогу к берегу Параны, тогда еще не было моста. Перейти ее можно было только вброд – в том месте, где вода, пенясь, стремительно катилась по круглым скользящим камням. Лошади ступали на них, дрожа от страха. Это в обычное время, а когда речонка вбирала в себя всю воду, выпавшую за семь дождливых дней, брод на четыре метра заливало водой, которая неслась бешеным потоком и неожиданно свивалась спиралью, образуя водовороты. Верхом на лошадях перед затопленным жнивьем жители Ябебири смотрели, как мимо, поворачиваясь вокруг себя, проплывали трупы оленей. И так продолжалось десять – пятнадцать дней.
Когда Суберкасо решил поехать на поиски служанки, через Оркету еще можно было перейти. Но в таком состоянии он не рискнул бы отправиться на лошади в дальний путь. Да и найдет ли он кого-нибудь, если доберется до реки Касадор?
Тут он вспомнил об одном пареньке, который когда– то у него работал. Был он умный, ловкий и работяга, каких мало. В первый же день, чистя на полу сковороду, паренек со смехом объявил Суберкасо, что раз он очень нужен хозяину, то останется у него на месяц – но ни одним днем больше, потому что работа эта – не мужская. Он жил у истока Ябебири, против острова Торо; значит, дорога предстояла не близкая. А если Ябебири, играя, вздымает и опускает волны, то у человека не хватит сил грести восемь часов подряд.
Тем не менее Суберкасо решился. Несмотря на то, что погода вызывала опасения, он дошел с ребятами до берега реки. Настроение у него было хорошее, как у человека, который увидел наконец ясное небо. Детишки все время целовали руки отца, это они делали всегда, когда были чем-нибудь очень довольны. Суберкасо чувствовал себя плохо, болела нога, но ради детей он сохранял присутствие духа. А для тех было настоящим праздником идти со своим папочкой через полный неожиданностей лес и, выйдя на берег Ябебири, шлепать босыми ногами по теплой и упругой грязи.
Все вышло, как они предполагали: каноэ было полно воды. Пришлось ее вычерпывать обычным черпаком и горшками для кипячения матэ, которые ребята несли на ремне. Они всегда брали их с собой, когда отправлялись в лес.
Надежда Суберкасо была так велика, что он не слишком обеспокоился при виде подозрительно мутной речной воды, которая в обычное время настолько чистая, что ясно видно ее дно, расположенное на двухметровой глубине.
«Пока дул юго-восточный ветер, – подумал Суберкасо, – дождей выпало не так-то уж много… Разлив задержится на день-другой».
Они продолжали работать. Стоя в воде по обе стороны от каноэ, они упорно вычерпывали воду. Вначале Суберкасо не решался снять сапоги, которые увязали в глубокой тине, потому что попытки вытянуть распухшую ногу причиняли ему острую боль. Наконец он разулся, погрузив босые ноги в вонючую грязь, и за каких-нибудь два часа лихорадочной работы выгреб из лодки всю воду, затем перевернул ее и вычистил дно.
Когда все было готово, они тронулись в путь. В течение часа каноэ скользило быстрее, чем хотел гребец. Он греб кое-как, опираясь всей тяжестью на одну ногу и босой пяткой больной ноги едва касаясь дна, чтобы не потерять равновесия. Но лодка сама летела вперед, потому что стремительно быстрым стало течение Ябебири. На поверхности, вокруг заводи, вздувались и лопались воздушные пузырьки. Усики пахи{24}24
Паха – съедобный латиноамериканский злак.
[Закрыть] вплотную прижались к корневищу. И Суберкасо понял наконец, что произойдет, если он немедленно не повернет к пристани.