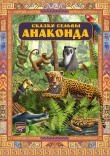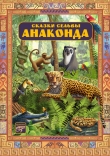Текст книги "Анаконда"
Автор книги: Орасио Кирога
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Я делал все, что в человеческих силах, чтобы забыть, я до боли стискивал зубы, стараясь сосредоточить все свое внимание на сцене. Но необыкновенная музыка Вагнера, этот крик наболевшей страсти, разожгла ярким пламенем то, что я стремился предать забвению. Во время второго или третьего действия я обернулся. Она, потрясенная музыкой, тоже смотрела на меня. Инес, жизнь моя! На одно мгновение мои губы вновь почувствовали ее рот, ее руки, а она вновь ощутила умирание счастья, как десять лет назад. И надо всем этим, над нашим мертвым и уже похолодевшим счастьем – Тристан, со своим воплем сверхчеловеческой страсти!
Я встал и направился к выходу, задевая за кресла, как лунатик, ничего не видя перед собой. Я шел к ней, словно нас не разделяла пропасть этих десяти лет…
И я переживал галлюцинацию – как десять лет назад, со шляпой в руке я медленно приближался к ней.
Дверь ложи была открыта, я остановился, теряя голову. Как десять лет назад, она, Инес, распростертая на диване в комнате за ложей, рыдала над страстью Вагнера и над своим разрушенным счастьем.
Инес!.. Я почувствовал, что в этот момент по велению судьбы у меня появилась решительность. Десять лет!.. Были ли они? Нет, нет, моя Инес!
И как тогда, видя ее, всю воплощенную любовь, сотрясающуюся от рыданий, я крикнул:
– Инес!
И как десять лет назад, рыдания удвоились, и как тогда, она ответила, закрывая лицо руками:
– Нет, нет… Слишком поздно!
Победа

Он
Вот уже два месяца мне каждые четыре-пять дней пишет какая-то незнакомка; ее письма, наивные, но полные тонкого остроумия, волнуют меня больше, чем я бы того хотел.
Разумеется, мне не впервой получать послания от женщин, поклонниц моего таланта. У любого среднего писателя можно найти целый архив подобной корреспонденции, редко обладающей художественными достоинствами, почти всегда сентиментальной и, в общем, совершенно бесплодной. В ней обычно практикуются окололитературные девицы, которые много читают, но ничего не пишут.
Как критик, я получаю особенно много льстивых и надушенных писем такого рода; от них за версту веет женщиной, которая стремится в литературу или, уже овладев тайнами мастерства, хочет заранее подсластить суждение о своей повой книге.
При небольшой практике из первых же строк можно точно узнать, чего именно домогается отправительница этих туманных посланий; они бывают или уж очень любезными, – и тогда мы обычно оставляем их без внимания, – или трезвыми, серьезными, почти как академические трактаты, – и тогда мы, не скрывая улыбки, спешим ответить на них.
Но об этой загадочной и неискушенной поклоннице не знаю что и подумать. Вот уже дважды я осторожно пытался намекнуть ей, что я не только критик, но и мужчина. Однако ее ответ, до смешного наивный, спутал все мои карты.
Какого черта ей нужно? Связать меня по рукам и ногам, чтобы прочитать рукопись?
Насколько можно судить, не то. И вот я прошу ее прислать свою карточку; просто так – дружеский обмен фотографиями. Она отвечает, что вырезала из журналов и повесила у себя над кроватью несколько моих портретов, и это ее вполне устраивает. Это обо мне. Ну а о себе она пишет, что «далеко не блещет красотой, и ее карточка вряд ли достойна внимания человека с таким хорошим вкусом, как у меня».
Не так уж глупо, правда?
Тем не менее ей что-то от меня нужно: то ли прочесть свой рассказ, то ли… Ведь если она дурнушка и не ищет ничего, кроме литературных похвал, ее бы сразу насторожила моя первая вылазка, ибо нет женщины, неспособной понять, куда клонит модный писатель, упорно поддерживая переписку с одной из своих скромных поклонниц.
Значит, она с изюминкой; пишет рассказы на листочках, вырванных из тетради, и уже устремилась на штурм своего критика. Как же тут не помочь?!
Я только что направил ей несколько строк примерно такого содержания:
«Сеньорита! Не думаете ли Вы, что нам пора познакомиться? При всем уважении к Вам у меня не хватило бы сил продолжать переписку, которая оставляет мне меньше надежд, чем я привык иметь. Действительно ли вы так некрасивы, сеньорита? Полагаю, вы не огорчите меня и не оставите в неведении, отказав в удовольствии увидеться с вами».
Voilà. Для меня не секрет, чем я рискую, написав такое письмо. Если девушка и впрямь некрасива, считайте, что я ее потерял. Не говоря уже о возмущении игривым ультиматумом, который содержится в письме. Из «Маэстро» с большой буквы я превращусь в серую бездарность, и у меня не будет более пылкого и упрямого врага, чем моя вчерашняя почитательница.
Но если она серьезно решила заняться литературой, и господь наградил ее одним из тех милых личиков, которые притягивают взгляды мужчин и служат для них немой и красноречивой визитной карточкой, – ей не устоять перед посланием своего кумира.
А вот и ответ. Я только что его получил. Она решила удовлетворить мою просьбу и тем доставить мне еще одну неприятность; а сама – иметь удовольствие прочитать это в моем внезапно охладевшем взгляде.
Отлично. Я иду на свидание, с нетерпением ожидая появления «визитной карточки», которую с минуты на минуту возьму в свои руки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда же, о господи?! Она стоит передо мной, слегка зардевшись, я же смотрю на нее, разговариваю с ней, но лишь одна мысль сверлит мою голову: «Когда же? Когда?!»
У меня, как у «человека со вкусом», есть некоторый опыт, я хорошо умею скрывать свои чувства. Но сейчас, слушая ее, любуясь тонкими линиями ее рта, вдыхая ее аромат, я чувствую в глазах непривычное, еле заметное щекотание.
С такой-то красотой, и два месяца лишать меня своей чарующей близости, возможности слышать глубокий грудной голос, когда она называет меня «Маэстро»!
– О, я не пишу, – говорит она. – Только много читаю и очень счастлива, когда мне попадаются хорошие книги.
– Романы?
– И стихи тоже. Но я их не совсем хорошо понимаю. Больше всего мне нравится критика. Когда писателю удается талантливо выразить все то, что приходит тебе на ум при чтении какой-нибудь книги, и чего ты сама не можешь выразить, о, в этот момент по-настоящему чувствуешь себя счастливой.
– Ну, а автору можно надеяться на награду?
Она смотрит на меня краешком глаза, улыбается и снова краснеет:
– А вы как думаете?
И пока мы говорим, я теряюсь в догадках, как и почему эта обворожительная девушка два месяца отказывала себе в чести сблизиться с человеком, искусство которого настолько волнует ее, что она почти в глаза говорит ему о своем обожании: «Маэстро»!
Она преклоняется передо мной – и в этом все дело. И для меня становится ясной потрясающая наивность ее ответа на мой недвусмысленный намек.
Но если дело только в этом, зачем же противиться встрече со мной и говорить, что ты некрасива? И почему у нее на стене висят пять моих фотографий?
Все это я должен выяснить при следующем свидании.
Следующем?.. Пожалуй; но, конечно, не здесь, посреди улицы. Тогда она дает мне понять, что несвободна, хотя до этого момента и позволяла называть себя сеньоритой.
– Я замужем.
Я смотрю на нее и мысленно улыбаюсь. Но она плохо читает в моих глазах.
– О, я не то хотела сказать, сеньор. Я не умею лицемерить, тем более перед вами, Маэстро! Мой муж тоже был бы рад познакомиться с вами. Он знает, что я вам писала… Он восхищается вами!..
«Ах, бесенок! – думаю я про себя, слушая ее. – Где уж тебе со мной лицемерить… Все ясно!..»
И я церемонно кланяюсь.
– Сеньора…
Едва касаясь моей руки, она прерывает меня:
– Вы ведь не откажетесь познакомиться с ним? Сейчас он придет… Он знает, что мы здесь!.. О, как он будет рад! Он так волнуется… Бедняга работает день и ночь… Продавцом… О нет!.. В захудалой лавчонке далеко от центра. А вот и он! Видите? Эпами! Иди сюда!
И Эпаминондас переходит улицу, чтобы радостно и благоговейно потрясти мою руку.
Его тоже распирает от гордости, что я удостоил их своим вниманием. Я рассматриваю обоих: маленького, сияющего и безнадежно заурядного продавца и его женушку, которая вся так и рдест от счастья…
Однако время идет, и супруги то и дело переглядываются. Кажется, у них есть какой-то секрет, которого они не решаются мне открыть.
– Ну, как, Эстерсита? – робко спрашивает он.
– Все в порядке, – отвечает она и снова краснеет. – Но сделать это должен ты!
И Эпаминондас наконец решается: он приглашает меня к себе. О, они прекрасно понимают, что такой знаменитый критик, как я, привык наносить куда более значительные визиты… Но ведь у меня могут быть и другие интересы. Ему, Эпаминондасу, ясно, что после той чести, которую я оказал его жене, поддерживая с ней переписку, нам будет приятно поговорить о литературе. Правда, людям этого не понять, и они, часто встречая нас вместе на улице, начнут злословить. Почему бы не пойти к ним, в их скромный домик? Своим присутствием я окажу ему высокую честь!
– С удовольствием!.. – восклицаю я.
– Вот видишь, глупый! – Она нежно подхватывает Эпаминондаса под руку и в сотый раз краснеет, заметив мой проницательный взгляд.
– Превосходно! – говорит он. – А почему бы нам не встретиться сегодня же вечером? Как ты думаешь, Эстерсита?
Все согласны. И супруги прощаются, осчастливленные моим обещанием; я же как зачарованный смотрю им вслед, от каблучков до затылка пожирая глазами эту роскошную, пьянящую женщину, которая уходит, красиво изогнув стан и слегка замедляя шаг под тяжестью Эпаминондаса, опирающегося на ее руку.
«Ах, бесенок! – снова вырывается у меня. – Ты позволила себе роскошь два месяца подряд морочить мне голову, разыгрывая в письмах святую невинность. Я знавал много хитрых женщин, но всем им далеко до тебя! Эпаминондас… Эстерсита… Превосходно!.. Стыдливо краснея и обворожительно улыбаясь, ты за два месяца сумела настолько хорошо воспитать мужа, что он сам предлагает мне свой дом, который – что и говорить! – гораздо безопасней, чем улица. Ладно, детка, сегодня вечером я приду!»
…Мы поужинали – для этого, собственно, я и был приглашен, – и перешли в гостиную, куда хозяйка дома подала нам кофе. Уходя, она сказала:
– Мужчинам иногда полезно побыть одним, – и снова одарила меня одной из своих неотразимых улыбок,
Она
Отсюда, через приоткрытую дверь, мне хорошо видно обоих. Я стараюсь ничем не выдавать своего присутствия. Эпами сидит спиной к двери и читает. Наконец-то он читает свой роман!.. И сейчас он счастлив, бесконечно счастлив!..
Боже мой! Сколько мне пришлось изворачиваться, чтобы доставить ему эту радость!
Лицом ко мне, закинув ногу на ногу, с сигарой в руках, неподвижно сидит он.
Бедный маэстро! Кажется, я поступила с ним не совсем честно. Нахмурившись, он пристально смотрит на Эпами. Время от времени он поднимает руку, подносит ко рту сигару, и его каменное лицо на мгновение тонет в облаке дыма.
Я бы многое отдала, чтобы узнать его мысли. Боже мой! Ведь Эпами мог умереть, если бы не прочитал известному критику свой первый роман… И я принесла себя в жертву!
Бельгийские кладбища
1914

Они шли по белой пыльной дороге, заполнив всю ее от кювета до кювета. Холод, уже давая себя знать, заставил их закутаться во все плащи и одеяла, какие только у них были с собой. Многие ехали в повозках, кое-кто устроился на тележках, запряженных собаками, но большинство шло пешком.
Они шли по бельгийской земле, еще недавно такой спокойной и такой прекрасной. Теперь же куда ни посмотри – вперед, назад, вправо или налево, – нигде не осталось ничего. Ничто не возвышалось над землей выше, чем на два метра: города, трубы, деревья – все черными останками прижалось к земле. Люди отправились в путь накануне вечером и грохот пушек неотступно преследовал их.
Провизии, кое-как собранной в последнюю минуту, не хватало, чтобы досыта накормить столько людей. Дети, недавно отнятые от груди, не получая теперь ни капли молока, заболели энтеритом в первый же день.
К десяти часам вечера неотвязный грохот приблизился, и беженцы ускорили шаг.
Как и накануне, над колонной стоял плач голодных, невыспавшихся детей и слышались стоны грудных младенцев, у которых перегоревшее материнское молоко вызывало боль в желудке.
Ночь прошла, но бледный рассеет принес с собой дождь. Мужчины подняли капюшоны плащей, а матери, бросив в их сторону долгий, скорбный взгляд, прикрыли окоченевших малюток краями промокших одеял.
Колонна остановилась, и, собрав остатки пищи – теперь уже действительно остатки, больше не было ничего, – женщины и дети утолили голод. Кое-что даже осталось: многие женщины, сломленные усталостью и сном, так и не вылезли из своих повозок. Тогда дали немного поесть старикам и больным. Унылая масса плащей и лошадей снова двинулась вперед, настойчиво преследуемая канонадой…
Дождь не утих и к полудню, и беженцы остановились.
– Что случилось? – раздались голоса. – Нам нечего есть! Пошли!
– Пошли! – прокатилось по всей колонне.
В повозке, запряженной старой, разбитой клячей, ехала женщина, муж которой остался воевать у крепости Амберес. С ней было трое детей, из которых старшему едва минуло пять лет.
Когда колонна остановилась, женщина тревожно подняла голову, не переставая кутать своего самого маленького.
– Что там случилось? – спросила она.
– Ничего особенного! – ответил ей кто-то сзади. – Сейчас двинемся!
– У моего сына… – тихо заговорила мать, низко наклоняясь над ребенком и судорожно ощупывая его руки, лоб, шею. – У него температура! – она обращалась к идущей рядом женщине, отчетливо и ясно выговаривая каждое слово. – Так нельзя больше… Почему мы стоим? – стала допытываться она затем то у одного, то у другого.
– Сейчас пойдем! – крикнул чей-то хриплый голос. – Потерпите! Дойдет и до вас очередь!
Тогда женщина тихо сказала матери:
– Там хоронят… Несколько человек умерло…
Мать вскинула на нее широко открытые глаза:
– И дети тоже?
Женщина несколько раз утвердительно кивнула.
По шуму в первых рядах колонны можно было догадаться, что люди наконец сдвинулись с места.
– Слава богу! Слава богу! – вздохнула мать, глядя на всех по очереди благодарным взглядом. – Ведь мы больше не будем останавливаться, правда? Кажется… – она замолчала, торопливо ощупывая руки и шею сына, – температура спала… Да, спала… – и снова обратилась к женщине – И грудные дети… тоже?
Та опять кивнула. Мать, вся дрожа, принялась заботливо укутывать сына, хотя потом два или три раза откидывала одеяльце, чтобы пощупать пульс.
– Слава богу… Слава богу… – все повторяла она, продолжая его укачивать и прижимаясь лицом к одеяльцу.
Колонна все шла и шла, дождь не прекращался, и к вечеру стали громче плач и крики детей, заболевших от холода и ужасной пищи. Материнское молоко, перегоревшее от пережитых волнений и усталости, отравляло и без того больных малюток, заставляя их забываться тяжелым лихорадочным сном.
Женщина, шагавшая рядом с повозкой, предложила матери кашицу из хлеба, размоченного в воде, но та ничего ей не ответила.
– Скоро придем, – сказала женщина.
Мать подняла лицо, полное отчаяния.
– Он умирает! – закричала она. – Вот чего мы дождались! Потрогайте его! Потрогайте! Он весь горит! И совсем мокрый… Сыночек мой родной!
Двое других малышей, дрожа, прижимались к матери. Колонна остановилась. Мать испуганно смотрела по сторонам широко открытыми воспаленными глазами.
– Опять хоронят?.. Кого?
Ей не ответили. Конечно, в покойниках недостатка не было, но на этот раз остановились по другой причине. Детей можно было спасти только молоком: коровьим, кобыльим, овечьим, все равно. Но где его найти?
К вечеру однообразные, унылые места несколько изменили свой вид. Пушки сюда еще не добрались, фермы и деревья стояли целыми и невредимыми, но страх, подгоняемый общим ураганом бедствия, смел к берегу моря и людей и скот, и пищу и одежду. Те из беженцев, у кого еще были силы, быстро осмотрели амбары и сараи… Ничего: ни ломтя хлеба, ни подыхающей коровы…
Дождь, не давая людям ни минуты отдыха, заставил их подумать об укрытии.
– Дети умирают от холода! Они простужены!
– Это правда, но и такая пища для них – отрава! Во что бы то ни стало нужно достать молока! Идемте!
– Но ведь они умирают прямо на руках у матерей!
– Если мы не найдем молока, они тем более умрут! Нужно спасти тех, кто еще жив! Идемте!
– Да, да, пошли!
Несчастные, вымокшие до нитки, изнуренные усталостью, голодом и бессонницей, они вновь потащились по дороге, унося с собой предсмертный хрип больных детей.
В этот вечер останавливались несколько раз, но уже никто не спрашивал о причине: об этом достаточно ясно говорили громкие рыдания матерей. С каждым часом колонна уменьшалась, редела, убывала, отмечая могилами детей дороги несчастной родины.
На рассвете следующего дня женщина, та, что накануне шла рядом с повозкой, снова приблизилась к ней. Оба малыша по-прежнему прижимались к матери с пылающими лицами, тяжело дыша широко открытыми ртами. Вода стекала по прядям волос на их полузакрытые глаза.
– Скоро доберемся… – повторила женщина несколько раз, как накануне.
Мать вздрогнула и остановила на ней свой тяжелый взгляд.
– Как маленький? – подходя еще ближе, спросила женщина.
– Плохо, – ответила мать коротко и развернула пеленки. – Видите? Посмотрите скорей! Посмотрите сюда! – добавила она, быстро приподняв ножки ребенка. – Видите, какие пеленки?
Ребенок бился в зеленой жиже.
– Каждую минуту новая пеленка! Вы не мать, нет?.. Ах, боже мой! – глухо простонала она, уронив голову на руки.
Малыш, почувствовав на своих ножках капли дождя, заплакал.
– Закройте, закройте его! – заторопила женщина.
– Закрыть! – в отчаянии закричала мать. – Вот этим мокрым… Вы посмотрите только!.. Вот чего мы дождались!.. Потрогайте! Это мой сын… Ах, сынок мой родной, маленький мой! – с глухим рыданием она низко склонилась над бьющимся тельцем.
С этой минуты она никого больше не подпускала к себе.
– Что вам надо? – зло кричала она. – Он не умер, нет! Уходите отсюда, я вам говорю!
Но вечером ребенка у нее все же отняли, уже мертвого, убитого менингитом, подобно многим другим.
Этого огромного горя нервы бедной матери не выдержали, она беззвучно и горько зарыдала, а потом закуталась в одеяло, усадив на колени оставшихся малышей, которые время от времени прерывали свой лихорадочный сон, чтобы прижаться к лицу матери, прерывисто и хрипло всхлипывая и не открывая глаз.
А дождь все шел и шел, прямой и густой. Заботиться о сухом платье для больных перестали: больше никто ничего не ждал.
На следующее утро было решено посадить в повозки матерей с детьми, чтобы они как можно скорее смогли где-нибудь добыть молока, которое с каждой минутой становилось все необходимее. Так и сделали, собрали жалкие остатки корма лошадям, и толпа безутешных матерей с умирающими детьми на руках двинулась в путь, к вечеру опередив колонну на несколько километров.
И вдруг над этой жалкой группой обреченных пронесся крик надежды: женщины увидели отряд бельгийской конницы. Но подъехавший офицер приказал женщинам отдать им всех еще пригодных лошадей.
– Как!.. Но ведь наши дети умрут! – кричала обезумевшая мать двоих детей. – Лейтенант! Господин лейтенант! Они умрут, если мы здесь останемся!
Офицер, забрызганный грязью по самую грудь, издерганный, осунувшийся за месяц беспрерывных боев, тоже закричал:
– Мы все, все умрем, если не сможем продвинуть вперед артиллерию! Все, и вы, и мы, все, кто еще остался! Слышите? Лошадей, скорее!
Издалека, с востока и с юга доносились глухие раскаты – бельгийская армия шла к морю.
– Готово? – строго спросил офицер, оборачиваясь. – Вперед, скорее!
И он пустил свою лошадь галопом.
Жалкая группа реквизированных лошадей исчезла вдали, затерялась в сумерках, а повозки так и остались стоять, упираясь оглоблями в дорожную грязь. Где-то, может быть совсем близко, было спасенье: деревня, сухая одежда, горячее молоко, Превратившись в похоронную процессию, в бродячее кладбище грудных младенцев, беспомощно толпились люди посреди темной, блестящей дороги, под беспощадным дождем, безжалостно уничтожающим едва взошедшие ростки – надежду новой Бельгии.
Итальянская царица

I
Пчелам с курами заведомо не ужиться, но если опеку над ними возьмет человек, то, преследуя собственную выгоду, он может примирить враждующих.
Именно так возникло содружество Пчелы-Кеан-Куры. Я подозреваю, – хотя не вполне в том уверен, – что по сути дела оно являлось кооперативом. Как бы то ни было, при энергичном посредничестве Кеана к концу зимы на ферме воцарился мир: пчелы больше не летали на водопой к куриному корытцу, а куры отучились выуживать дохлых пчел, засовывая клюв в летки ульев.
Кеан, который уже давно наблюдал за их постоянной распрей, справедливо рассудил, что причина ее – просто недоразумение. В самом деле, стоило поставить пчелам отдельную поилку да вычистить из ульев личинки трутней – их вывелось слишком много в тот год, – как вражда сменилась самым сердечным согласием.
У кур теперь не было соблазна лакомиться пчелами, поскольку те перестали пить воду из корытца, а пчелы, вылетая из улья, не натыкались больше на куриные клювы.
Итак, товарищество было основано, и вот на каких началах.
Пчелы получили в свое распоряжение чистую, прозрачную воду, и им не приходилось отныне зариться на чужую. Кеан по праву владел излишками меда, при условии, разумеется, не посягать на осенние соты. Курам отходила половина сжатого Кеаном маиса, а также все личинки, выброшенные из улья на прилетную доску. Более того, в виде дополнительной льготы им разрешалось склевывать больных пчел и осенних трутней, изгнанных работницами и коченеющих на земле подле ульев.
То был самый разумный договор, какой только мыслим, когда обе стороны должны прокормить друг друга плодами своего труда, и с сентября по январь маленькая колония процветала. В особенности повеселели куры, которых Кеан на время июльских холодов лишил пайка: теперь, полные радужных надежд, они нежились на солнцепеке или копошились в песке, поднимая вихри пыли.
Пчелы, в свою очередь, после тревоги, вызванной запоздалыми заморозками, побившими почки на деревьях, устремлялись из ульев с ликующим жужжаньем, опьяненные ароматом бурного цветения. За три недели солнце и теплый норд напоили соком новые почки, поле покрылось лиловым ковром цветов, а на черном фоне леса пышным розовым убором выделялись цветущие деревья лапачо.
Отяжелев от взятка, пчелы так сгрудились на прилетной доске, что Кеану пришлось расширить летковую щель и то и дело стряхивать пчел, гроздьями налипших снаружи на стенки улья. Дурной признак! Либо обитательницы улья страдают от жары, либо семья непомерно разрослась – Кеан хорошо знал это. Да, пчел скопилось слишком много, и Кеан недоумевал, почему они до сих пор не роятся.
В конце октября Кеан вынул первую раму с восемью великолепными сотами. Его жена и дети, так же, впрочем, как и он сам, не слишком любили мед, зато некоторые друзья дома охотно лакомились им. Кеану пришла в голову блестящая мысль: заменить восемь больших вощин двадцатью четырьмя маленькими – таким образом, он без особых затрат смог бы оделить медом всех друзей.
Но случилось так, что медосбор, которому Кеан не придавал ранее большого значения, стал вдруг для него жизненно важным делом.
На его несчастье это совпало с первыми признаками роения пчел.
Двое детей Кеана до сих пор отличались завидным здоровьем. Неожиданно старший мальчик заболел желудком, и осложнениям, казалось, не будет конца. Когда острый период миновал, выяснилось, что ребенку очень помогает мед. Заметив это, Кеан умерил свою расточительность и решил запасти на зиму побольше целебных сотов.
Но, как известно, первое условие обильного медосбора – обзавестись итальянскими пчелами, а у Кеана водились лишь черные – скромные темные пчелы, с давних пор поселившиеся в сельве Мисьонес, откуда и сманил их Кеан.
Кеан не был богат и не мог разом, обновить всю пасеку, поэтому он выписал из Буэнос-Айреса матку итальянской породы и, рискуя оставить сиротами пчел своего самого сильного улья, убил черную царицу, поместив вместо нее золотистую итальянскую принцессу в коробочке из просахаренного картона, которую пчелы немедленно начали грызть.
Самое трудное для пчеловода – подсадить в улей чужую матку; если пчелы заподозрят, что пришелица не из их семьи, они ее уничтожат. Отсюда вышеописанная уловка, дающая сиротам время привыкнуть к жужжанию узурпаторши.
Пчелы Кеана приняли чужеземку с восторгом и ликованием, и вскоре хозяин пасеки любовался радостным полетом сверкающих на солнце итальянок.
Но итальянок ли? Ведь колечки брюшка у них не золотистые! Только тут Кеан сообразил, что выписал по забывчивости неоплодотворенную матку; отцом его новых пчел был обыкновенный темный трутень, а сами они, следовательно, – всего лишь помесь.
Стоило ли, однако, сетовать на забывчивость? Гибридные пчелы – хорошие сборщицы меда, они удивительно плодовиты, хотя в то же время донельзя раздражительны и легко пускают в ход жало. Как бы то ни было, Кеан созерцал их с нежностью, предвкушая изобилие меда.