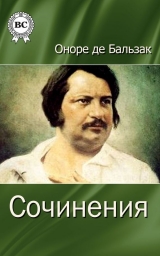
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 80 (всего у книги 86 страниц)
– Ну и голова! – сказал Бирото, запустив руку в волосы Попино и взъерошив их, словно Ансельм был еще мальчуганом. – Я это всегда предсказывал.
Вошли покупатели.
– Итак, до воскресенья; мы обедаем у твоей тетушки Рагон, – сказал Бирото и предоставил Попино заниматься делами, поняв, что свежая туша, привлекшая его сюда своим запахом, еще не разделана.
«Вот чудеса! Приказчик за сутки становится купцом, – думал Бирото, который был не менее поражен успехом и самоуверенностью Попино, чем роскошью в доме дю Тийе. – Когда я положил руку на голову Ансельму, он, видите ли, скорчил такую недовольную гримасу, будто он и впрямь уже Франсуа Келлер».
Цезарь не подумал о том, что на них смотрели приказчики, а главе фирмы подобает охранять свой авторитет. Здесь, как и у дю Тийе, добряк в простоте душевной совершил глупость: он не сдержал своих, хотя и искренних, но по-мещански выраженных чувств. Всякого другого, кроме Ансельма, Цезарь этим оскорбил бы.
Воскресному обеду у Рагонов суждено было стать последней радостью девятнадцатилетнего счастливого супружества Бирото, и радостью, ничем не омраченной. Рагоны жили на улице Пти-Бурбон-Сен-Сюльпис, на третьем этаже почтенного старинного дома, в старой квартире с простенками, украшенными танцующими пастушками в фижмах и пасущимися барашками, в духе того самого XVIII века, степенное и важное купечество которого, с его забавными нравами, преклонением перед знатью, преданностью королю и церкви, достойно представляли бывшие владельцы «Королевы роз». Мебель, часы, посуда, белье – все здесь было отмечено печатью старины и потому именно казалось необычным. В гостиной, обитой старинным узорчатым штофом с драпировками из шерстяной материи, с широкими и удобными креслами и дамскими письменными столиками, висел портрет кисти Латура, изображавший Попино, старшину города Сансера, отца г-жи Рагон; удачно воспроизведенный художником, он надменно улыбался, как выскочка в зените своей славы. Дома неизменным дополнением г-жи Рагон была маленькая английская собачка из породы кинг-чарльз, которая выглядела необычайно эффектно на небольшой жесткой софе в стиле рококо, никогда, конечно, не игравшей роли софы, описанной Кребильоном. Среди прочих достоинств Рагоны славились запасом старых вин, правда, почти совсем уже исчерпанным, и ликерами госпожи Анфу, которые некогда привозили г-же Рагон с Антильских островов ее упорные, но, как утверждали, безнадежные обожатели. Не удивительно, что обеды Рагонов так ценились друзьями! Кухарка, старуха Жаннетта, была беззаветно предана своим хозяевам и готова была красть ягоды, чтобы варить для них варенье. Она не относила своих денег в сберегательную кассу, а покупала на них лотерейные билеты, надеясь в один прекрасный день сорвать крупный выигрыш для стариков Рагонов. По воскресеньям, когда в доме собирались гости, она, несмотря на свои шестьдесят лет, с такой легкостью носилась из кухни, где готовила, к столу, за которым прислуживала, что смело могла бы поспорить проворством с мадмуазель Марс в роли Сюзанны из «Женитьбы Фигаро».
К обеду были приглашены: судья Попино, дядюшка Пильеро, Ансельм, трое Бирото, трое Матифа и аббат Лоро. Г-жа Матифа, недавно танцевавшая на балу у парфюмера в тюрбане, на этот раз явилась в синем бархатном платье, толстых бумажных чулках, козловых башмаках, в замшевых перчатках с зеленым бархатным кантом, в шляпе, подбитой розовой тафтой и украшенной цветами примулы. Все десять приглашенных собрались к пяти часам. Старики Рагоны умоляли гостей не опаздывать. Когда эту почтенную чету куда-либо приглашали, обед предупредительно подавали именно в этот час, ибо желудки семидесятилетних стариков не могли уже приноровиться к иному обеденному часу, установленному хорошим тоном.
Цезарина знала, что г-жа Рагон посадит ее рядом с Ансельмом: все женщины, даже ханжи и простушки, прекрасно разбираются в любовных делах. Дочь парфюмера принарядилась, чтобы окончательно вскружить голову Попино. Констанс, с болью в сердце отказавшаяся от зятя-нотариуса, который в ее представлении был чем-то вроде наследного принца, с грустью помогала дочери одеваться. Дальновидная мамаша опустила пониже целомудренную газовую косынку, чтобы слегка открыть плечи Цезарины и показать на редкость изящную линию ее шеи. Корсаж в греческом стиле, заложенный пятью складками и перекрещивавшийся слева направо, мог слегка приоткрываться, обнаруживая при этом очаровательные округлости. Мериносовое платье свинцово-серого цвета с оборками, отделанными зеленым аграмантом, обрисовывало талию, никогда еще не казавшуюся столь тонкой и гибкой. Уши Цезарины украшали золотые филигранные серьги с подвесками. Волосы, поднятые кверху по китайской моде, позволяли любоваться прелестной свежестью кожи с просвечивающими голубыми жилками, под матовой белизной которой, казалось, трепетала сама жизнь. Словом, Цезарина была соблазнительно хороша, и г-жа Матифа не могла удержаться, чтобы не признать этого, не догадываясь, что мать и дочь поняли необходимость обворожить молодого Попино.
Ни Бирото, ни жена его, ни г-жа Матифа – никто не прерывал нежной беседы, которую влюбленные вели вполголоса в амбразуре окна, не замечая холодного ветра, проникавшего сквозь щели. Впрочем, разговор старших заметно оживился, когда судья Попино упомянул о бегстве Рогена, заметив, что это уже второй случай банкротства нотариуса и что в былые времена о таких преступлениях и не слыхивали. При имени Рогена г-жа Рагон толкнула брата ногой, Пильеро заговорил громче, чтобы заглушить слова судьи, и оба они указали ему на г-жу Бирото.
– Я уже все знаю, – печально и кротко сказала друзьям Констанс.
– Сколько же он у вас похитил? – спросила г-жа Матифа у Бирото, смиренно потупившего голову. – Если верить слухам – вы разорены.
– У Рогена было моих двести тысяч франков. Что касается сорока тысяч, которые он якобы занял для меня у одного из своих клиентов, – то из-за них мы судимся.
– Дело будет слушаться на этой неделе, – сказал Попино. – Я подумал, что вы ничего не будете иметь против, если я объясню ваше положение председателю суда; он приказал рассмотреть бумаги Рогена в распорядительном заседании, чтобы выяснить, как давно были растрачены вклады заимодавца, и познакомиться с доказательствами этой растраты, представленными Дервилем, который сам выступает по делу, чтобы избавить вас от расходов.
– Выиграем ли мы тяжбу? – спросила г-жа Бирото.
– Не знаю, – ответил Попино. – Хотя дело поступило в то отделение суда, по которому я числюсь, я воздержусь от его обсуждения, если бы даже меня назначили.
– Неужели могут возникнуть сомнения в таком простом деле? – спросил Пильеро. – Разве в акте не должно быть указаний на передачу сумм и разве нотариус не должен удостоверить, что в его присутствии произведено вручение денег заимодавцем должнику? Попадись Роген в руки правосудия, его отправили бы на каторгу.
– Я считаю, – ответил Попино, – что заимодавец должен получить возмещение из залога за нотариальную контору Рогена и из денег, вырученных за ее продажу; но в суде, даже в более ясных делах, голоса судей делятся иной раз поровну – шесть против шести.
– Как, мадмуазель, господин Роген сбежал? – спросил Ансельм, услышав наконец, о чем говорят вокруг него. – Господин Бирото ни слова не сказал мне об этом, а ведь я готов отдать за него последнюю каплю крови…
Цезарина поняла, что это за негораспространяется на всю их семью, и если простодушная девушка и могла ошибиться насчет интонации, то не понять устремленного на нее пламенного взгляда было невозможно.
– Я знаю это, я так ему и говорила; но он все скрыл даже от мамы и доверился только мне одной.
– Вы ему напомнили обо мне в тяжелую минуту? – сказал Попино. – Вы, стало быть, читаете в моем сердце, но все ли вы в нем прочли?
– Быть может.
– Я бесконечно счастлив, – сказал Попино. – Избавьте меня от сомнений, и я через год буду настолько богат, что отец ваш уже не встретит меня так плохо, когда я заговорю с ним о нашем браке. Теперь я буду спать не больше пяти часов в сутки…
– Только не захворайте, – сказала Цезарина с непередаваемым выражением, бросив на Попино взгляд, в котором можно было прочесть все, что она не высказала словами.
– Жена, – сказал, вставая из-за стола, Цезарь, – похоже, что молодые люди любят друг друга.
– Ну и что ж, тем лучше, – серьезным тоном ответила ему Констанс. – Значит, у нашей дочери будет хороший муж, умный и энергичный человек. Талант – лучше всякого состояния.
Она поспешила уйти из гостиной в комнату г-жи Рагон. В нескольких сказанных за обедом фразах Цезарь проявил такое невежество, что вызвал у Пильеро и судьи Попино улыбку; это напомнило несчастной женщине, как беспомощен ее муж в борьбе с бедой. У Констанс было тяжело на душе, она чувствовала инстинктивное недоверие к дю Тийе, ибо, даже не зная латыни, каждая мать понимает смысл выражения: «Timeo Danaos et dona ferentes» Она плакала в объятиях дочери и г-жи Рагон, но не захотела объяснять им причину своих слез.
– Нервы, – сказала она.
Конец вечера старики провели за картами, а молодежь играла в фанты – игра, которая называется «невинной», очевидно, потому, что прикрывает невинные хитрости мещанской любви. Супруги Матифа тоже приняли в ней участие.
– Цезарь, – сказала Констанс по дороге домой, – ступай третьего числа к барону Нусингену. Надо узнать заблаговременно, сможешь ли ты заплатить пятнадцатого. Ведь в случае какого-нибудь затруднения ты не раздобудешь сразу нужные средства.
– Хорошо, жена, пойду, – отвечал Цезарь и, пожав руки Констанс и Цезарине, прибавил: – Дорогие мои кошечки, невеселый новогодний подарок я вам преподнес!
В полутьме фиакра обе женщины не могли видеть лицо бедного парфюмера, но почувствовали, как на руки им закапали горячие слезы.
– Не падай духом, друг мой! – сказала Констанс.
– Все будет хорошо, папенька. Господин Ансельм Попино сказал мне, что готов отдать за тебя последнюю каплю крови.
– За меня, а главное, за мою дочку, не так ли? – подхватил Цезарь, стараясь казаться веселым.
Цезарина пожала отцу руку, давая ему понять, что Ансельм стал ее женихом.
За первые три дня нового года Бирото получили сотни две поздравительных карточек. Этот поток лицемерных знаков дружеского внимания, эти свидетельства мнимой приязни ужасны для людей, чувствующих, что их затягивает водоворот несчастья. Бирото три раза тщетно наведывался в особняк знаменитого банкира. Новый год и связанные с ним празднества вполне оправдывали отсутствие финансиста. В последний раз парфюмер проник до самого кабинета банкира, где старший служащий банка, какой-то немец, заявил ему, что г-н де Нусинген только в пять часов утра вернулся с бала у Келлеров и не сможет в половине десятого начать прием посетителей. Бирото сумел вызвать участие этого служащего и беседовал с ним около получаса. Днем сей министр банкирского дома Нусингена письменно уведомил Цезаря, что барон примет его завтра, 12 января, в полдень. Хотя каждый час ожидания приносил с собой новую каплю горечи, день промелькнул с ужасающей быстротой. Бирото приехал в фиакре и приказал кучеру остановиться неподалеку от особняка, двор которого был полон экипажей. При виде роскоши этого знаменитого банкирского дома у честного малого болезненно сжалось сердце.
«А ведь он дважды прибегал к ликвидации», – подумал Цезарь, поднимаясь по великолепной, украшенной цветами лестнице и проходя по пышно убранным покоям, которыми славилась баронесса Дельфина де Нусинген. Баронесса стремилась соперничать с богатейшими особняками Сен-Жерменского предместья, где она тогда еще не была принята. Барон и его супруга завтракали. Хотя в конторе ожидало множество посетителей, Нусинген заявил, что друзей дю Тийе он готов принять в любое время. Сердце Бирото радостно затрепетало от надежды, когда он увидел, как изменилось при этих словах наглое лицо лакея.
– Исфините, моя торокая, – сказал барон, приподнявшись и слегка кивнув Бирото, – но этот каспатин топрый роялист и плиский трук тю Тийе. В топафок он помошник мэра фторофо окрука и сатает палы с фостошной пышностью. Ты пес сомнения с утофольстфием с ним поснакомишься.
– Мне будет очень лестно поучиться у госпожи Бирото, ведь Фердинанд («Как! – подумал Бирото, – она называет его просто Фердинанд!») так восторженно отзывался о вашем бале; это тем более ценно, что обычно он ничем не восторгается. Фердинанд – критик строгий, значит, все действительно было бесподобно. Скоро ли вы собираетесь дать второй бал? – с самым любезным видом осведомилась баронесса де Нусинген.
– Сударыня, такие небогатые люди, как мы, редко развлекаются, – ответил парфюмер, не зная, насмешка это с ее стороны или простая любезность.
– Кто рукофотил оттелкой фашей кфартиры? Кашется, каспатин Кренто?– спросил барон.
– А, Грендо! Тот красивый молодой архитектор, что вернулся недавно из Рима? – воскликнула Дельфина де Нусинген. – Я без ума от него: он украсил мой альбом такими очаровательными рисунками!
Венецианский заговорщик, подвергавшийся средневековой пытке, вряд ли чувствовал себя хуже в «испанском сапоге», чем чувствовал себя Бирото в обычной своей одежде. В каждом слове ему чудилась насмешка.
– Мы тоше таем непольшие палы, – сказал барон, бросая на парфюмера инквизиторский взгляд. – Как фитите, фсе этим понемношку санимаются.
– Позавтракайте с нами запросто, господин Бирото, – предложила Дельфина, указывая на роскошно сервированный стол.
– Баронесса, я пришел по делу, и я…
– Та, – подтвердил барон, – мы путем иметь маленький телофой раскофор. Фы расрешите?
Утвердительно кивнув головой, Дельфина спросила мужа:
– Разве вы собираетесь покупать парфюмерные товары?
Барон пожал плечами и повернулся к доведенному до отчаяния Цезарю.
– Тю Тийе прояфляет к фам шифейший интерес, – сказал он.
«Наконец-то мы подходим к делу», – подумал несчастный купец.
– С ефо письмом фы имеете полушить ф моем панке кретит, сколько посфолит мое сопстфенное состояние…
Целительный бальзам, содержавшийся в воде, которой ангел напоил в пустыне Агарь, походил, вероятно, на живительную влагу, заструившуюся в жилах парфюмера при этих словах, сказанных на ломаном французском языке. Хитрый банкир, чтобы иметь возможность отказываться от собственных слов, якобы плохо понятых его собеседником, нарочно сохранял ужасное произношение немецких евреев, воображающих, что они говорят по-французски.
– Мы фам откроем текуший шот. Фот как мы поступим, – с чисто эльзасским добродушием сказал этот добрый и достойный великий финансист.
У Бирото уже не оставалось никаких сомнений, – как коммерсант, он хорошо знал, что тот, кто не собирается дать взаймы, не станет входить в подробности сделки.
– Фы сами понимаете, што и от польших и от малых лютей трепуется три потписи. Итак, принесите фекселя прикасу нашефо трука тю Тийе; я неметленно отсылаю их ф панк со сфоей потписью, и ф тот ше тень ф шетыре шаса фы полушите ту сумму, на которую утром потписали фекселя. Ни комиссионных, ни ушотнофо просента, нишефо мне не нушно, только, панкофский просент: путу ошень рат окасаться фам полесным… Но стафлю отно услофие, – сказал он с неподражаемым лукавством, поднося указательный палец к носу.
– Готов принять любые условия, барон, – сказал Бирото, полагая, что речь идет об удержании какой-то части из его прибылей.
– Услофие, которому я притаю ошень польшое снашение: пусть моя супрука перет, как она скасала, уроки у фашей супруки.
– Умоляю вас, барон, не смейтесь надо мной.
– Нет, нет, – с самым серьезным видом продолжал банкир, – ми услофились: фи приклашаете нас на фаш слетуюший пал. Моя шена сафитует, она хотела пы фитеть фашу кфартиру, о которой фсе столько кофорят.
– Господин барон!
– О, если фи нам откасываете, – и я откасыфаюсь иметь с фами тело! Фи в польшой слафе. Та, я снаю, фас сопирался нафестить сам префект Сены.
– Господин барон!
– У фас пыл ла Пиллартиер, камеркер тфора, старый фантеец, – он тоше пыл ранен у серкфи святого Роха.
– Тринадцатого вандемьера, барон!
– У фас пыл каспатин те Лассепетт, акатемик Фоклен…
– Господин барон!..
– Ах, шорт попери, не скромнишайте, каспатин помошник мэра. Король кофорил, как я слышал, што фаш пал…
– Король? – спросил Бирото. Но ему так и не пришлось ничего больше узнать.
В комнату развязно вошел молодой человек; узнав еще издали его шаги, прекрасная Дельфина де Нусинген зарделась.
– Топрый тень, торокой те Марсе!– сказал барон де Нусинген. – Сатитесь на мое место. Ф моей конторе, кофорят, мношестфо посетителей. Я снаю отшефо: фортшинские копи приносят тфойной тифитент. Каспаша те Нусинкен, у фас теперь на сто тысяш франкоф польше тохота. Мошете накупить ceпe всяких нарятов и упоров, штопы стать еще красифее, хотя фы как путто ф этом не нуштаетесь.
– Господи! А Рагоны-то продали свои акции! – воскликнул Бирото.
– Это кто такие? – спросил, улыбаясь, молодой щеголь.
– Фот, – сказал Нусинген, возвращаясь, так как был уже у самой двери, – эти люти, кашется… Те Марсе, это – каспатин Пирото, фаш парфюмер. Он сатает палы с фостошной пышностью, и король накратил ефо ортеном.
Подняв к глазам лорнет, де Марсе сказал:
– Да, правда, его лицо показалось мне несколько знакомым. Вы что же, собираетесь надушить ваши дела какими-нибудь ароматическими веществами, умастить их маслами?..
– Так фот, эти Раконы, – с недовольным видом продолжал барон, – тершали у меня теньки, и я помок пы им состафить cene состояние, но они не сумели потоштать лишний тень.
– Господин барон! – воскликнул Бирото.
Видя, что дело его в очень неопределенном положении, бедняга, не простившись даже с баронессой и де Марсе, устремился за банкиром. Тот уже спускался по лестнице, и парфюмер догнал его только внизу, у входа в контору. Открывая дверь, Нусинген увидел отчаянный жест несчастного купца, чувствовавшего, что он летит в бездну, и сказал ему:
– Так решено? Пофитайтесь с тю Тийе и опо фсем с ним токофоритесь.
Бирото решил, что де Марсе имеет влияние на барона; быстрее ласточки он взлетел вверх по лестнице и проскользнул в столовую, где должны были еще находиться баронесса и де Марсе: ведь когда он уходил, Дельфина ждала кофе со сливками. Кофе стоял на столе, но баронесса и молодой щеголь исчезли. Заметив недоумение посетителя, лакей ухмыльнулся; Бирото медленно спустился по ступенькам к подъезду. Он устремился к дю Тийе, но, как ему сказали, банкир уехал за город, к г-же Роген. Парфюмер нанял кабриолет и щедро заплатил кучеру, чтобы тот быстро, как на почтовых, доставил его в Ножан-сюр-Марн. Однако в Ножан-сюр-Марне привратник сказал ему, что господа уехали обратно в Париж. Бирото вернулся домой совершенно разбитый. Рассказав о своих мытарствах жене и дочери, он поражен был тем, что Констанс, встречавшая обычно зловещей птицей малейшую коммерческую неудачу, принялась нежно утешать его, уверяя, что все образуется.
На другой день Бирото в семь часов утра, хотя только еще рассветало, был уже у дома дю Тийе. Вручив швейцару десять франков, он попросил вызвать камердинера. Добившись чести поговорить с этим важным лакеем, он сунул ему в руку два золотых и упросил провести его к банкиру, как только тот проснется. Эти маленькие денежные жертвы и большие унижения, знакомые придворным и просителям, помогли парфюмеру достигнуть цели. В половине девятого его бывший приказчик, зевая и потягиваясь, вышел к нему с заспанным лицом, извинившись, что принимает его в халате. Бирото очутился лицом к лицу с кровожадным тигром, в котором он все еще упорно видел своего единственного друга.
– Пожалуйста, не стесняйтесь, – сказал Бирото.
– Что вам угодно, милейшийЦезарь? – спросил дю Тийе.
С замиранием сердца Бирото передал ему ответ и требования барона де Нусингена; невнимательно слушая его, дю Тийе разыскивал мехи для раздувания огня и бранил лакея, недостаточно быстро растопившего камин.
Лакей прислушивался, и Цезарь, сперва не замечавший этого, в конце концов увидел его любопытную физиономию и смущенно замолчал; но банкир рассеянно бросил:
– Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!
У несчастного Бирото взмокла от пота сорочка. Но его охватил ледяной холод, когда дю Тийе вперил в него пристальный взгляд своих стальных с золотыми прожилками глаз, дьявольский блеск которых пронзил парфюмера до глубины сердца.
– Дорогой патрон, чем же я виноват, что банк отказался учесть ваши векселя, которые переданы Жигонне банкирским домом Клапарона с надписью: «без поручительства»? Как это вас, старого члена коммерческого суда, угораздило попасть впросак? Я прежде всего – банкир. Я могу дать вам денег, но не знаю, примет ли банк мою подпись, и не хочу рисковать. Я существую только благодаря кредиту. Все мы им только и держимся. Хотите денег?
– А можете ли вы дать, сколько мне требуется?
– Зависит от суммы. Сколько вам нужно?
– Тридцать тысяч франков.
– Все шишки на мою голову! – расхохотался дю Тийе.
Услышав этот смех, парфюмер, ослепленный роскошью, окружавшей дю Тийе, подумал, что так может смеяться только богач, для которого подобная сумма – сущий пустяк; он вздохнул с облегчением. Банкир позвонил.
– Попросите сюда ко мне кассира.
– Он еще не приходил, сударь, – ответил лакей.
– Бездельники смеются надо мной! Уже половина девятого, к этому времени можно наворотить дел на миллион франков.
Минут через пять явился Легра.
– Сколько у нас в кассе денег?
– Всего двадцать тысяч. Ведь вы распорядились купить на тридцать тысяч франков ренты с уплатой наличными пятнадцатого.
– Да, правда, я еще не совсем проснулся.
Как-то странно посмотрев на Бирото, кассир вышел.
– Если бы истину изгнали с земли, последнее свое слово она поручила бы сказать кассиру, – заявил дю Тийе. – Не участвуете ли вы в деле, которое открыл недавно маленький Попино? – спросил он после долгого гнетущего молчания, во время которого лоб парфюмера покрылся каплями пота.
– Да, – простодушно ответил Бирото, – а не могли бы вы учесть его векселя на более или менее крупную сумму?
– Принесите мне его векселей на пятьдесят тысяч франков, я помогу вам учесть их под небольшой процент у некоего Гобсека, человека весьма покладистого, когда у него много свободных денег, а их у него всегда вдоволь.
Бирото вернулся домой удрученный, не понимая еще, что банкиры перебрасывали его друг другу, точно мяч; но Констанс уже догадалась, что ни о каком кредите не может быть и речи: если три банкира отказали, все они, стало быть, справлялись о таком видном человеке, как помощник мэра, и рассчитывать на Французский банк больше не приходится.
– Попытайся отсрочить векселя, – сказала она, – пойди к Клапарону, – он твой компаньон; пойди ко всем, у кого есть твои векселя, которым приходит срок пятнадцатого, и попроси отсрочить их. А учесть векселя Попино ты всегда успеешь.
– Завтра тринадцатое! – прошептал совершенно убитый Бирото.
Говоря словами его же собственного проспекта, Бирото обладал сангвиническим темпераментом; волнения и умственное напряжение поглощали у него слишком много сил, восстановить которые мог только сон. Цезарина увела отца в гостиную и, чтобы развлечь его, сыграла «Сновидение Руссо» – прелестную вещицу Герольда, а Констанс села подле мужа с работой. Бедняга уронил голову на подушку дивана и всякий раз, как подымал глаза на жену, видел на губах ее нежную улыбку; так он и уснул.
– Бедняжка! – сказала Констанс. – Сколько ему предстоит пережить терзаний! Только бы у него хватило сил!
– Что с тобой, мама? – спросила Цезарина, заметив, что мать плачет.
– Доченька, я вижу, как надвигается банкротство. Если отцу придется объявить себя несостоятельным, нечего рассчитывать на чью-либо жалость. Будь готова, дитя мое, стать простой продавщицей. Когда я увижу, что ты стойко переносишь удары судьбы, я найду в себе силы начать жизнь сызнова. Твой отец не утаит ни гроша – я знаю его; я также откажусь от своих прав, и все, что у нас есть, пойдет с молотка. Отнеси завтра свои платья и драгоценности к дяде Пильеро, ведь ты, деточка, не несешь никакой ответственности.
Слова эти, сказанные с благочестивым смирением, повергли Цезарину в ужас. Она решилась было повидать Ансельма, но не могла преодолеть своей застенчивости.
На следующий день в девять часов утра Бирото уже был на улице Прованс: теперь его терзала тревога совсем иного рода, чем прежде. Добиваться кредита – самое обычное дело в коммерции. Затевая какое-нибудь предприятие, всегда изыскивают средства; но просьба об отсрочке векселя – это первый шаг к банкротству, и в коммерческой практике он равносилен первому проступку, который в судебной практике ведет виновного сначала в суд исправительной полиции, а затем к уголовному преступлению, подлежащему суду присяжных. Тайна ваших денежных затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосердие – добродетель, которая на бирже не котируется.
Парфюмер, недавно еще с самоуверенным видом расхаживавший по улицам Парижа, был теперь измучен сомнениями и не решался войти в дом Клапарона; он начинал уже понимать, что у банкиров сердце – всего лишь орган кровообращения. Клапарон с его шумной веселостью казался Цезарю таким бесцеремонным и грубым, что парфюмер боялся к нему подступиться.
«Но он ближе к народу и, может статься, будет менее бездушным!» – таков был первый упрек, подсказанный Бирото его отчаянным положением.
Собрав остатки мужества, Цезарь поднялся по лестнице на неприглядные антресоли, в окнах которых успел заметить порыжевшие от солнца зеленые занавески. На прибитой к дверям овальной медной дощечке черными буквами было выгравировано: «Контора»; Бирото постучался, ответа не последовало, и он вошел. Более чем скромное помещение говорило о скудости, скупости или полной заброшенности. За медной решеткой, укрепленной на некрашеном деревянном барьере, стояли почерневшие столы и конторки, но не видно было ни одного служащего. Пустовавшие столы были уставлены чернильницами с заплесневевшими чернилами, а из этих чернильниц высовывались гусиные перья, растрепанные, как вихры уличных мальчишек, или расходящиеся венчиком, как утренние лучи солнца; тут же навалены были никому, видимо, не нужные папки, бумаги и бланки. Паркет походил на пол в приемной пансиона: сырой, грязный, затоптанный. Следующая комната, на двери которой значилось «Касса», вполне соответствовала нелепому и мрачному виду первой. В одном из углов ее находилась большая дубовая загородка с решеткой из медной проволоки и с задвигающимся окошечком; внутри этой клетки стоял огромный железный сундук, в котором, наверное, уже завелись крысы. За открытой дверью виднелся еще какой-то несуразный письменный стол, а перед ним безобразное зеленое кресло с продавленным сиденьем, из которого торчал конский волос, закручиваясь множеством игривых завитков, как кудряшки на парике самого Клапарона. Главным украшением этой комнаты, служившей, очевидно, гостиной до того, как квартиру превратили в контору банка, был круглый стол, покрытый зеленым сукном; вокруг него стояли старые, обитые черной кожей стулья с некогда позолоченными гвоздиками. В довольно изящном по форме камине и на чугунной его доске незаметно было ни малейших следов копоти, которая свидетельствовала бы о том, что этот камин топили. Засиженное мухами зеркало имело самый убогий вид и вполне гармонировало с часами в футляре из красного дерева, приобретенными, вероятно, с торгов на распродаже мебели какого-нибудь престарелого нотариуса; часы эти не радовали взгляда, и без того уже удрученного видом двух канделябров без свечей и густым слоем пыли, покрывавшей все вокруг. Закопченные обои мышино-серого цвета с розовым бордюром указывали на длительное пребывание в комнате заядлых курильщиков. Все здесь напоминало так называемые «редакционные комнаты» в газетах. Боясь быть нескромным, Бирото трижды постучался в дверь, противоположную той, в которую он вошел.
– Войдите! – крикнул Клапарон, и по звуку его голоса можно было судить о том, как далеко он находился и как пуста была соседняя комната, откуда до парфюмера доносилось потрескивание огня в камине, но где самого банкира, очевидно, не было. Комната эта служила Клапарону личным кабинетом. Между пышным кабинетом Келлера и удивительно запущенным жилищем этого мнимого крупного дельца была не меньшая разница, чем между Версалем и вигвамом вождя племени гуронов. Парфюмеру, уже видевшему величие банка, предстояло теперь познакомиться с шутовской на него пародией.
Клапарон лежал на кровати, которая поставлена была в продолговатой нише, устроенной в задней стене кабинета; комната эта была обставлена довольно изящной мебелью, но испорченной, разрозненной, изломанной, ободранной, загрязненной и приведенной в негодность безалаберными привычками хозяина; при виде Бирото Клапарон запахнул засаленный халат, положил трубку и так поспешно задернул полог кровати, что даже наивный парфюмер усомнился в его целомудрии.
– Присаживайтесь, сударь, – сказал мнимый банкир.
Без парика, с головой, криво повязанной каким-то фуляром, Клапарон показался Бирото особенно отвратительным: распахнувшийся на груди халат приоткрыл белую шерстяную фуфайку, ставшую темно-бурой от долгой носки.
– Не хотите ли позавтракать? – спросил Клапарон, вспомнив о бале у парфюмера и желая отблагодарить его этим приглашением за гостеприимство, а заодно и втереть ему очки.
Круглый стол, с которого были наскоро убраны бумаги, красноречиво говорил о недавней пирушке в приятной компании: на нем красовались устрицы, паштет, белое вино и застывшие в соусе почки в шампанском. Горящие в камине угли бросали золотистые блики на яичницу с трюфелями. Наконец два прибора и салфетки в жирных пятнах, оставленных вчерашним ужином, открыли бы глаза самой святой невинности. Несмотря на отказ Бирото, Клапарон продолжал настаивать, как человек, уверенный в своей ловкости.
– Я кое-кого ждал к себе, но гость мой куда-то пропал, – умышленно громко воскликнул хитрый коммивояжер, чтобы его услышала особа, которая зарылась в постели под одеяла.
– Сударь, – сказал Бирото, – я пришел по делу и долго вас не задержу.
– Я завален работой, – отвечал Клапарон, указывая на секретер с задвижной крышкой и на стол с грудами бумаг, – у меня нет минутки свободной. Принимаю я только по субботам, но для вас, дорогой господин Бирото, я всегда дома. Никак не урву времени ни для любви, ни для прогулок по городу; я теряю всякий деловой нюх: чтобы сохранить его, ведь надобно же иногда и побездельничать. А мне не удается даже побродить по бульварам. Опротивели мне дела, и слышать о них больше не желаю; денег с меня хватит, а вот в счастье всегда нехватка. Хотелось бы мне, клянусь честью, поездить по свету, побывать в Италии! Ах, Италия! Вот благодатный край! Прекрасна, наперекор всем превратностям судьбы! Чудесная страна, где ждет меня величавая и томная итальянка! Всю жизнь обожал итальянок! Была у вас когда-нибудь любовница итальянка? Нет? Так поедем со мной в Италию! Мы увидим Венецию – резиденцию дожей; город этот, к несчастью, попал в руки невежественной Австрии, которая ничего не смыслит в искусствах! Баста! бросим все эти государственные дела, займы, каналы. Я – добрый малый, когда у меня туго набиты карманы. Едем же, черт побери, путешествовать!








