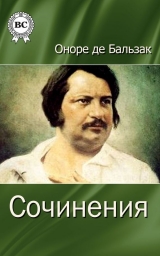
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 65 (всего у книги 86 страниц)
– Эта заурядная голова, – шепнул Мариус Леону, указывая на господина, которого он причесывал, – бакалейщик. Что поделаешь!.. Вздумай я всецело отдаться искусству, мне пришлось бы умереть в Бисетре умалишенным!.. – И, сделав неподражаемый жест, он вернулся к своему клиенту, сказав Регулу: – Получше займись этим господином: судя по всему, он – художник.
– Журналист! – пояснил Бисиу.
Услышав это, Мариус двумя-тремя взмахами гребенки справился с «заурядной головой», бросился к Газоналю и схватил Регула за локоть в ту минуту, когда юноша собирался защелкать маленькими ножницами.
– Я сам займусь этим господином! Взгляните на себя, сударь, – сказал он при этом бакалейщику, – посмотритесь в большое зеркало, если зеркалу будет угодно… Оссиан!
Слуга тотчас явился и помог бакалейщику одеться.
– Заплатите в кассу, сударь, – сказал Мариус растерявшемуся посетителю, который уже вынул кошелек.
– Разве предварительная обработка маленькими ножницами так уж необходима, любезнейший? – спросил Бисиу.
– Как правило, все головы поступают ко мне уже подчищенными, – заявил знаменитый парикмахер, – но из уважения к вам голову этого господина я обработаю целиком. Мои ученики обычно делают головы вчерне, иначе мне бы не управиться. Ведь все твердят, как и вы: «Я хочу, чтобы меня причесал сам Мариус». Я в состоянии давать только окончательную отделку… В какой газете вы изволите сотрудничать, сударь?
– На вашем месте я завел бы трех, а то и четырех Мариусов! – сказал Газональ.
– А, сударь, вы, я вижу, фельетонист! – воскликнул Мариус. – К сожалению, в нашем деле это невозможно! В прическе должна чувствоваться рука ее творца… Простите!
Он отошел от Газоналя, чтобы присмотреть за Регулом, который тем временем взялся за чью-то вновь прибывшую голову. Прищелкнув языком, Мариус издал неодобрительный звук, нечто вроде «тц-тц-тц».
– Да что это, боже милостивый! Что за ломаные линии! Вы не подравниваете волосы, Регул, а кромсаете их! Смотрите!.. Вот как надо! Вы ведь не пуделей стрижете, а людей. Каждый человек чем-нибудь да отличается от других, и если вы вместо того чтобы делить свое внимание между зеркалом и лицом клиента будете смотреть в потолок, вы опозорите мою фирму!
– Вы очень строги, господин Мариус…
– Мой долг – передать им тайны моего искусства.
– Так это искусство? – опрометчиво спросил южанин.
Возмущенный Мариус взглянул на Газоналя в зеркало и застыл, держа в одной руке гребенку, а в другой – ножницы.
– Сударь, вы рассуждаете, как… ребенок. Но ведь, судя по вашему произношению, вы южанин, а юг – край гениальных людей!
– Да, я знаю, что ваше занятие требует особой склонности, – поправился Газональ.
– Замолчите, сударь! От вас-то я этого никак не ожидал! Знайте же, что парикмахера – я не скажу хорошего парикмахера, ибо надо быть парикмахером по призванию или не быть им вовсе… так вот, парикмахера… труднее найти, чем… как бы это получше сказать? – чем… право, не знаю… чем министра! ( Не шевелитесь!) Нет, и этого мало! О даровании министров трудно судить; улицы кишат ими… надо быть Паганини… Нет, и это сравнение слишком слабо!.. Парикмахер, милостивый государь, это человек, который разгадывает вашу душу, ваши привычки: чтобы причесать вас сообразно выражению вашего лица, он должен обладать философским складом ума. А уж что касается женщин!.. Знаете, сударь, женщины дорожат нами, они ценят нас… ценят столь же высоко, как ту победу, которую они намерены одержать в тот день, когда причесываются, чтобы добиться триумфа! Словом, парикмахер!.. никому не дано понять, что такое парикмахер! Возьмите хотя бы меня, уж я-то, пожалуй, отвечаю тому, что… скажу не хвалясь – меня все знают… И все же я считаю, что можно достичь еще большего совершенства… Выполнение – в этом все! Ах! если бы женщины предоставляли нам свободу действий, если бы я мог осуществлять все свои идеи… у меня, видите ли, дьявольское воображение, женщинам за мной не угнаться; у них свои соображения. Не успеешь откланяться, как они уже пальцами или гребнем портят наши чудесные сооружения, которые следовало бы зарисовывать, гравировать и сохранять, ибо, сударь, наши творения живут всего лишь несколько часов… Великий парикмахер – о! ведь это то же, что Карем и Вестрис на своем поприще. ( Будьте любезны, поверните голову – вот так; я делаю височки. Отлично!) Нашу профессию принижают неучи, которые не понимают ни духа времени, ни искусства… Немало есть торговцев париками и жидкостями для ращения волос… У них только одно на уме – как бы продать вам склянку-другую своих снадобий… Жалкое зрелище! Это – торгаши. Эти призренные пачкуны стригут и причесывают, как умеют… Когда я приехал сюда из Тулузы, я стремился к одному – стать преемником великого Мариуса, настоящим Мариусом, работать так, чтобы я один прославил это имя больше, чем четверо моих предшественников. Я сказал себе: победить – или умереть!.. ( Держитесь прямо – сейчас кончаю.) Я первый ввел изящную обстановку, сумел привлечь к моему салону всеобщее внимание. Я пренебрегаю рекламой; то, что стоила бы реклама, я, сударь, предпочитаю тратить на усовершенствования, на изысканность… В будущем году в маленьком салоне у меня будет играть квартет, будут исполняться лучшие музыкальные произведения. Да, клиента надо развлекать, когда его причесывают. Я не обольщаюсь – клиенту это дело в тягость. ( Посмотритесь в зеркало.) Стричься, завиваться, пожалуй, столь же утомительно, как позировать для своего портрета. Быть может, вам, сударь, известно, что знаменитый Гумбольдт (я сумел искусно расположить редкие волосы, оставшиеся у него после Америки; ведь наука, подобно дикарю, превосходно скальпирует тех, кем она завладевает), что этот прославленный ученый говорил: «Быть вздернутым на виселицу – крайне мучительно, но позировать для портрета немногим лучше». Но, по словам некоторых женщин, причесываться – еще мучительнее, чем позировать. А я, сударь, я хочу, чтобы ко мне приходили причесываться ради удовольствия. ( У вас непокорная прядь, разрешите пригладить.) Один еврей предлагал мне итальянских певиц, которые в антрактах выщипывали бы седые волосы молодым людям сорокалетнего возраста; но на поверку эти певицы оказались ученицами консерватории, преподавательницами музыки с улицы Монмартр. Вот теперь, сударь, вы причесаны, как подобает талантливому человеку. Оссиан! – крикнул Мариус лакею в ливрее. – Почистите и проводите! Чья очередь? – спросил он затем, окинув клиентов надменным взглядом.
– Не смейся, Газональ, – сказал Леон двоюродному брату, спустившись с лестницы и обводя глазами площадь Биржи. – Я вижу там одного из наших великих людей, – можешь сравнить его речи с излияниями сего коммерсанта; послушав эту вторую знаменитость, ты скажешь мне, кто из них больший чудак.
– Не смейся, Газональ, – подхватил Бисиу, подражая интонациям Леона. – Как вы думаете – чем занимается Мариус?
– Прическами.
– Он, – продолжал Бисиу, – монополизировал оптовую торговлю волосами, подобно тому как крупный фабрикант паштетов, предлагающий вам за экю баночку сего лакомства, держит в своих руках продажу трюфелей. Он учитывает векселя, обращающиеся в его отрасли торговли, под залог ссужает деньгами своих клиенток, попавших в затруднительное положение, проделывает операции с пожизненной рентой, играет на бирже, состоит акционером всех журналов мод; и, наконец, совместно с неким аптекарем и под его именем промышляет пресловутым снадобьем, приносящим ему тридцать тысяч франков годового дохода; лишь на рекламу этого зелья уходит ежегодно сто тысяч франков.
– Возможно ли это! – воскликнул Газональ.
– Запомните раз навсегда, друг мой, – важно изрек Бисиу, – в Париже нет мелкой торговли; здесь все разрастается, начиная с продажи тряпья и кончая продажей спичек. Продавец прохладительных напитков, встречающий вас с салфеткой под мышкой, возможно, имеет пять-десять тысяч франков годового дохода; официант в ресторане пользуется правом избирать и быть избранным в парламент; человек, которого вы на улице примете, чего доброго, за неимущего, носит в жилетном кармане бриллианты стоимостью в сто тысяч франков, и они не краденые!..
Трое приятелей, в тот день неразлучных, двинулись под предводительством пейзажиста дальше и едва не столкнулись с человеком лет сорока, с орденской ленточкой в петлице, который шел с бульвара по улице Нев-Вивьен.
– О чем ты замечтался, милый Дюбурдье? – спросил Леон, поравнявшись с ним. – Верно, о какой-нибудь прекрасной символической группе?! Любезный кузен, я имею удовольствие представить тебя нашему великому художнику Дюбурдье, не менее знаменитому своим талантом, чем своими гуманитарными убеждениями… Дюбурдье – мой кузен Палафокс!
Дюбурдье, человек невысокого роста, бледный, с грустными голубыми глазами, слегка кивнул Газоналю, который почтительно склонился перед гением.
– Итак, вы избрали Стидмана на место…
– Посуди сам – что же я мог сделать? Я был в отсутствии… – ответил прославленный пейзажист.
– Вы подрываете престиж Академии, – продолжал художник. – Избрать такого человека… Я не хочу сказать о нем ничего дурного, но ведь он ремесленник!.. Куда же вы приведете первое из всех искусств – то, чьи творения сохраняются дольше всех других, которое воскрешает народы после того, как в мире изгладилась самая память о них, которое увековечивает образы великих людей! Скульптура – ведь это служение святыне! Она обобщает идеи своей эпохи, а вы избрали человека, кропающего мещанские памятники и аляповатые камины, вы возвеличили поставщика безвкусной лепки, торгаша, которому не место в храме! Ах, правильно говорил Шамфор: чтобы выносить жизнь в Париже, нужно каждое утро проглатывать ядовитую змею… К счастью, у нас остается искусство; никто не может воспретить нам служить ему…
– Кроме того, друг мой, – сказал Бисиу, – у вас есть еще одно утешение, доступное лишь немногим художникам: будущее принадлежит вам! Когда мир примет вашеучение, вы возглавите ваше искусство, ибо вы вкладываете в него идеи, которые станут понятными… после того как получат всеобщее распространение! Лет через пятьдесят вы будете для всего мира тем, чем являетесь теперь только для нас, – великим человеком! Требуется лишь одно – неуклонно идти к цели!
– Совсем недавно, – начал Дюбурдье, блаженно улыбаясь, как улыбается человек, когда ему дали наконец сесть на своего конька, – я закончил аллегорическое изображение Гармонии, и, если вы зайдете посмотреть картину, вам сразу станет понятно, почему мне пришлось работать над ней целых два года. Там есть все! Стоит только взглянуть на мою картину, и вы постигнете судьбы вселенной. Повелительница держит в руке пастушеский жезл, символ размножения полезных для человечества животных пород. На голове у нее – фригийский колпак, ее груди – с шестью сосцами, как на египетских изображениях, ибо египтяне предвосхитили Фурье; ноги ее покоятся на двух скрещенных руках, охватывающих земной шар, – знак братства всех племен человеческих; она попирает разбитые пушки – это символизирует уничтожение войн; наконец, я стремился выразить в ее образе величие восторжествовавшего земледелия… Кроме того, я поместил подле Гармонии исполинский кочан капусты, так как, по словам нашего учителя, капуста олицетворяет согласие. О, Фурье заслужил право на уважение не только потому, что вновь признал за растениями способность мыслить, но и потому, что, разгадав сокровенное значение всех существ и предметов и общий им всем язык природы, он тем самым раскрыл нити, связующие воедино все мироздание. Спустя сто лет мир будет несравненно более обширен, чем сейчас.
– Как же это будет достигнуто, сударь? – спросил Газональ, ошеломленный тем, что все эти мысли излагает человек, не находящийся в сумасшедшем доме.
– Путем расширения производства. Если решатся применить его «Систему», то, по всей вероятности, станет возможно воздействовать на звезды…
– А что тогда произойдет с живописью? – полюбопытствовал Газональ.
– Она станет еще более великой.
– А глаза наши тоже увеличатся? – спросил Газональ, выразительно взглянув на своих друзей.
– Человек опять станет таким, каким он был до измельчания рода людского; шесть футов будет считаться карликовым ростом.
– А что, – спросил Леон, – твоя картина закончена?
– Совершенно, – ответил Дюбурдье. – Я добился встречи с Икларом и просил его написать симфонию на ту же тему; мне хочется, чтобы люди, созерцая мое творение, в то же время слушали музыку в духе Бетховена, которая развивала бы те же идеи, и тогда они внедрялись бы в умы двояким способом. Ах! Если бы правительство согласилось предоставить мне один из залов Лувра…
– Что ж, я могу поговорить об этом: если хочешь поразить умы, не следует пренебрегать ничем…
– О! мои друзья уже готовят статью, боюсь только, как бы они не зашли слишком далеко…
– Полноте! – прервал Бисиу. – Они все же не зайдут так далеко, как будущее…
Дюбурдье исподлобья взглянул на Бисиу и пошел своей дорогой.
– Да ведь это сумасшедший! – вскричал Газональ. – Над ним властвуют фазы луны.
– У него есть способности, есть уменье… – пояснил Леон, – но фурьеризм погубил его. Вот тебе, кузен, живой пример того, как честолюбие действует на художников. Мы в Париже часто наблюдаем, как живописец или скульптор, жаждущий быстрее, чем это возможно естественным путем, достичь славы и тем самым богатства, начинает вдохновляться веяниями времени; эти люди хотят возвеличиться, примкнув к какому-нибудь модному движению, сделавшись сторонниками какой-нибудь «Системы», и надеются, что тесный кружок их приверженцев превратится затем в широкую публику. Один из них – республиканец, другой – сенсимонист, третий – аристократ, четвертый – католик, кое-кто придерживается политики «золотой середины», иные восхваляют средневековые и немецкие идеи. Но если никакая доктрина не может наделить художника талантом, то погубить талант она вполне способна. Наглядный тому пример – бедняга, которого вы только что видели. Вера в свое творчество – вот что должно быть убеждением художника, и единственный для него путь к успеху – труд, если природа вдохнула в его душу священный огонь.
– Бежим! – вскричал Бисиу. – Леон проповедует мораль.
– А тот человек действительно верит в то, что говорит? – спросил все еще охваченный смятением Газональ.
– Искренне верит, – ответил Бисиу, – так же искренне, как наш недавний знакомый – король брадобреев.
– Он безумец! – воскликнул Газональ.
– А ведь он не единственный, кого идеи Фурье свели с ума, – заметил Бисиу. – Вы совершенно не знаете Парижа. Просите здесь сто тысяч франков, чтобы претворить в жизнь идею, сулящую человечеству неисчислимую пользу, чтобы создать что-нибудь вроде паровой машины, – и вы умрете, как Соломон де Ко, в Бисетре. Но если дело касается какого-нибудь парадокса, люди с радостью приносят в жертву и себя, и свое состояние. Знайте – с доктринами в Париже дело обстоит совершенно так же, как со всем остальным. За последние пятнадцать лет газеты, распространяющие самые невероятные учения, поглотили здесь миллионы. Вам так трудно выиграть процесс, потому что если ваши доводы и разумны, то префект, по вашим словам, имеет на своей стороне тайные преимущества.
– Теперь ты понял, – обратился Леон к своему кузену, – что, постигнув нравственную природу Парижа, умный человек уже не может жить в другом месте?
– А не свезти ли нам кузена Газоналя к старухе Фонтэн? – предложил Бисиу, знаком подзывая наемную карету. – Это разом перенесет его из суровой действительности в мир фантастики. Кучер! На улицу Вьей-дю-Тампль!
И они втроем покатили в квартал Марэ.
– Что вы мне покажете сейчас? – полюбопытствовал Газональ.
– Доказательство того, о чем тебе говорил Бисиу, – ответил Леон, – женщину, которая добывает двадцать тысяч франков в год, умело пользуясь некоей идеей.
– Гадалку, – пояснил Бисиу, истолковав недоуменный взгляд южанина как вопрос. – Среди тех, кто жаждет узнать будущее, госпожа Фонтэн слывет гораздо более сведущей, нежели покойная мадмуазель Ленорман.
– Должно быть, она очень богата! – воскликнул Газональ.
– Пока существовала лотерея, – сказал Бисиу, – она была жертвой своей идеи; ведь в Париже крупным доходам всегда соответствуют крупные расходы. Здесь в каждой умной голове непременно заводится какая-нибудь блажь, которая служит как бы предохранительным клапаном для избытка фантазии. Здесь у всех, кто загребает большие деньги, всегда бывают либо пороки, либо причуды; наверно, так нужно для равновесия.
– А сейчас, когда лотерея упразднена? – спросил Газональ.
– Ну что ж? У нашей гадалки есть племянник, она копит для него деньги.
Друзья подъехали к одному из самых старых домов улицы Вьей-дю-Тампль; по лестнице с расшатанными ступеньками и липкими от наслоившейся грязи перилами, в полумраке и удушливой вони, обычной в домах со сквозным проходом, они поднялись на четвертый этаж и остановились у двери, изобразить которую можно только рисунком; писателю пришлось бы потратить слишком много ночей, чтобы надлежаще описать ее словами.
Старуха, вполне соответствовавшая этой двери, – возможно, то была дверь, обретшая жизнь, – провела трех друзей в комнату, видимо, служившую прихожей; хотя на улицах Парижа в тот день было жарко, здесь их сразу охватил ледяной холод могильного склепа. В комнату проникал промозглый воздух внутреннего двора, похожего на огромную отдушину; подоконник был уставлен чахлыми растениями. В этой клетушке с осклизлыми, покрытыми жирной копотью стенами все – стол, стулья – имело нищенский вид. Стекла, едва пропускавшие тусклый свет, запотели, как охладительные сосуды. Словом, все до последней мелочи было под стать одетой в отрепья отвратительной старухе с бледным лицом и крючковатым носом. Предложив посетителям присесть, она предупредила их, что к мадамвходят только поодиночке.
Прикинувшись смельчаком, Газональ отважно вошел первым и увидел перед собой одну из тех женщин, которых смерть как будто намеренно щадит, верно, для того, чтобы оставить среди живых несколько слепков с самой себя. На иссохшем лице старухи сверкали серые глаза, утомлявшие своей неподвижностью; приплюснутый нос был испачкан табаком; костяшки, исправно приводимые в движение бугристыми мускулами, изображали руки; они тасовали карты, но так вяло, что казалось – перед вами машина, которая вот-вот остановится. Туловище, похожее на помело, приличия ради прикрытое платьем, обладало преимуществом неорганической природы: оно не шевелилось. Голову старухи венчал черный бархатный чепец. Справа от г-жи Фонтэн – это существо действительно было женщиной – сидела черная курица, слева – толстая жаба, звавшаяся Астартой, которую Газональ сперва не заметил.
Эта огромная жаба пугала не столько своим видом, сколько глазами: два топаза, величиной с монету в пятьдесят сантимов каждый, светились, словно две ярко горящие лампы. Этот взгляд был непереносим. Как говорил несчастный Ласайи, который, умирая в глуши, до последнего издыхания боролся с жабой, опутавшей его колдовскими чарами, жаба – неразгаданное существо. Быть может, она суммирует собой все живое в природе, включая человека, ибо, утверждал тот же Ласайи, жаба живет бесконечно долго. Известно, что брачный период у нее более продолжителен, чем у всей прочей твари.
Клетка черной курицы помещалась на расстоянии двух футов от стола, покрытого зеленой скатертью; курица расхаживала по дощечке, служившей как бы подъемным мостом между столом и клеткой.
Когда старуха, наименее реальное из всех существ, находившихся в этой словно созданной фантазией Гофмана конуре, сказала Газоналю: «Снимайте!» – почтенного фабриканта невольно проняла дрожь. Тайна грозной силы таких особ – в значительности того, что мы хотим узнать от них. К ним приходят за надеждой, и они это отлично знают.
Пещера прорицательницы была еще сумрачнее прихожей, здесь нельзя было даже различить цвет обоев. Закопченный потолок не только не отражал скудный свет, падавший в окно, заставленное хилыми, бледными растениями, а поглощал большую часть его; но в этом полумраке отчетливо был виден стол, за которым расположилась ворожея. Этот стол, кресло старухи и кресло, в котором сидел Газональ, составляли всю меблировку комнаты, разделенной пополам антресолями, где г-жа Фонтэн, вероятно, ютилась ночью. Из-за низенькой приоткрытой двери слышалось бульканье кипевшей на огне похлебки. Этот связанный с кухней звук, густой запах еды и зловоние сточного желоба совсем некстати пробуждали в уме, сосредоточенном на явлениях сверхъестественных, мысль о потребностях реальной жизни. К любопытству примешивалось отвращение. Газональ заметил ступеньку некрашеного дерева, по-видимому, последнюю ступеньку внутренней лестницы, которая вела на антресоли. Он одним взглядом подметил все эти мелочи, и его затошнило. Все это было несравненно страшнее, чем вымыслы романистов и сцены из немецких драм; эта картина дышала ужасающей правдой. Спертый воздух вызывал головокружение, темнота болезненно раздражала нервы. Когда Газональ, движимый своего рода фатовством, взглянул на жабу, он ощутил под ложечкой жжение, предвещающее рвоту, и вдобавок – тот мучительный страх, который охватывает преступника при виде жандарма. Он пытался ободрить себя, всматриваясь в г-жу Фонтэн, но не мог выдержать устремленного на него взгляда белесых глаз с неподвижными ледяными зрачками. Тогда молчание стало страшным.
– Что вам угодно, сударь? – спросила г-жа Фонтэн. – Гадание за пять франков, за десять франков или большое гадание?
– Гадание за пять франков – и то уж очень дорого, – ответил Газональ, делая нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться воздействию окружающей обстановки.
В ту минуту, когда он попытался сосредоточиться, какие-то дьявольские звуки заставили его подскочить в кресле: это закудахтала черная курица.
– Уйди, доченька, уйди, этот господин не хочет тратить больше пяти франков. – Казалось, курица поняла свою хозяйку: она уже подошла было совсем близко к картам и степенно вернулась на свое место.
– Какой ваш любимый цветок? – спросила старуха голосом, в котором клокотала мокрота, непрерывно душившая ее.
– Роза.
– Какой цвет вам наиболее приятен?
– Голубой.
– Какое животное вы предпочитаете всем другим?
– Лошадь. Но к чему все эти вопросы? – спросил в свою очередь Газональ.
– Те состояния человека, которые предшествовали нынешнему его бытию, связывают его со всем живущим, – наставительно изрекла старуха. – Здесь – источник его инстинктов, а инстинкты определяют его судьбу. Что вы едите охотнее всего: рыбу, дичь, мучное, говядину, сласти, овощи или фрукты?
– Дичь.
– В каком месяце вы родились?
– В сентябре.
– Покажите вашу руку.
Госпожа Фонтэн очень внимательно рассмотрела линии руки Газоналя. Все это она проделала серьезно, без колдовских ухищрений, столь же естественно, как нотариус, прежде чем составить деловую бумагу, расспрашивает своего клиента о его намерениях. Старуха долго тасовала карты; затем она предложила Газоналю снять и разделить их на три кучки; снова взяла карты, разложила их рядами и рассмотрела так внимательно, как игрок разглядывает все тридцать шесть номеров рулетки, прежде чем поставить на один из них. Газональ весь похолодел: он уже не соображал, где находится; но его изумление достигло предела, когда страшная старуха в зеленом засаленном мешковатом капоте, с накладными буклями, в которых было гораздо больше черных ленточек, чем волос, завивавшихся наподобие вопросительных знаков, стала сиплым от одышки голосом выкладывать ему все, даже тщательно скрываемые им события его прошлой жизни; она точно определила его вкус, характер, привычки, упомянула даже, о чем он мечтал в детстве, рассказала обо всем, что могло иметь на него влияние, о его несостоявшейся женитьбе и о том, почему так случилось; точно изобразила женщину, которую он некогда любил, и, наконец, сообщила, откуда он приехал, из-за чего судится, и так далее.
Газональ сперва предположил, что все это – подстроенная кузеном Леоном мистификация; но едва ему явилась эта мысль, как он уже понял всю нелепость такого заговора и застыл в изумлении перед поистине дьявольской силой, воплощенной в существе, обладавшем лишь теми чертами человеческого облика, которые воображение художников и поэтов во все времена считало самыми отталкивающими, – в уродливой, страдающей одышкой старушонке, беззубой, с бескровными губами, приплюснутым носом, белесыми глазами. Теперь в зрачках г-жи Фонтэн горела жизнь, в них искрился луч света, пробившийся из глубин будущего или из преисподней. Прервав старуху, Газональ невольно спросил, для чего ей нужны курица и жаба.
– Чтобы предсказывать будущее. Посетитель сам, наудачу, рассыпает зерна по картам. Клеопатра склевывает их; Астарта ползает рядом в поисках пищи, которую ей бросает посетитель, и оба эти поразительно умные существа никогда еще не ошибались, не хотите ли посмотреть их за работой? Вы узнаете будущее. Цена – сто франков.
Газональ, устрашенный взглядом Астарты, поклонился зловещей г-же Фонтэн и опрометью бросился в прихожую. Он был весь в поту; ему чудилось, что он побывал в когтях у самого дьявола.
– Уйдем скорей! – крикнул он обоим художникам. – А сами-то вы обращаетесь когда-нибудь к этой ведьме?
– Я не берусь ни за одно важное дело, не узнав предварительно мнения Астарты, и никогда еще в этом не раскаивался, – ответил Леон.
– А я жду приличного состояния, которое мне посулила Клеопатра, – подхватил Бисиу.
– Меня бросает то в жар, то в холод! – вскричал южанин. – Если я поверю в то, что вы говорите, я должен буду уверовать в колдовство, в сверхъестественную силу!
– Что ж, это было бы вполне естественно, – заметил Бисиу. – Среди лореток – каждая третья, среди политических деятелей – каждый четвертый, добрая половина художников советуются с госпожой Фонтэн. Известно даже, что она служит Эгерией одному из министров.
– Она предсказала тебе будущее? – спросил Леон.
– Нет, хватит с меня прошлого. Но если она может с помощью своих страшных помощников предсказывать будущее, – продолжал Газональ, пораженный блеснувшей у него мыслью, – то как же она могла проигрывать в лотерее?
– А! Ты затронул одну из величайших тайн оккультных наук, – ответил Леон. – Стоит только тому внутреннему зеркалу, в котором для этих людей отражается будущее и прошлое, хоть слегка замутиться от дуновения личного чувства или мысли, чуждой той силе, которую они приводят в действие, как ворожей или ворожея теряют способность видеть сокрытое, так же как художник, привносящий в свое творчество политические или деловые соображения, теряет свой талант. Не так давно человек, обладавший даром предсказывать по картам, соперник старухи Фонтэн, занимавшийся преступными делами, не сумел верно погадать самому себе и заблаговременно узнать, что его арестуют, предадут суду присяжных и осудят. Госпожа Фонтэн, из десяти раз восемь правильно предсказывающая будущее, не могла предугадать, что она в лотерее проиграется в пух и прах.
– Так же обстоит дело и с магнетизмом, – заметил Бисиу. – Нельзя замагнетизировать самого себя.
– Ну вот! договорились до магнетизма! – вскричал Газональ. – Да вы, видно, знаете все на свете!
– Друг мой Газональ, – с важным видом изрек Бисиу, – чтобы иметь право смеяться надо всем, нужно все знать. Что касается меня, я живу в Париже с детства, и мой карандаш кормит меня здесь за счет смешного: пять карикатур в месяц… Вот мне и приходится зачастую высмеивать многое, во что я сам верю!
– Перейдем к иного рода упражнениям, – предложил Леон, – отправимся-ка в палату; там мы устроим дело кузена.
– Вот это уж относится к области высокой комедии, – сказал Бисиу, подражая тону Одри и Гайара; мы разыграемпервого же оратора, который нам встретится, и вы убедитесь, что в палате, как и повсюду, парижскому говору свойственны только два ритма: корысть и тщеславие.
Когда они снова усаживались в карету, Леон обратил внимание на мчавшийся мимо кабриолет и знаком руки дал седоку понять, что хочет поговорить с ним.
– Это Публикола Массон, – сказал он Бисиу. – Я хочу попросить его прийти ко мне в пять часов, после заседания палаты. Кузен увидит самого невероятного из всех чудаков…
– Кто это? – осведомился Газональ, пока Леон беседовал с Публиколой Массоном.
– Педикюрщик, автор сочинения об уходе за телом; вы можете абонироваться у него на удаление мозолей; если республиканцы будут у власти хотя бы полгода, он, несомненно, обессмертит себя.
– И он разъезжает в экипаже! – воскликнул Газональ.
– Но, друг мой, в Париже только у миллионеров хватает времени ходить пешком.
– В палату! – крикнул Леон кучеру.
– В какую, сударь?
– Депутатов, – пояснил Леон, обменявшись улыбкой с Бисиу.
– Париж начинает меня подавлять, – признался Газональ.
– Для того чтобы вы постигли его грандиозность в смысле нравственном, политическом и литературном, мы теперь будем действовать, как римские чичероне, показывающие вам на крыше собора святого Петра палец статуи; снизу вам представлялось, что это палец обыкновенных размеров, а вблизи он оказывается величиной в целый фут. Вы пока еще не измерили ни одного пальца Парижа! И заметьте, кузен Газональ, мы берем то, что попадается по пути, не выбирая!
– Вечером, – прибавил Леон де Лора, – ты будешь на валтасаровом пиру и увидишь тот Париж, где вращаемся мы; тех, кто, играя в ландскнехт, ставит на карту, не моргнув глазом, сто тысяч франков.
Минут через пятнадцать карета остановилась перед широкой лестницей палаты депутатов, у той стороны моста Согласия, которая ведет к несогласию.
– А я-то думал, что в палату невозможно проникнуть… – сказал изумленный южанин, очутившись в большом зале, расположенном перед залом заседаний.
– Как сказать, – ответил Бисиу, – чтобы побывать здесь, достаточно истратить тридцать су на кабриолет; чтобы заседать здесь, требуются гораздо большие издержки. По словам одного поэта, ласточки воображают, что Триумфальную арку на площади Этуаль воздвигли для них; так и мы, художники, воображаем, что это монументальное здание воздвигли для того, чтобы возместить бездарность Французской комедии и дать нам повод посмеяться вволю. Но здешние комедианты обходятся намного дороже и не каждый день дают нам занимательные спектакли.
– Так вот она, палата!.. – повторял Газональ, расхаживая по залу, где в то время находилось человек десять, и разглядывая все с таким видом, что Бисиу запечатлел провинциала в своей памяти для одной из тех замечательных карикатур, которыми он соперничает с Гаварни.
Леон подошел к одному из служителей, беспрестанно снующих между этим залом и залом заседаний; эти помещения соединены кулуаром, где обычно находятся стенографы «Монитера» и некоторые лица, служащие в палате.








