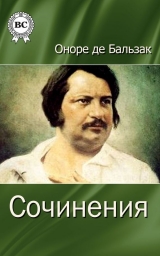
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 86 страниц)
– Да, сударь, – продолжал Молине, – кончилось тем, что мне пришлось обратиться к господину префекту полиции (я воспользовался случаем и сказал ему несколько слов о необходимости изменения законов в этой области), и он разрешил мне носить пистолеты для ограждения моей личной безопасности.
Старикашка встал, чтобы взять пистолеты.
– Вот они, сударь! – воскликнул он.
– Но, сударь, вы можете не опасаться подобных выходок с моей стороны, – сказал, улыбнувшись, Бирото, и во взгляде, брошенном им на Кейрона, явственно читалась презрительная жалость к Молине.
Старик перехватил этот взгляд и был глубоко оскорблен таким отношением со стороны представителя муниципалитета, который обязан защищать своих подопечных. Кому-нибудь другому он бы еще простил, но не Бирото.
– Сударь, – продолжал он сухим тоном, – один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, помощник мэра, именитый купец не интересуется, конечно, подобными мелочами, ибо это мелочи! Но в данном случае необходимо получить согласие вашего домовладельца графа де Гранвиля на пролом стены, необходимо договориться об условиях восстановления стены по окончании срока найма; наконец, сейчас квартирная плата крайне низка, но она возрастет, квартиры на Вандомской площади вздорожают, они уже сейчас дорожают! Проложат улицу Кастильоне! Я себя связываю… связываю…
– Давайте кончать, – промолвил озадаченный Бирото, – сколько вы просите? Я сам деловой человек и понимаю, что все доводы бледнеют перед высшим доводом – деньгами! Итак, сколько вы просите?
– Справедливую цену, господин помощник мэра. На сколько лет снимаете вы квартиру?
– На семь лет, – ответил Бирото.
– Воображаю, сколько через семь лет будет стоить мой второй этаж! – воскликнул Молине. – Какую цену мне предложат за две меблированные комнаты в таком квартале? Пожалуй, не пожалеют и двухсот франков в месяц, а то и больше. А договором я себя связываю, связываю по рукам и ногам. Ну, пусть будет полторы тысячи франков в год. За эту цену я согласен выделить две комнаты из квартиры господина Кейрона, – сказал он, бросая косой взгляд в сторону торговца, – я подписываю с вами договор на семь лет. Пролом стены идет за ваш счет, если граф де Гранвиль даст свое согласие и откажется от всяких претензий. Вы несете ответственность за последствия этого пролома, я принимаю на себя обязательство восстановить стену, но в виде возмещения вы уплатите мне пятьсот франков: мы все под богом ходим, я не желаю никому кланяться и просить, чтобы мне восстановили стену.
– Условия эти для меня, пожалуй, более или менее приемлемы, – согласился Бирото.
– Теперь дальше, – продолжал Молине, – вы мне отсчитаете hic et nuncсемьсот пятьдесят франков, зачисляемые в уплату за последние полгода, в чем я выдам вам расписку. Э, дабы не потерять гарантий, я согласен принять векселя на небольшие суммы, так называемые квартиронанимательские векселя на какой угодно срок. В делах я сговорчив, тянуть нам не к чему. Итак, по рукам, да еще обусловим, что вы заделаете дверь на мою лестницу и отказываетесь от всяких прав на нее… и на свои средства… закладываете ее кирпичом. Будьте спокойны, я не потребую возмещения расходов по разборке кирпича после истечения срока договора; я включаю их в те же пятьсот франков. Вы увидите, сударь, как я справедлив.
– Мы, коммерсанты, не столь мелочны, – заметил парфюмер, – с такими формальностями дела не сладишь.
– Ах, торговля – статья особая, а тем паче парфюмерия, там все идет как по маслу, – с кислой улыбкой проговорил Молине. – Но в квартирных делах, сударь, в Париже ничего нельзя упускать. К примеру, есть у меня жилец на улице Монторгей…
– Сударь, – перебил его Бирото, – мне очень неприятно, что я мешаю вам завтракать; оставляю вам договор, просмотрите его, я согласен на все ваши требования; подпишем его завтра, а сегодня договоримся окончательно на словах; утром архитектор должен приступить к работе.
– Сударь, – продолжал Молине, поглядывая на торговца зонтиками, – у господина Кейрона истек срок платежа, а он не собирается платить, мы присоединим его обязательства к остальным векселям, и расчеты поведем с января по январь. Так будет удобнее.
– Будь по-вашему, – согласился Бирото.
– Швейцару за услуги, как водится…
– За что же? – возмутился Бирото. – Ведь вы лишаете меня права пользоваться лестницей и парадным… Это несправедливо.
– Но ведь вы квартиронаниматель, – решительно заявил маленький Молине, усевшийся на своего конька, – вы платите налоги на двери и окна, так несите и долю расходов по дому. Когда обо всем договоришься, сударь, все идет гладко. Вы расширяете свою квартиру, значит, дела у вас идут хорошо?
– Неплохо, – подтвердил Бирото. – Но квартиру я расширяю по другой причине. Я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.
– А! – воскликнул Молине. – Заслуженная награда!
– Да, – заметил Бирото, – быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном; эти заслуги…
– Стоят подвигов славных солдат нашей армии. Орденская ленточка – красная, ибо она обагрена кровью.
Фраза эта, взятая из газеты «Конститюсьонель», польстила Бирото, и он пригласил Молине на бал. Старик рассыпался в изъявлениях благодарности и почти готов был простить парфюмеру его презрение. Он проводил своего нового квартиранта до лестницы, наговорив ему немало любезностей. Уже во дворе Бирото насмешливо взглянул на Кейрона.
– Я и не подозревал, – сказал он, – что существуют такие жалкие люди! – с языка у него чуть не сорвалось слово «глупые».
– Ах, сударь, – проговорил Кейрон, – не всем же обладать вашими талантами.
Бирото мог легко поверить в собственное превосходство, особенно после встречи с Молине; замечание торговца зонтиками вызвало у него довольную улыбку, и он величественно распрощался с Кейроном.
«Вот и рынок, – подумал Бирото, – займемся орешками».
Побродив бесплодно с час по рынку, Бирото, по совету торговок, отправился на Ломбардскую улицу, где продаются орехи для кондитерских изделий; там от своих друзей Матифа он узнал, что оптовую торговлю орехами ведет некая Анжелика Маду, проживающая на улице Перрен-Гасслен, и что только у нее можно найти настоящие лесные орехи и сочные белые орешки Альпийских гор.
Улица Перрен-Гасслен представляет собой разветвление лабиринта, который расположен в четырехугольнике, образуемом набережной и улицами Сен-Дени, Ферронри и Монне, и является как бы чревом Парижа. Сюда стекаются самые разнообразные товары, все свалено в кучу – вонючие селедки и изящный муслин, шелк и мед, масло и тюль; тут полным-полно маленьких лавчонок, о которых и не подозревает Париж, как не подозревает большинство людей о работе поджелудочной железы. Пиявкой, высасывающей все соки из этих торговых заведений, был некто Бидо по прозванию Жигонне, дисконтер с улицы Гренета. Бывшие конюшни заставлены здесь бочками с маслом, каретные сараи доверху набиты кипами бумажных чулок. Здесь находятся оптовые склады всякой снеди, продаваемой в розницу на Центральном рынке. Анжелика Маду, в прошлом торговка рыбой, лет десять назад занялась торговлей «сухими плодами»; она вступила тогда в связь с одним продавцом орехов, чем долго занимала сплетниц Центрального рынка; некогда она была статной, видной женщиной, но с годами чрезмерно располнела. Жила она в первом этаже желтого полуразвалившегося дома, который подпирали железные крестовины. Покойный сожитель ее умудрился отделаться от всех конкурентов и превратил свою торговлю в монополию; невзирая на кое-какие погрешности в образовании, у преемницы его хватило умения продолжать уже налаженное дело; она расхаживала по своим складам, занимавшим каретные сараи, конюшни и бывшие мастерские, успешно воюя там с насекомыми. У нее не было ни конторы, ни кассы, ни счетных книг, ибо она не умела ни читать, ни писать; на письма, которые она принимала как личное оскорбление, тетка Маду отвечала ударом кулака. Впрочем, это была славная краснощекая женщина; поверх чепца она надевала платок, а своим трубным голосом завоевала уважение ломовых извозчиков, привозивших ей товар; перебранки с ними она заливала белым винцом. Она не знала никаких недоразумений с крестьянами, продававшими ей орехи за наличный расчет, – то был единственный способ столковаться с ними, а летом тетка Маду отправлялась к ним погостить. Бирото нашел эту первобытную торговку среди мешков с лесными и грецкими орехами и каштанами.
– Добрый день, мамаша, – небрежно сказал Бирото.
– «Мамаша»! – возмутилась она. – Ишь ты какой ласковый! Что мы с тобой, детей вместе крестили?
– Я парфюмер, больше того, я помощник мэра второго округа Парижа. Как представитель власти и покупатель я требую вежливого обращения.
– Венчаюсь я и без вашей помощи, – заявила бой-баба, – в ратуше ничего не покупаю, помощникам мэра ничем не надоедаю. Покупатели мне кланяются, и разговариваю я с ними, как мне угодно. А кому не нравится – скатертью дорога!
– Вот плоды монополии! – проворчал Бирото.
– Пополь? Мой крестник! Неужто он набедокурил? Вы поэтому и пожаловали, милостивый государь? – сказала торговка уже чуть-чуть ласковее.
– Нет, я уже имел честь вам доложить, что пришел как покупатель.
– Ладно, как звать тебя, любезный? Я тебя вижу вроде как впервые.
– Видно, дешево вы продаете орехи, если так разговариваете с покупателями, – заметил Бирото и назвал свою фамилию и звание.
– Ага, так это вы знаменитый Бирото, у которого жена красавица. Сколько же вам надо сахарных орешков, дорогой мой?
– Шесть тысяч фунтов.
– Да это все мои запасы, – сказала торговка, хрипя, как осипшая флейта. – Вы, красавец мой, видно, не ленитесь: и замуж девиц выдаете, и духами их прыскаете. Ну, помогай вам бог! Без дела, знать, не сидите. Так-то! Уж таким покупателем, как вы, гордиться буду, и вы займете место в сердце женщины, которая мне всех дороже…
– Какой женщины?
– Добрейшей госпожи Маду.
– Сколько стоят ваши орехи?
– Только для вас, хозяин, – по двадцать пять франков за сто фунтов, если все забираете.
– По двадцать пять франков, – повторил Бирото, – это выйдет полторы тысячи франков! А мне потребуется, возможно, сотни тысяч фунтов в год.
– Вы только взгляните, что за товар. Отборные! – заговорила она, запуская красную руку в мешок с лесными орехами. – И ни одной гнилушки, сударь. Сами подумайте, бакалейщики продают сплошной мусор по двадцать четыре су за фунт, и на четыре фунта подсунут фунт гнилушек. Не нести же мне убытки в угоду вам? Вы, конечно, красавец мужчина, но еще не вскружили мне настолько голову! Коли вам так много надо, сговоримся на двадцати франках; нельзя же отпускать помощника мэра с пустыми руками, этак еще беду на новобрачных накличешь. Вы только пощупайте, что за товар, какой полновесный! И пятидесяти на фунт не пойдет, сочные все, без единой червоточинки!
– Ладно, пришлите мне шесть тысяч фунтов. Плачу тысячу двести франков; деньги – через три месяца. Улица Фобур-дю-Тампль, завтра утром, прямо ко мне на фабрику.
– Поспешу, как невеста к венцу. Всего хорошего, господин мэр, не поминайте лихом. А лучше уж, – прибавила она, провожая Бирото через двор, – выдали бы вы мне векселя сроком на сорок дней, я и так вам много уступила, зачем же мне терять еще на учете! Хоть у папаши Жигонне и доброе сердце, а высасывает он из нас всю кровь, словно паук.
– Так и быть, векселя на пятьдесят дней! Только уговор, взвешиваем не больше, чем по сто фунтов за раз, чтобы не попадались гнилушки. Иначе дело не пойдет.
– Ишь, собака, такого не проведешь, – проворчала Маду, – и против шерсти не погладишь! Видно, научили его прохвосты с Ломбардской улицы. Эти матерые волки сговорились пожирать нас, бедных овечек.
Овечка была пяти футов ростом, трех футов в обхвате и походила на тумбу, на которую натянули полосатое бумажное платье без пояса.
Парфюмер шел по улице Сент-Оноре, строя планы, измышляя способы борьбы с «Макассарским маслом», придумывая наклейки, форму флаконов и пробок, цвет объявлений. А еще говорят, что торговля лишена поэзии! Ньютон меньше думал над своим знаменитым биномом, чем Бирото над «Комагенной эссенцией», – масло уже превратилось в эссенцию, он переходил от одного названия к другому, не понимая их смысла.
Различные проекты роились в его голове, и он принимал это переливание из пустого в порожнее за творческую деятельность. Поглощенный своими мыслями, он не заметил, как миновал улицу Бурдонне и вынужден был вернуться назад, вспомнив о дяде.
Клод-Жозеф Пильеро, торговавший раньше скобяными товарами в лавке «Золотой колокол», был цельной натурой: платье и нрав, ум и сердце, слова и мысли – все соответствовало в нем одно другому. Он был единственным родственником г-жи Бирото и всю свою привязанность сосредоточил на ней и Цезарине, после того как, будучи еще торговцем, потерял жену и сына, а затем – и приемыша, сына кухарки. Жестокие утраты заставили старика обратиться к христианскому стоицизму, и превосходная эта доктрина озаряла ярким и холодным светом зимнего солнца закат его жизни. Его худое, строгое и темное лицо, в тонах которого гармонически сочетались охра и бистр, поразительно напоминало черты бога Времени, – как его изображают живописцы; но укоренившиеся привычки торговца несколько огрубили этот облик и смягчили монументальный, суровый характер божества, который подчеркивают художники, ваятели и ювелиры, украшая каминные часы. Среднего роста, коренастый и плотный, Пильеро был, казалось, создан для долгой трудовой жизни; его широкие плечи указывали на крепкое сложение; сдержанный и даже сухой внешне, он вовсе не был натурой холодной. Спокойные манеры и непроницаемое лицо свидетельствовали о замкнутости; Пильеро скрывал в глубине души чувствительность, чуждую всякой велеречивости и напыщенности. Его зеленые с черными крапинками глаза поражали неизменной ясностью выражения. Изборожденный морщинами, пожелтевший у висков, невысокий и сдавленный лоб обрамляли седые и коротко остриженные волосы, похожие на бобрик. Тонкий рот обличал человека расчетливого и благоразумного, но не скупого. Оживленный взор говорил о довольстве жизнью и завидном здоровье. Наконец, честность, чувство долга, истинная скромность придавали всему его облику уверенность. Шестьдесят лет вел он суровую и трезвую жизнь неутомимого труженика. Его история напоминала историю Цезаря, только Пильеро везло меньше. Прослужив до тридцати лет приказчиком, он вложил свои сбережения в торговлю в то самое время, когда Цезарь вложил свои деньги в ренту; он испытал на себе последствия «максимума», его лопаты, кирки и скобяные товары были реквизированы. Уравновешенный и спокойный характер, свойственная Пильеро предусмотрительность и математические способности помогли ему выработать собственную манеру работать. Большинство сделок он заключал на слово и редко раскаивался. Наблюдательный, как все вдумчивые люди, он изучал своих ближних, не мешая им говорить; нередко он отказывался от выгодных сделок, соблазнявших его соседей, которые потом раскаивались и уверяли, что Пильеро чует мошенников издалека. Он предпочитал скромный, верный заработок крупным, но рискованным спекуляциям. Пильеро торговал каминными решетками, таганами, чугунными и железными котлами, мотыгами и другими земледельческими орудиями. Такой товар ворочать нелегко, он требует от продавцов довольно большого физического напряжения, а доходы мало соответствовали затраченным трудам; Пильеро зарабатывал гроши на этих громоздких изделиях, неудобных и для перевозки, и для хранения на складе. Немало ящиков пришлось ему заколотить, немало товаров уложить и распаковать, немало принять и отправить подвод. Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями. В последние годы он обычно сидел у порога лавки, покуривая трубку, поглядывая на прохожих и наблюдая за работой приказчика. В 1814 году, когда Пильеро бросил торговлю, состояние его равнялось семидесяти тысячам франков, помещенным в государственные бумаги, что давало ему свыше пяти тысяч франков ежегодной ренты; сверх того в запасе у него оставались еще сорок тысяч, которые ему обязался выплатить безо всяких процентов приказчик, купивший у него лавку. Тридцать лет ежегодный оборот Пильеро составлял примерно сто тысяч франков, прибыль его составляла семь процентов от этой суммы, и половину своих доходов он проживал. Таков был его баланс. Соседи, не завидуя столь скромным доходам, хвалили Пильеро за благоразумие, но не понимали его.
На углу улицы Монне и улицы Сент-Оноре помещается кафе «Давид»; сюда старые коммерсанты, вроде Пильеро, заходят вечерком выпить чашку кофе. Усыновление Пильеро сына своей кухарки нередко являлось там темой осторожных шуток, которые разрешают себе люди и по адресу почтенного человека, а хозяин скобяной лавки внушал окружающим большое уважение, хотя и не домогался его, сам себя уважая. Когда же приемный сын Пильеро умер, больше двухсот человек следовало за гробом бедного юноши, провожая его на кладбище. Старик держался мужественно. Сдержанная скорбь его, скорбь сильных людей, которые не любят выказывать свое горе, усилила симпатии обитателей квартала к этому «славному человеку», как его называли, причем слова эти произносились каким-то особенным тоном, углублявшим и облагораживавшим их смысл. Привыкнув к умеренности и воздержанности, Клод Пильеро не поддался соблазнам праздного существования, которое обычно так разлагает парижских буржуа, удалившихся на покой; он не изменил привычного образа жизни и к старости увлекся политикой, причем держался взглядов «крайней левой». Пильеро принадлежал к тем трудовым слоям населения, которые в результате революции приобрели достаток и приобщились к буржуазии. Поставить в вину ему можно было только то, что он придавал слишком большое значение завоеваниям революции, он дорожил своими правами, свободой – этими плодами революции, он был уверен, что его благосостоянию и политическому спокойствию угрожают иезуиты, тайные козни которых разоблачали либералы, а также образ мыслей, приписываемый газетой «Конститюсьонель» брату короля. В своих убеждениях он был так же последователен, как и в жизни; его политические взгляды не страдали узостью, он никогда не оскорблял противников, побаивался придворных и верил в республиканские добродетели; Манюэля он представлял себе чуждым каких-либо крайностей, генерала Фуа считал великим человеком, Казимира Перье – отнюдь не честолюбцем, Лафайета – политическим пророком, Курье – превосходным человеком. Словом, он был склонен к благородным иллюзиям. Этот достойный старик охотно бывал в семейных домах, он навещал Рагонов, свою племянницу, судью Попино, Жозефа Леба, супругов Матифа. На свои нужды он тратил всего полторы тысячи франков в год. Остальные его деньги уходили на добрые дела и на подарки внучатой племяннице. Четыре раза в год он угощал друзей обедом у ресторатора Ролана на улице Азар и возил их в театр. Он вел себя, как те старые холостяки, которых замужние женщины преспокойно заставляют оплачивать свои прихоти, загородные прогулки, ложу в Опере, катание с гор Божон. Пильеро был счастлив, доставляя удовольствие другим, радовался чужой радостью. Продав лавку, он не захотел переменить квартал, к которому привык, и снял в старом доме на улице Бурдонне небольшую квартирку из трех комнат, помещавшуюся на пятом этаже. Подобно тому как причуды Молине наложили отпечаток на странную обстановку его жилища, так простая и чистая жизнь Пильеро сказалась в убранстве его квартиры, состоявшей из передней, гостиной и спальни, – последняя была чуть побольше монашеской кельи и обставлена столь же скромно. В передней – красный натертый пол, окно, задернутое перкалевыми занавесками с красной каймой, стулья красного дерева, обитые красным сафьяном с золотыми гвоздиками; на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели картины: «Клятва американцев», «Сражение при Аустерлице» и портрет Бонапарта – первого консула. Обстановку гостиной, безусловно подобранную обойщиком, составляла желтая мебель с розетками, ковер, камин с бронзовой решеткой без позолоты, разрисованный экран, тумбочка с цветочной вазой под стеклянным колпаком и накрытый ковровой скатертью круглый стол, на котором стоял поднос с ликерным сервизом. Новенькая обстановка этой комнаты достаточно красноречиво говорила о жертве, принесенной светским обычаям стариком Пильеро, редко принимавшим у себя гостей. В спальне, простой, как жилье монаха или солдата, людей, хорошо знающих цену жизни, привлекало внимание висевшее над кроватью в алькове распятие с кропильницей. Такое открытое проявление веры у убежденного республиканца казалось трогательным. Хозяйство Пильеро вела старушка, но его уважение к женщинам простиралось так далеко, что он не позволял служанке чистить его башмаки и постоянно отдавал их чистильщику. Одевался Пильеро всегда просто и одинаково. Обычно он носил синий суконный сюртук и такие же панталоны, пестрый бумажный жилет, белый галстук, закрытые туфли; в праздничные дни надевал фрак с блестящими металлическими пуговицами. Он вставал, завтракал, выходил из дому, обедал, уходил снова по вечерам и возвращался домой всегда в определенный час, справедливо считая правильный образ жизни залогом здоровья и долголетия. Никогда Пильеро не затевал политических споров с Цезарем Бирото, Рагонами, аббатом Лоро, – люди этого кружка слишком хорошо знали друг друга и поэтому не рассчитывали обратить один другого в свою веру. Пильеро, подобно своему племяннику и Рагонам, вполне доверял Рогену. Для него парижский нотариус представлялся человеком почтенным, воплощением честности. Пильеро решил принять участие в спекуляции земельными участками лишь после того, как внимательно рассмотрел этот вопрос, что и объясняло смелость Цезаря, боровшегося с предчувствиями жены.
Парфюмер одолел семьдесят восемь ступенек, которые вели к небольшой коричневой двери дядиной квартиры, и подумал, что старик, должно быть, еще достаточно бодр и крепок, если может, не жалуясь, ежедневно взбираться так высоко. Бирото заметил, что синий сюртук и панталоны вынуты из шкафа и старуха Вайян чистит их щеткой; Пильеро, истинный философ, в домашнем сюртуке из серого молетона завтракал у камина, читая отчет о парламентских прениях в газете «Конститюсьонель», называвшейся в те годы «Журналь де коммерс».
– Дядя, – сказал Цезарь, – дело решено, договор составляется. Но если у вас есть какие-либо опасения или сомнения, еще не поздно отказаться.
– К чему отказываться? Сделка выгодная, вот только доходов придется долго ждать, но при верных делах всегда гак бывает. У меня пятьдесят тысяч франков в банке, вчера я получил последние пять тысяч франков за лавку. Ну а Рагоны вкладывают в это дело все свое состояние.
– Как же они будут жить?
– Не беспокойся, проживут помаленьку.
– Дядя, я понимаю, – проговорил растроганный Бирото, пожимая руку суровому старику.
– Как распределяются паи? – неожиданно спросил Пильеро.
– Моя доля будет равна трем восьмым, ваша и Рагонов – одной восьмой; запишу эту сумму в кредит вашего счета, у нас пока еще не составлены нотариальные акты.
– Прекрасно. Но ты, видно, очень богат, мой мальчик, если вкладываешь в это дело сразу триста тысяч франков? Боюсь, ты рискуешь слишком большой суммой, не пострадала бы от этого твоя торговля. Впрочем, тебе виднее. Если тебя постигнет неудача, то знай – рента поднялась до восьмидесяти, и я могу продать ценные бумаги, приносящие две тысячи франков дохода. Но будь осторожен, дружок: если тебе придется прибегнуть к моей помощи, ты тем самым уменьшишь состояние своей дочери.
– Дядя, как просто вы говорите о благороднейших поступках! Вы взволновали меня.
– Генерал Фуа только что взволновал меня совсем по-иному! Ну, ступай, кончай дело: ведь земельные участки не исчезнут, а они нам достанутся за полцены; если даже придется выждать лет шесть, и то мы получим кое-какую прибыль, – ну хотя бы доход с дровяных складов. Итак, нечего бояться потерь. Разве что Роген похитит наши капиталы, но ведь это невозможно…
– Как раз сегодня ночью мне об этом говорила жена, она боится…
– Что Роген украдет деньги? – спросил Пильеро, смеясь. – А почему она так думает?
– Она говорит, что он слишком страдает из-за своего уродства и, как все мужчины, которым недоступна женская любовь, питает страсть к…
Недоверчиво усмехнувшись, Пильеро вырвал из книжки листок, написал на нем сумму и подписался.
– Вот чек на сто тысяч франков – за Рагона и за меня. Бедные люди продали этому проклятому проходимцу дю Тийе свои пятнадцать акций Ворчинских копей, чтобы собрать нужные деньги. Славные люди в затруднении, прямо сердце за них болит. И такие достойные, благородные люди, цвет старой буржуазии, право! Их родственник, судья Попино, ничего не знает, они от него все скрывают, чтобы не мешать ему заниматься благотворительностью. А ведь они трудились, как и я, целых тридцать лет…
– Дай бог, чтобы «Комагенное масло» победило, – воскликнул Бирото, – я буду счастлив вдвойне. Прощайте, дядя, приходите обедать в воскресенье с Рагонами, Рогеном и господином Клапароном. Договор подпишем послезавтра, ведь завтра – пятница, а в пятницу я не хочу начинать…
– Ты придаешь значение подобным суевериям?
– Дядя, я никогда не поверю, что день, когда сын божий был предан смерти людьми, – счастливый день. Ведь бросают же все двадцать первого января свои дела.
– До воскресенья, – резко сказал Пильеро.
«Если б не его политические убеждения, – подумал Бирото, спускаясь по лестнице, – на всем свете не сыскать человека лучше дяди. И надо же было ему связаться с политикой! Что за чудесный был бы человек, забудь он думать о ней. Его упрямство только доказывает, что в мире нет совершенства».
– Уже три часа, – сказал Цезарь, возвратившись домой.
– Сударь, вы принимаете эти обязательства? – спросил Селестен, показывая ему векселя торговца зонтами.
– Да, из шести процентов, без комиссионных. Женушка, приготовь-ка мне одеться, я иду к господину Воклену, ты знаешь зачем. И обязательно – белый галстук.
Парфюмер отдал распоряжения своим приказчикам; Попино в лавке не было, и Цезарь догадался, что его будущий компаньон одевается; быстро поднявшись к себе в комнату, он увидел там «Дрезденскую мадонну», вставленную, по его приказанию, в красивую раму.
– А что, картинка-то недурна, – сказал он дочери.
– Не говори так, папа, тебя засмеют, она прекрасна!
– Как это вам нравится, дочь отца учит!.. Ну, на мой вкус «Геро и Леандр» ничуть не хуже. Мадонна – сюжет религиозный, ей место в часовне, но «Геро и Леандр»… Ах, я куплю эту картину, ведь изображенный на ней флакон с маслом меня вдохновил…
– Папа, я тебя не понимаю.
– Виржини, позови фиакр! – громко крикнул Цезарь, кончив бриться; в это время в комнату вошел Попино, от смущения перед Цезариной прихрамывая еще больше, чем обычно.
Влюбленный не подозревал, что его недостаток уже не существовал для его избранницы. Чудесное доказательство любви, выпадающее на долю только тех, кого обделила природа.
– Сударь, – сказал юноша, – завтра пресс можно будет пустить в ход.
– Отлично! Но что с тобой, Попино? – спросил Цезарь, увидев, как покраснел Ансельм.
– Это, сударь, от радости. Я нашел на улице Сенк-Диаман лавку вместе с конторой, кухней, комнатами наверху и складами – и за все просят только тысячу двести франков в год.
– Надо заключить контракт на восемнадцать лет. А теперь едем к господину Воклену, поговорим по дороге.
Цезарь и Попино сели в фиакр, провожаемые взглядами приказчиков, которые удивлялись их парадному виду и необычной поездке в экипаже и не подозревали о великих планах хозяина «Королевы роз».
– Ну, теперь мы все разузнаем об орешках, – пробормотал парфюмер.
– О каких орешках?
– Вот я и проговорился и выдал тебе свою тайну, – сказал парфюмер, – именно в орешкахвсе дело. Только ореховое масло оказывает благоприятное воздействие на волосы, и никто из парфюмеров до этого еще не додумался. Взглянув на гравюру «Геро и Леандр», я подумал: «Нет, древние неспроста выливали столько масла на голову, они знали, что делают, на то они и древние!» И что бы ни говорили наши умники, я разделяю взгляды Буало на древних. Это и навело меня на мысль об ореховом масле, а тут еще твой родич Бьяншон, лекарский ученик, рассказал мне, что в Медицинской школе его товарищи употребляют ореховое масло, чтобы быстрее росли усы и бакенбарды. Нам недостает только одобрения знаменитого Воклена. Он даст нам необходимые указания, и мы не обманем публику. Я только что с рынка, договорился с торговкой орехами о доставке сырья; через какую-нибудь минуту я буду у величайшего ученого Франции и узнаю у него, как извлекать из орешков квинтэссенцию. Пословица права – крайности сходятся. Видишь, сынок, торговля служит посредницей между природой и наукой. Анжелика Маду скупает орехи, господин Воклен извлекает эссенцию, мы ее продаем. Орехи стоят пять су за фунт, господин Воклен во сто раз повысит их ценность, и мы, быть может, окажем услугу всему человечеству, ибо если тщеславное желание нравиться причиняет человеку большие страдания, то хорошее косметическое средство в таком случае для него благодеяние.
Благоговейное почтение, с каким Попино слушал отца Цезарины, возбуждало красноречие Бирото, и он изрекал самые нелепые сентенции, какие только могут зародиться в голове буржуа.
– Будь почтителен, Ансельм, – сказал парфюмер, когда экипаж свернул на улицу, где жил Воклен, – сейчас мы вступим в святая святых науки. Поставь «Мадонну» в столовой на стуле, где-нибудь на видном месте, но так, чтоб она не слишком бросалась в глаза. Только бы мне не запутаться и не наговорить лишнего! – чистосердечно признался Бирото. – Попино, этот человек оказывает на меня химическое воздействие, его голос вгоняет меня в жар и даже вызывает колики. Он мне столько добра сделал, а в скором времени станет и твоим благодетелем.
От этих слов у Попино мороз пробежал по коже, он двигался так осторожно, словно шел по битому стеклу, с тревогой поглядывая по сторонам. Г-н Воклен был в своем кабинете, когда ему доложили о приходе Бирото. Академик знал, что парфюмер – помощник мэра и пользуется благосклонностью властей; он принял его.
– Вы все же не забываете меня в своем величии? – сказал ученый. – Правда, от химика до парфюмера один шаг.








