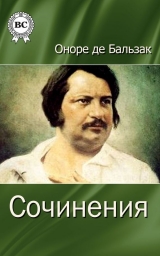
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 86 страниц)
Итак, Селеста обнаружила в Феликсе не то чтобы неверие, но безразличное отношение к вопросам веры. Подобно большинству геометров, химиков, математиков и выдающихся естествоиспытателей, он подчинял веру разуму: он считал проблему существования бога столь же неразрешимой, как квадратура круга. В душе он был деистом, исповедовал веру, какую исповедуют почти все французы, но придавал ей не больше значения, чем новому закону, принятому в Июле. По его мнению, бог на небесах был столь же необходим, как бюст короля в здании мэрии. Достойный сын своего отца, Феликс Фельон не скрывал убеждений: с простодушием и рассеянностью человека, занятого разрешением научных проблем, он позволял Селесте читать в его сердце. Молодая девушка смешивала вопросы религии с вопросами гражданского состояния, она испытывала священный ужас перед атеизмом, а исповедник объяснил ей, что деист – двоюродный брат атеиста.
– Исполнили ли вы свое обещание, Феликс? – спросила Селеста, как только г-жа Кольвиль оставила ее наедине с молодым ученым.
– Нет, дорогая Селеста, – отвечал Феликс.
– О, не выполнить обещания!.. – воскликнула с укоризной девушка.
– Но ведь сдержать его было бы кощунственно, – сказал математик. – Я вас безумно люблю, и это чувство не позволяет мне противиться вашим желаниям, вот почему я и дал вам обещание, с которым совесть моя не может примириться. А ведь совесть, милая Селеста, – это наше сокровище, наша сила, наша опора. Как можете вы желать, чтобы я отправился в церковь и опустился на колени перед священником, коль скоро я вижу в нем лишь человека?.. Да вы первая стали бы меня презирать, если бы я вас послушался.
– Значит, дорогой Феликс, вы не хотите идти в церковь? – спросила Селеста, бросая на человека, которого она любила, затуманенный слезами взгляд. – Значит, будь я вашей женой, вы отпускали бы меня туда одну?.. Нет, вы не любите меня так, как я люблю вас!.. Ведь в моем сердце живет к вам, к безбожнику, чувство, противное тому, какого требует от меня господь!
– К безбожнику! – воскликнул Феликс Фельон. – О нет, выслушайте меня, Селеста… Бог, конечно, существует, я в это верю, но у меня более возвышенное представление о нем, нежели у ваших священников, я не низвожу его до себя, а стараюсь подняться до него… Я прислушиваюсь к голосу, звучащему во мне по его воле, к голосу, именуемому всеми порядочными людьми голосом совести, и я изо всех сил стремлюсь не угасить божественного огня, который горит во мне. Вот почему я никогда в жизни никому не причиню вреда, никогда не преступлю законов общечеловеческой морали, морали Конфуция, Моисея, Пифагора, Сократа, как и Иисуса Христа… Я чист перед богом, мои деяния служат мне молитвами, я никогда не стану лгать, слово мое свято, я никогда не совершу низменного или подлого поступка… Вот наставления, усвоенные мною от добродетельного отца, и я хочу завещать их своим детям. Я всегда буду творить столько добра, сколько будет в моих силах, даже если это заставит меня страдать. Можно ли требовать чего-либо большего от человека?..
Символ веры Феликса Фельона заставил Селесту только горестно покачать головой.
– Прочтите внимательно «Подражание Христу»! – сказала она. – Попытайтесь возвратиться в лоно святой католической церкви, апостолической и римской, и вы поймете, до какой степени нелепы ваши речи… Послушайте, Феликс, брак в глазах церкви не преходящий акт, призванный удовлетворить наши желания, а таинство, соединяющее людей навеки… Как! Мы будем вместе день и ночь, мы станем единой плотью, единым глаголом, а сердца наши будут говорить на разных языках, мы будем исповедовать разную веру, и это послужит источником постоянных размолвок! Вы обрекаете меня на тайное горе и слезы, ибо я не смогу примириться с грядущей гибелью вашей души. Как стану я обращаться к богу, зная, что его грозная десница вот-вот обрушится на вас?.. Ваши взгляды и убеждения, пропитанные деизмом, станут влиять на наших детей!.. О господи, какую грустную участь готовите вы своей супруге!.. Нет, нет, я не могу смириться с вашими идеями… О Феликс! Перейдите в мою веру, ибо я не в силах перейти в вашу! Не ройте пропасти между нами… Если б вы меня любили, то уже давно бы прочли «Подражание Христу»!
В семье Фельонов, воспитанных на идеях газеты «Конститюсьонель» не любили церковного духа. И Феликс резко ответил на эту мольбу, вырвавшуюся из груди пламенной католички:
– Вы просто повторяете урок, преподанный вам исповедником, Селеста! Поверьте мне, нет ничего опаснее вторжения священников в семью…
– О, вы не любите меня! – с негодованием воскликнула Селеста, которая говорила, движимая лишь любовью. – Голос моего сердца не достиг вашего слуха! Вы ничего не поняли, ибо даже не слушали меня, но я прощаю вас, потому что вы сами не знаете, что говорите.
Она погрузилась в гордое молчание, а Феликс принялся барабанить пальцами по оконному стеклу: занятие, хорошо знакомое людям, которыми владеют мрачные мысли. И действительно, в уме Феликса сменяли друг друга различные весьма деликатные доводы истинно фельоновского толка:
«Селеста, как известно, – богатая наследница. Приняв ее идеи, чуждые моим религиозным убеждениям, я поступлю, как человек, стремящийся к выгодному браку. Это недостойно. Как будущий глава семьи, я не могу позволить священникам приобрести влияние в моем доме. Если я уступлю сегодня, то проявлю слабость, и она приведет к другим уступкам, пагубным для моего авторитета, авторитета отца и мужа… Нет, это будет недостойно философа».
И он повернулся к любимой:
– Селеста, я готов молить вас на коленях: не смешивайте вещей, которые закон в своей мудрости отделил друг от друга. Мы живем в двух различных мирах: в здешнем мире должно считаться с велениями общества, в потустороннем мире – с велениями неба. Каждый идет своим путем к спасению. Но, живя в обществе, мы обязаны подчиняться его законам, ибо так повелел господь! Разве Христос не сказал: «Воздайте кесарю кесарево»? Кесарь – это и есть общество… Забудем нашу маленькую ссору!
– Маленькую ссору! – вскричала юная католичка. – Я хочу, чтобы вы всецело владели моим сердцем, а я всецело владела вашим, вы же делите их на две половины!.. Может ли быть большее горе? Вы забываете, что брак – это священное таинство…
– Ваши ханжи и святоши забили вам голову! – вне себя от гнева воскликнул математик.
– Господин Фельон, – запальчиво прервала его Селеста, – довольно говорить на эту тему!
При этих словах Теодоз счел необходимым войти в комнату. Он увидел бледную Селесту и встревоженного преподавателя, у которого был вид влюбленного, рассердившего предмет своего обожания.
– Я услышал слово «довольно». Стало быть, чего-то было слишком много? – спросил он, переводя взгляд с Селесты на Феликса.
– Мы беседовали о религии, – ответил Фельон, – и я доказывал мадемуазель Селесте, какую опасность таит в себе вторжение религии в семейную жизнь…
– Речь шла не об этом, сударь, – резко сказала Селеста. – Мы хотели понять, могут ли муж и жена жить душа в душу, если он безбожник, а она верующая католичка.
– Но разве на свете существуют безбожники! – вскричал Теодоз, изображая на своем лице глубочайшее изумление. – И разве католичка может, к примеру, выйти замуж за протестанта? Нет, спасение супругов возможно лишь в том случае, если оба они исповедуют одну и ту же веру!.. Я сам родом из Контá, в числе моих предков был даже папа, в нашем гербе изображен серебряный ключ на червленом фоне, а в основании герба – монах на церковной паперти и пилигрим с золотым посохом в руках; наш девиз: «Я отпираю и запираю». Вот почему я ревностный католик. Но в наши дни благодаря современной системе образования сплошь и рядом возникают и обсуждаются такие вопросы, как тот, о котором вы говорили!.. Я, смею вас заверить, никогда бы не женился на протестантке, будь у нее даже миллионы… и люби я ее до потери сознания! Нельзя спорить о вере. «Uпа fides, unus Dominus»– вот мой девиз в сфере религии и в сфере политики.
– Вы слышите? – с торжеством воскликнула Селеста, взглянув на Феликса Фельона.
– Я не святоша, – продолжал ла Перад, – я хожу к обедне в шесть часов утра, когда меня никто не видит, я пощусь по пятницам, я, наконец, верный сын церкви и никогда не предпринимаю ничего серьезного, хорошенько не помолившись богу, как делали наши предки. Но я не афиширую свою веру… Во время революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года в нашей семье произошло событие, которое еще сильнее, чем традиции, привязало нас к святой матери-церкви. Некая злосчастная мадемуазель де ла Перад, принадлежавшая к старшей ветви рода, владеющей небольшим поместьем де ла Перад, ибо мы, я и моя семья, принадлежим к младшей ветви ла Перад де Канкоэль, правда, обе ветви наследуют одна другой, – так вот, говорю я, эта барышня за шесть лет до революции вышла замуж за одного адвоката, который придерживался модных в ту пору идей и был вольтерьянцем, иначе говоря, неверующим или, если вам угодно, деистом. Он разделял революционные идеи и занимался введением многих прелестных новшеств, наподобие культа богини Свободы и Разума. В наши края он прибыл пропитанным до мозга костей новыми идеями, фанатическим приверженцем Конвента. Свою красавицу жену он заставил играть роль богини Свободы, и несчастная сошла с ума… Она так и умерла помешанной! Так вот, мы живем в такое время, что меня не удивит, если мы станем свидетелями нового тысяча семьсот девяносто третьего года!..
Эта ловко придуманная история произвела такое впечатление на свежий и неискушенный ум Селесты, что она порывисто поднялась, поклонилась обоим молодым людям и ушла к себе в комнату.
– Ах, сударь, что вы наделали! – воскликнул Феликс, пораженный до глубины души холодным взглядом, брошенным на него Селестой и выражавшим глубокое равнодушие. – Она уже видит себя в роли богини Разума…
– Что между вами произошло? – осведомился Теодоз.
– Речь шла о моем безразличии к вопросам веры.
– Это величайшая язва нашего века, – изрек Теодоз наставительным тоном.
– Вот и я, – прощебетала г-жа Кольвиль, появляясь на пороге гостиной в изысканном туалете. – Что случилось с моей бедной дочкой? Она плачет…
– Она плачет, сударыня?.. – воскликнул Феликс. – Передайте же ей, что я завтра же принимаюсь внимательнейшим образом изучать «Подражание Христу».
И Феликс вышел на улицу вместе с Теодозом и Флавией. Спускаясь по лестнице, адвокат сжал руку своей спутнице, давая этим понять, что он в карете объяснит ей причины необычайного возбуждения молодого ученого.
Через час чета Кольвилей, Селеста и Теодоз уже входили в дом Тюилье, куда они были приглашены к обеду. Теодоз и Флавия увлекли Тюилье в сад, и адвокат сказал ему:
– Добрый друг, через неделю ты будешь награжден крестом. Попроси любезную госпожу Кольвиль рассказать тебе о нашем визите к графине дю Брюэль…
С этими словами Теодоз отошел от Тюилье, ибо он увидел Дероша, направлявшегося к нему в сопровождении мадемуазель Тюилье. Идя навстречу поверенному, молодой человек ощущал, как его сердце сжимается от ужасного предчувствия.
– Милостивый государь, – шепнул Дерош на ухо похолодевшему Теодозу, – я пришел узнать, можете ли вы уплатить двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят франков шестьдесят сантимов, включая издержки?..
– Вы пришли как поверенный Серизе? – воскликнул адвокат.
– Он передал ваши векселя Лушару, а вы знаете, что вас ожидает в случае ареста. У Серизе есть основания полагать, что у вас в секретере хранятся двадцать пять тысяч франков. Вы собирались уплатить ему, и он находит вполне естественным, чтобы эти деньги не залеживались у вас…
– Благодарю вас за приход, милостивый государь, – сказал Теодоз, – я предвидел этот выпад…
– Между нами говоря, – заметил Дерош, – вы его славно одурачили… Пройдоха жаждет мести и ни перед чем не останавливается: ведь он все потеряет, если вы решите отказаться от адвокатского звания и пойти в тюрьму…
– Я? – воскликнул Теодоз. – Нет, что вы, я уплачу… Но у него в руках пять векселей по пять тысяч франков каждый, что он собирается с ними делать?
– О, после того, что произошло утром, я ничего не берусь предсказывать. Знаю только одно: мой клиент злобен, как паршивый пес, и у него свои планы…
– Скажите, Дерош, – обратился ла Перад к поверенному, обвивая рукой его прямой сухощавый стан, – векселя еще у вас?
– Вы хотите уплатить по ним?
– Да, не позднее чем через три часа.
– В таком случае будьте у меня к девяти, я приму деньги и возвращу вам векселя. Но в половине десятого они уже будут у Лушара.
– Превосходно, я буду у вас в девять вечера, – сказал Теодоз.
– В девять вечера, – повторил Дерош, обводя взглядом общество, собравшееся в саду.
Увидев Селесту, которая с еще заплаканными глазами беседовала с крестной матерью, Кольвиля и Бригитту, Флавию и Тюилье, Дерош, поднявшись на широкое крыльцо и готовясь войти в переднюю, сказал провожавшему его Теодозу:
– Ну, я вижу, вы вполне можете уплатить по векселям.
Дерошу, который заставил разговориться Серизе, достаточно было одного взгляда, чтобы оценить бешеную энергию адвоката.
На следующее утро, едва рассвело, Теодоз отправился к банкиру бедняков, чтобы полюбоваться, какое впечатление произвело на его врага то, что он полностью уплатил ему долг, и попробовать сделать еще одну попытку избавиться от этого овода.
Он застал Серизе на ногах; тот беседовал с какой-то женщиной и властным тоном приказал Теодозу не подходить к ним, чтобы не мешать разговору. Молодому человеку поэтому пришлось теряться в догадках о важности этой особы; о том, что она действительно важная особа, говорил озабоченный вид ростовщика. Теодоз смутно почувствовал, что предмет, о котором велась беседа, окажет влияние на дальнейшие поступки Серизе, ибо он прочел на лице своего компаньона ожидание и надежду.
– Но, дорогая, мамаша Кардинал…
– Да, достопочтенный господин Серизе…
– Чего же вы хотите?
– Необходимо решиться…
Обрывки фраз, долетавшие до слуха адвоката, не могли пролить свет на оживленную беседу, которая велась вполголоса, а то и просто шепотом. Вынужденный сохранять неподвижность, молодой человек внимательно разглядывал г-жу Кардинал.
Госпожа Кардинал принадлежала к числу постоянных клиентов Серизе, она торговала свежей рыбой. Если парижанам знакомы создания такого рода, процветающие на рынках столицы, то иностранцы даже не подозревают об их существовании, и мамаша Кардинал, выражаясь языком газетной хроники, заслуживала интереса, который испытывал к ней адвокат. На улицах Парижа женщины ее типа встречаются сотнями, и прохожий обращает на них не больше внимания, чем посетитель выставки – на три тысячи картин, развешанных на стенах. Но тут, вдали от уличной толчеи, г-жа Кардинал приобретала значение уникального шедевра, ибо как нельзя лучше воплощала черты целой категории людей.
Ее сабо были забрызганы грязью; она надевала их поверх домашних войлочных туфель, на ногах она носила толстые шерстяные чулки. На ситцевом платье, нижней оборкой которому служил толстый слой грязи, возле самой талии виднелся широкий след от перевязи, поддерживавшей лоток. Главной частью ее туалета была шаль, шутливо именуемая в народе кашемиром из кроличьей шерсти, два конца этой шали были завязаны на спине, над турнюром; мы намеренно употребляем это слово, которое в ходу у великосветских дам, дабы пояснить, на что походили ее юбки, стянутые поперечной перевязью: они пузырились на торговке, как листья на кочане капусты. Косынка из грубого руанского ситца оставляла открытой красную шею, испещренную глубокими полосами, как ледяная поверхность водоема ла Вилетт, излюбленного места конькобежцев. На макушке у нее красовался желтый шелковый платок, повязанный весьма живописно.
Низенькая и толстая, мамаша Кардинал, должно быть, каждое утро пропускала стаканчик водки, о чем свидетельствовал багровый румянец на ее щеках. В свое время она была хороша собой. Завсегдатаи Центрального рынка, чей язык отличается грубоватой, но сочной образностью, упрекали ее в том, что она предавалась ночным удовольствиям и после зари. Голос у старухи был как иерихонская труба, и для того, чтобы не оглушить собеседника, ей приходилось говорить шепотом, как обычно делают в комнате тяжелобольного; однако это ей плохо удавалось, и она хрипела и сипела, ибо ее глотка привыкла издавать пронзительные звуки: когда мамаша Кардинал выкрикивала названия рыбы, которой торговала, ее голос достигал верхних этажей домов и мансард. Нос, напоминавший нос Рокселаны, хорошо очерченный рот, голубые глаза – все, что некогда составляло ее привлекательность, теперь утопало в складках жира и густой сети морщин, покрывавших обветренное лицо. Грудь и живот этой женщины так и просились на полотно Рубенса.
– Вы что ж, хотите, чтобы я оказалась на соломе? – говорила она Серизе. – Что мне Пупилье?.. Я и сама Пупилье!.. Мне деваться некуда от всех этих Пупилье!..
Эта неистовая вспышка была потушена Серизе. Он свирепо взглянул на торговку рыбой и прошипел «Тс-с!» с таким видом, с каким это делают заговорщики.
– Ну, ладно, ступайте и взгляните, что там произошло, а потом возвращайтесь сюда, – сказал Серизе, подталкивая посетительницу к двери и что-то шепча ей на ухо.
– Итак, любезный друг, – обратился Теодоз к Серизе, – ты получил свои деньги?
– Да, мы измерили силу наших когтей, – отвечал Серизе, – они оказались одинаково длинными, прочными и острыми… Что ж дальше?
– Должен ли я сказать Дютоку, что ты получил вчера от меня двадцать семь тысяч?
– О нет, мой милый, ни слова ему!.. Если ты, конечно, меня любишь! – воскликнул Серизе.
– Послушай, – продолжал Теодоз. – Я хочу раз и навсегда понять, чего ты от меня добиваешься, я твердо решил больше ни одного дня не оставаться на раскаленных угольях, хотя вам это и доставляет удовольствие. Можешь сколько угодно водить за нос Дютока, мне это в высшей степени безразлично, но я хочу столковаться с тобой… Ты, должно быть, накопил, давая деньги в рост, не меньше десяти тысяч франков, вместе с полученными от меня двадцатью семью тысячами это составляет целое состояние, отныне ты можешь сделаться порядочным человеком. Серизе, если ты оставишь меня в покое, если ты не станешь мешать мне жениться на мадемуазель Кольвиль, я еще буду королевским адвокатом в Париже, а тебе не мешает заручиться поддержкой в судейских кругах.
– Вот мои условия, обсуждать я их не намерен: либо принимай, либо отказывайся. Ты поможешь мне сделаться главным квартиронанимателем в новом доме Тюилье сроком на восемнадцать лет, а я верну тебе один из не оплаченных еще тобою векселей. Больше я не буду становиться на твоем пути, ты сам уладишь с Дютоком вопрос об остальных четырех векселях… Если уж ты одержал верх надо мною, то легко справишься и с Дютоком…
– Я согласен, если ты готов вносить арендную плату в размере сорока восьми тысяч франков в год, причем за последний год тебе придется внести ее авансом, срок аренды начинается с октября…
– Идет, но только я заплачу сорок три тысячи, за пять тысяч пойдет твой вексель. Я видел дом, я его хорошенько осмотрел, он мне подходит.
– Еще одно условие, – прибавил Теодоз, – ты поможешь мне в борьбе с Дютоком.
– Нет, – отрезал Серизе, – ты и без того задашь ему жару, а если и я еще начну его шпиговать, то бедняга выпустит весь сок. Надо быть разумным. Несчастный не знает, откуда взять пятнадцать тысяч франков, которые он еще не внес в уплату за должность, теперь тебе это известно, и ты сможешь выкупить за пятнадцать тысяч свои векселя.
– Ну, хорошо, через две недели ты подпишешь арендный договор…
– Даю тебе время только до понедельника! Во вторник вексель на пять тысяч франков будет опротестован, если в понедельник ты не заплатишь мне деньги и Тюилье не подпишет со мною контракт.
– Ладно, пусть в понедельник! – сказал Теодоз. – Но теперь мы по крайней мере друзья?
– Мы станем ими в понедельник, – проворчал Серизе.
– В понедельник так в понедельник! Но ты хотя бы угостишь меня обедом? – усмехнулся Теодоз.
– После подписания договора я повезу тебя в «Роше де Канкаль». Там будет и Дюток. Мы вместе посмеемся… Давно уже я не смеялся.
Теодоз и Серизе пожали друг другу руки и в один голос воскликнули:
– До скорого свидания!
У Серизе были свои причины быстро сменить гнев на милость. Ему пришлось признать правоту Дероша, утверждавшего, что «злость не способствует успеху в делах». Убедившись на собственном опыте в справедливости этих слов, ростовщик хладнокровно решил извлечь пользу из создавшегося положения и, как он выражался, выпустить кровьиз коварного провансальца.
– Вы должны взять реванш, – заметил ему Дерош, – а ведь малый у вас в руках… Попробуйте-ка вытянуть из него все, что можно.
За последние десять лет немало знакомых Серизе разбогатели, сделавшись главными квартиронанимателями в домах. Главный квартиронаниматель в Париже играет в отношении домовладельца ту же роль, какую играют арендаторы в отношении землевладельцев. Весь Париж был свидетелем того, как один из прославленных портных воздвиг на небольшой площади, рядом с кафе Фраскати, на углу бульвара и улицы Ришелье, роскошный дом; он получил такую возможность потому, что был главным квартиронанимателем в особняке, арендная плата за который составляла не меньше пятидесяти тысяч франков в год. Несмотря на то, что стоимость здания достигала семисот тысяч франков, квартирная плата за девятнадцать лет должна была обеспечить ему немалые барыши.
Серизе, уже давно искавший выгодное дельце, внимательно взвесил все шансы на получение прибыли, на которую мог рассчитывать главный квартиронаниматель дома, украденногоТюилье, – такое выражение употребил Серизе, беседуя с Дерошем. Ловкий экспедитор понял, что через шесть лет он сможет от себя сдавать этот дом внаймы не меньше чем за шестьдесят тысяч франков, ибо в нем нетрудно было расположить четыре лавки, по две с каждой стороны, и стоял он необыкновенно удобно, на углу бульвара.
Серизе надеялся зарабатывать по десять тысяч франков ежегодно в течение двенадцати лет, не говоря о различных случайных доходах и приплатах при каждом возобновлении контракта о найме помещений: он заранее решил, что будет заключать контракты с торговцами лишь на шесть лет. Он предполагал уступить имевшиеся в его распоряжении векселя вдове Пуаре и Кадене за десять тысяч франков, десять тысяч франков у него было прикоплено; присоединив к ним деньги, полученные от Теодоза, он мог внести аванс за первый год, который домовладельцы имеют обыкновение требовать в качестве гарантии с главных квартиронанимателей. Вот почему Серизе провел блаженную ночь; засыпая, он мечтал о том недалеком времени, когда займется почтенным ремеслом и станет столь же уважаемым буржуа, как Тюилье, как Минар и многие другие.
Поэтому он решил отказаться от прежнего намерения приобрести дом, который строился на улице Жоффруа-Мари. Но пробуждение Серизе было неожиданным и необычайным: в лице г-жи Кардинал пред ним предстала Фортуна с позолоченными рогами изобилия.
Он всегда относился с некоторым вниманием к этой особе и не раз обещал ей, особенно за последний год, ссудить сумму, необходимую для покупки осла и маленькой тележки, что позволило бы ей увеличить размах своей торговли, обслуживая не только Париж, но и пригороды. Г-жа Кардинал, вдова грузчика, работавшего на Центральном рынке, имела единственную дочь, рассказами о красоте которой местные кумушки прожужжали Серизе все уши. Когда он в 1837 году поселился в этом квартале и начал давать деньги в рост, Олимпии Кардинал было всего тринадцать лет; низкий развратник обратил внимание на девочку и начал обхаживать мамашу: он помог торговке рыбой выбиться из крайней нищеты, надеясь сделать Олимпию своей любовницей. Однако в 1838 году дочка сбежала от матери и зажила веселой жизнью, как выражаются простые люди Парижа, желая пояснить, что женщина пускает в оборот свою красоту и молодость.
Отыскать девушку в Париже так же трудно, как поймать уклейку в Сене, – она только случайно может попасться в сети. Такой случай произошел. Мамаша Кардинал, желая отблагодарить некую кумушку, повела ее в театр Бобино и обнаружила в героине пьесы свою дочь, которая уже три года находилась в полном подчинении у первого комика театра. Сначала матери польстило, что дочь выходила на сцену в красивом парчовом платье, причесанная, как герцогиня, в ажурных чулочках и атласных туфельках, причем публика встречала ее аплодисментами. Но под конец торговка не выдержала и крикнула с места:
– Погоди, ты еще получишь от меня весточку, убийца собственной матери!.. Я узнаю, позволено ли жалким актеришкам развращать тринадцатилетних девочек!..
Госпожа Кардинал решила подстеречь дочь у выхода из театра, но героиня пьесы и первый комик, должно быть, спрыгнули со сцены прямо в зрительный зал и смешались с публикой, а тем временем вдова Кардинал и тетка Магудо, ее закадычная приятельница, подняли у служебного выхода из театра адский шум, так что двум муниципальным гвардейцам с трудом удалось их унять. Сии блюстители порядка заставили торговок несколько умерить тон и объяснили матери, что девушка в шестнадцать лет имеет право выступать на сцене; затем они посоветовали рассерженной матроне перестать скандалить возле кабинета директора театра, а обратиться лучше к мировому судье или в полицию, по ее выбору.
На следующий день г-жа Кардинал решила обратиться за советом к нему, ибо он, как ей было известно, служил в канцелярии мирового судьи; но она была буквально ошарашена появлением привратника дома, где обитал ее дядя, старик Пупилье: этот привратник, по имени Пераш, сообщил ей, что старикан вот-вот преставится и что жить ему осталось, во всяком случае, не больше двух дней.
– Ну, а я-то что могу сделать? – воскликнула торговка рыбой.
– Мы рассчитываем на вас, любезная госпожа Кардинал, ведь вы не забудете о нас во внимание к доброму совету, который мы вам дадим. Дело вот в чем: в последние дни ваш бедный дядюшка, будучи не в силах передвигаться, оказал мне доверие и поручил собрать квартирную плату в принадлежащем ему доме на улице Нотр-Дам-де-Назарет и получить причитающиеся ему по купонам ренты, выданной государственной казной, деньги в сумме тысячи восьмисот франков…
При этом известии бегающие глазки вдовы Кардинал округлились и едва не вылезли из орбит.
– Да, да, моя милая, – продолжал г-н Пераш, низенький и горбатый человечек. – Вот мы и подумали, что так как только вы одна вспоминаете о нем, навещаете его и даже приносите ему иногда рыбу, старик, быть может, захочет отказатьвам свое состояние… Все эти дни моя жена ходила за ним и заботилась о нем, она говорила о вас, но он не разрешил сообщить вам о его болезни… Но теперь, думается, вам пора пойти к больному. Ведь он, черт побери, уже два месяца не занимается своим делом.
– Согласитесь сами, уважаемый мастер, – сказала мамаша Кардинал привратнику, который подрабатывал сапожным ремеслом, – легче поверить в то, что на ладони могут вырасти волосы, чем в то, что вы мне только что сказали!.. Как! Оказывается, мой дядюшка Пупилье, этот всем известный нищий из церкви Сен-Сюльпис, на самом деле богач! – твердила торговка рыбой, торопливо следуя за привратником по направлению к улице Оноре-Шевалье, где в отвратительной мансарде ютился ее дядя.
– Должен сказать, что он отлично питался, – заметил привратник, – каждый вечер он ложился в постель со своей подружкой – огромной бутылкой руссильонского вина. Он говорил нам, что вино стоит шесть су, но это неправда, моя жена сама его отведала. Этот славный напиток поставлял старику виноторговец с улицы Канет.
– Помалкивайте обо всем, любезный, – сказала вдова Кардинал, – я о вас позабочусь… если только после него что-нибудь останется.
Пупилье, в молодости служивший барабанщиком во французской гвардии, за несколько лет до революции 1789 года перешел на службу в церковь Сен-Сюльпис, на должность привратника. Революция лишила его этого места, и он впал в крайнюю нищету. Ему пришлось заняться ремеслом натурщика, ибо он обладал привлекательной внешностью.
Когда церковь вновь обрела свои права, Пупилье опять взял в руки алебарду; однако в 1816 году он был отрешен от должности – как по причине безнравственного поведения, так и по причине преклонного возраста: полагали, что ему семьдесят лет. Тем не менее вместо пенсии ему разрешили стоять на паперти, у входа в храм, где он предлагал святую воду. В 1820 году это доходное занятие стало предметом зависти, и Пупилье уступил его другому после того, как получил обещание, что ему разрешат собирать милостыню на паперти. Ему было в то время шестьдесят пять лет, но он утверждал, что ему девяносто шесть, ибо столетнему старцу охотнее подают.
Во всем Париже невозможно было сыскать другого человека, который мог бы похвалиться такой всклокоченной шевелюрой и бородой. Бедняга сгибался в три погибели, посох плясал в его дрожащей руке, изъеденной лишаями, как бывает изъеден гранитный утес; он протягивал прохожим неописуемую шляпу – грязную, с измятыми полями, зашитую в нескольких местах, и сердобольные люди щедро бросали в нее монеты. На ногах, обернутых тряпками и лохмотьями, он носил ветхие плетеные туфли, внутри которых были, однако, отличные мягкие стельки из конского волоса. Лицо старик посыпал и смазывал различными снадобьями, они создавали видимость язв, пятен и отеков – признаков тяжких болезней; словом, он великолепно играл роль дряхлого старца. Начиная с 1825 года Пупилье всем говорил, будто ему стукнуло сто лет, хотя на самом деле ему исполнилось лишь семьдесят. Пупилье помыкал другими нищими, он чувствовал себя полновластным хозяином паперти. И все тунеядцы, просившие милостыню на паперти, не боясь полиции, ибо они находились под защитой церковного привратника, сторожа, человека, кропившего верующих святой водой, и всего клира, уплачивали своему негласному властителю Пупилье своеобразную десятину.
Когда при выходе из церкви какой-нибудь наследник, молодой муж или крестный отец говорил, протягивая деньги: «Вот вам на всех, пусть никто не будет в обиде», – Пупилье, которого привратник, унаследовавший свою должность от старика, выталкивал вперед, прикарманивал три четверти даяния и лишь четвертую часть отдавал нищей братии; при этом он еще взимал с каждого по одному су в день. С 1820 года в душе старика теплились только два чувства – скупость и страсть к вину. Пупилье не отказывал себе в напитках, но соблюдал известную меру. Он напивался только после обеда, по вечерам, когда церковь была уже закрыта, и на протяжении двадцати лет сладко засыпал, сжимая в объятиях свою последнюю любовницу – бутылку с вином.








