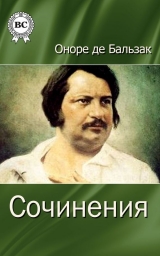
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 86 страниц)
Каждый день спозаранку он уже стоял во всеоружии на своем посту. С утра и до обеда – а обедал старик у знаменитого папаши Латюиля, прославленного карандашом Шарле, – он жевал черствые корки хлеба и делал это столь артистически, с таким безропотным видом, что подаяния сыпались на него, как из рога изобилия. Привратник и человек, кропивший верующих святой водой, с которыми Пупилье, возможно, был в сговоре, с похвалой отзывались о нем:
– Это старейший нищий нашей церкви, он еще знавал кюре Ланге, который строил Сен-Сюльпис, двадцать лет он был привратником сего храма, и до революции и после нее. Теперь ему стукнуло сто лет.
Эта краткая биография, известная всем святошам, была самой отменной рекомендацией, и ни в одной шляпе парижского нищего не набиралось к вечеру столько монет. В 1826 году Пупилье купил себе дом, а в 1830 году приобрел государственную ренту.
Оба этих источника дохода приносили ему до шести тысяч франков в год, и он, по примеру Серизе, давал деньги в рост; стоимость дома, принадлежавшего Пупилье, достигала сорока тысяч франков, а стоимость ренты – сорока восьми тысяч. Племянница старого хитреца, как и привратники, младшие служители церкви и верующие, не подозревала о богатстве Пупилье и думала, что он беднее ее; вот почему она порою приносила ему рыбу. Поэтому мамаша Кардинал сочла себя вправе извлечь пользу из своих приношений и сочувствия к старику, у которого, видимо, имелась целая куча не известных ей родственников по боковой линии: ведь сама она была третьей дочерью рассыльного, и у нее было четыре брата. В детстве отец рассказывал девочке, что у нее есть три тетки и четверо дядюшек, ведущих самое нелепое существование.
Проведав старика Пупилье, г-жа Кардинал опрометью кинулась к Серизе, чтобы посоветоваться с ним. Она рассказала ростовщику о встрече с дочерью, а затем поделилась множеством соображений, наблюдений и признаков, указывавших на то, что старик, должно быть, прячет целую кучу золота в постели. Мамаша Кардинал не знала, каким способом – законным или незаконным – лучше завладеть наследством нищего, и поэтому сочла полезным довериться Серизе.
Ростовщик бедняков смахивал на золотаря, который, копаясь в нечистотах, порою находит там драгоценности: Серизе уже четыре года барахтался в грязи, поджидая такого случая, он знал, что подобные вещи порою происходят в предместьях, где люди, еще вчера носившие сабо, назавтра просыпаются богатыми наследниками. Вот почему он столь благодушно беседовал с человеком, которого поклялся разорить… Надо ли говорить, в какой тревоге Серизе ожидал возвращения вдовы Кардинал: этот мастер низких интриг дал ей точные указания, каким путем проверить возникшие у нее подозрения, что нищий прячет у себя в комнате сокровище. На прощание Серизе пообещал торговке золотые горы, если она согласится поручить ему собрать золотую жатву. Экспедитор принадлежал к числу людей, не останавливающихся даже перед преступлением, особенно если преступление это можно совершить чужими руками, а барыш присвоить себе. Мысленно он уже покупал дом на улице Жоффруа-Мари, видел себя парижским буржуа, капиталистом, ворочающим делами.
– Любезный мой Бенжамен, – воскликнула торговка рыбой, возвращаясь к Серизе, вся красная от быстрого бега и алчности, – мой дядюшка прячет в матрасе по меньшей мере сто тысяч франков золотом!.. Я уверена, эти Пераши и взялись-то ухаживать за ним, чтобы запустить рукув его кубышку.
– Если разделить это состояние между сорока наследниками, – заметил Серизе, – то каждому не много достанется. Послушайте, мамаша Кардинал, я женюсь на вашей дочери, дайте ей в приданое золото своего дядюшки, а я вам оставлю его ренту и дом… с пожизненным пользованием доходами.
– А мы ничем не рискуем?
– Ничем.
– По рукам! – вскричала вдова Кардинал. – Ох, и заживу же я на шесть тысяч франков дохода!
– И в придачу у вас будет такой зять, как я, – прибавил Серизе.
– Стало быть, я отныне буду принадлежать к парижским богачам! – в упоении заявила торговка.
– А теперь, – продолжал Серизе после паузы, вызванной тем, что будущие зять и теща лобызали друг друга, – я должен произвести разведку на местности. Отправляйтесь к дядюшке и никуда не уходите оттуда. Привратнику скажите, будто ждете врача, этим врачом буду я, смотрите только не покажите вида, что мы знакомы.
– Ну и ловкач же ты, ну и пройдоха! – воскликнула мамаша Кардинал и на прощание похлопала Серизе по животу.
Через час Серизе, одетый в черную пару с рыжим париком на голове и искусно загримированным лицом, прибыл на улицу Оноре-Шевалье в наемном кабриолете. Он попросил указать ему жилище нищего по имени Пупилье. Привратник, тачавший в это время сапог, осведомился у него:
– Сударь, вы и есть врач, которого ждет госпожа Кардинал?
Серизе утвердительно кивнул головой, и горбун проводил его к узкой лестнице, которая вела на мансарду, где жил нищий.
Пераш вышел на порог привратницкой и принялся расспрашивать кучера кабриолета; тот подтвердил, что господин, которого он привез, – действительно доктор.
Дом, где проживал Пупилье, принадлежал к числу тех плоских и длинных зданий, какими застроена улица Оноре-Шевалье – одна из самых узких в квартале Сен-Сюльпис. Закон запрещал домовладельцу надстраивать и восстанавливать строение, и тот был вынужден сдать внаем этот барак в том виде, в каком он его приобрел. Дом с необыкновенно уродливым фасадом был двухэтажный с мансардами. Справа и слева к нему под углом были пристроены два флигелька. Двор заканчивался садом, им пользовались жильцы квартиры, расположенной во втором этаже. Сад, где росло немало деревьев, был отделен от двора решеткой; будь домовладелец человеком богатым, он мог бы продать сад вместе с домом городу, а во дворе построить новое здание. Однако домовладелец был небогат, к тому же он отдал внаем второй этаж сроком на восемнадцать лет какому-то загадочному человеку, которого не мог раскусить ни сыщик-любитель, каким был знакомый нам привратник, ни жильцы, отнюдь не страдавшие отсутствием любопытства.
Этот квартиронаниматель, человек лет семидесяти, еще в 1829 году пристроил к окну флигелька, выходившего в сад, специальную лестницу, позволявшую ему спускаться, минуя двор, в этот сад и прогуливаться в нем. Левую половину нижнего этажа занимал брошюровщик, лет десять назад превративший каретные сараи и конюшни в мастерские, а правую половину – переплетчик. Оба они занимали также половину мансард, выходивших на улицу. Мансарды, шедшие над флигелем, чьи окна глядели в сад, принадлежали загадочному жильцу. Мансарда же, венчавшая второй флигелек, служила жилищем Пупилье, он платил за нее сто франков в год; попасть туда можно было по лестнице, освещенной узкими оконцами. Ворота были с глубокой нишей, так как на этой узкой улице две телеги уже не могли разъехаться.
Серизе ухватился за веревку, заменявшую перила на лестнице, которая вела в комнату, где умирал старик. Там его глазам должно было предстать зрелище показной нищеты.
В Париже все, что люди делают намеренно, им великолепно удается. Нищие в этом смысле не составляют исключения: они напоминают лавочников, искусно украшающих витрины, и людей, которые, желая получить кредит, ловко пускают пыль в глаза заимодавцам.
Пол в комнате Пупилье никогда не подметался; дерева не было видно, оно было скрыто своеобразной циновкой, образовавшейся из нечистот, пыли, высохшей грязи и различного мусора. Дрянная чугунная печурка с трубой, выведенной в простенок над полуразрушенным камином, украшала это логово; в глубине виднелся альков, там стояла кровать, чем-то напоминавшая гробницу; полог из зеленой саржи настолько обветшал и изорвался, что походил на кружево. Слепое оконце являло взору такое пыльное и грязное стекло, что занавеска тут была излишней. Стены, некогда побеленные, теперь были покрыты густым слоем копоти: нищий топил печурку углем и торфом. На камине стоял выщербленный кувшин для воды, две бутылки и разбитая тарелка. Источенный червями, убогий комод служил вместилищем для белья и чистой одежды. Вся мебель в комнате состояла из дешевого ночного столика, неструганого стола стоимостью в два франка и двух кухонных стульев с продавленными сиденьями из соломы. Живописное платье старика висело на гвозде, из-под кровати высовывались растоптанные плетеные туфли, заменявшие башмаки. Чудодейственный посох и шляпа находились возле алькова.
Войдя в комнату, Серизе бросил взгляд на больного: тот лежал на почерневшей от грязи подушке без наволочки. Его резко очерченный профиль, напоминавший те, какими в прошлом веке граверы любили украшать барельефы, которые и ныне еще можно встретить на домах вдоль бульваров, вырисовывался темным силуэтом на фоне зеленого занавеса. Пупилье, высокий и костистый старик, пристально созерцал какой-то воображаемый предмет в изножье кровати; он даже не пошевелился, услышав, как заскрипела тяжелая, обитая железом дверь с крепким засовом, надежно закрывавшая вход в жилище.
– Он в сознании? – спросил Серизе.
Мамаша Кардинал испуганно попятилась от неожиданности: она узнала вошедшего только по голосу.
– Вроде в сознании, – ответила она.
– Выйдем на лестницу, там нас никто не услышит. Вот мой план, – зашептал Серизе на ухо своей будущей теще. – Старик сильно ослабел, но вид у него еще бодрый, так что в нашем распоряжении не меньше недели. Впрочем, я привезу сюда надежного врача. Сам я снова приду во вторник с шестью головками мака. Пупилье в таком состоянии, что настой из мака, которым мы его попотчуем, заставит сердечного уснуть крепким сном. Я пришлю вам походную кровать под тем предлогом, что вам придется проводить ночи возле больного. Мы перенесем его с кровати под зеленым балдахином на походную и узнаем, много ли денег хранится в драгоценном ложе. Ну, а там придумаем, как их вынести! Врач скажет нам, сколько дней осталось жить старику и, главное, способен ли он еще написать завещание…
– Сынок!.. – вырвалось у торговки.
– Но мне надо знать, кто живет в этом дрянном бараке! Пераши могут поднять тревогу, а потом, как говорится, сколько жильцов, столько и шпионов!
– Пустяки! Я уже узнала, что бельэтаж занимает некий господин дю Портайль, невысокий старичок, опекун сумасшедшей девушки по имени Лидия, я слышала, как он с нею утром разговаривал. Ходит за ней старая фламандка, ее зовут Катт. У старика в услужении есть еще камердинер, Брюно, он все делает по дому, только обед не варит.
– Да, но переплетчик и брошюровщик, – заметил Серизе, – работают с раннего утра… А пока пойдем в мэрию. Для оглашения о предстоящем браке мне нужно указать все имена вашей дочери и место ее рождения, чтобы выправить необходимые бумаги. В следующую субботу, в восемь вечера, сыграем свадебку!
– Ну и хват, ну и молодец! – проговорила мамаша Кардинал, по-свойски толкая плечом грозного зятя.
Спустившись по лестнице, Серизе с удивлением увидел, что маленький старичок дю Портайль прогуливается по саду с одним из самых влиятельных членов правительства, графом Марсиалем де ла Рош-Югоном. Экспедитор остановился во дворе и сделал вид, будто внимательно изучает старый дом, построенный еще во времена Людовика XIV; желтые стены из тесаного камня обветшали не меньше, чем старик Пупилье. Исподтишка Серизе кинул взгляд на обе мастерские и подсчитал число работников в них. В доме было тихо, как в монастыре. Сделав нужные наблюдения, Серизе удалился, размышляя о трудностях, с какими будет сопряжено похищение денег, запрятанных умирающим, хотя, как известно, золото занимает не много места.
– Вынести деньги ночью? – пробормотал Серизе. – Но привратник и его жена все время начеку, а днем – и того хуже, за тобой будут следить двадцать пар глаз… Не так-то просто вынести на себе двадцать пять тысяч франков золотом…
Человеческому обществу присущи две формы совершенства: в первом случае цивилизация и нравственность находятся на столь высоком уровне, что уже сами по себе исключают возможность преступления; иезуиты стремились к этой возвышенной форме совершенства, которая была свойственна ранним христианам; во втором случае цивилизация находится на таком уровне, когда взаимное наблюдение граждан друг за другом делает преступление невозможным. Именно к такой форме совершенства стремится современное общество: в нем преступление сопряжено с такими трудностями, что только человек, неспособный рассуждать, совершает его. И действительно, ни одно из правонарушений, даже ускользнувших от возмездия закона, не остается безнаказанным, и приговор общественного мнения бывает подчас еще суровее, нежели судебный приговор. Пусть какой-нибудь человек, подобно Миноре, нотариусу из Немура, уничтожит завещание без свидетелей, это преступление будет раскрыто людьми добродетельными так же, как воровство раскрывается полицейскими агентами. Любое проявление непорядочности будет раньше или позже замечено, и любой тайный ущерб, нанесенный ближнему, так или иначе станет явным. В наши дни ни люди, ни вещи не исчезают бесследно, особенно в Париже, где предметы обстановки перенумерованы, дома охраняются, улицы находятся под наблюдением, площади кишат добровольными шпионами. Нарушение закона получает право на существование лишь в том случае, если его санкционирует столь авторитетное учреждение, как биржа, или если оно совершается с общего согласия: так, к примеру, клиенты Серизе не жаловались на незаконные поборы, которыми облагал их ростовщик; больше того, они бы задрожали от ужаса, если бы не нашли его на посту – в кухне, во вторник утром.
– Ну, что вы скажете, сударь, – спросила привратница, идя навстречу Серизе, – как себя чувствует наш бедный больной, этот божий человек?..
– Я поверенный госпожи Кардинал, – ответил Серизе, – и посоветовал ей поставить в комнате старика походную кровать, чтобы ухаживать за ним. Я нынче же пришлю нотариуса, врача и сиделку.
– О, с обязанностями сиделки я бы отлично управилась, – заметила госпожа Пераш, – ведь я ходила за роженицами.
– Ну что ж! Там видно будет, – отозвался Серизе, – я это улажу… Скажите, кто занимает бельэтаж?
– Господин дю Портайль… Он уже тридцать лет здесь живет, это рантье, весьма почтенный старик… Вы, верно, и сами знаете, рантье живут на свою ренту… В прошлом он ворочал делами… Скоро уже одиннадцать лет, как он пытается вернуть рассудок дочке одного из своих друзей, мадемуазель Лидии де ла Перад. О, за ней так заботливо ухаживают, ее пользуют два самых знаменитых врача… Но только до сих пор все было напрасно, рассудок к бедняжке не возвращается!
– Ее зовут Лидия де ла Перад? – изумился Серизе. – Вы уверены?
– Ее гувернантка, госпожа Катт, она, кстати, и обед готовит, называла мне это имя сто раз, хотя, вообще говоря, ни господин Брюно, камердинер старика, ни госпожа Катт болтать не любят. Обращаться к ним с вопросами бесполезно: молчат, как каменные… Мой муж уже двадцать лет привратник, а о господине дю Портайле мы так ничего толком и не выведали. Я вам вот еще что скажу, сударь, ведь ему принадлежит боковой флигель, видите, вон там, где калитка! А потому он может по своему желанию выходить на улицу и принимать гостей, а мы о том даже и не знаем. Да и наш домовладелец знает не больше, чем мы: ведь, когда звонят у калитки, открывать идет господин Брюно…
– Стало быть, вы не видали, как вошел человек, с которым сейчас беседует ваш загадочный старичок? – спросил Серизе.
– Вот так штука! А я и не подозревала, что к нему кто-то пришел…
«Лидия – дочь дяди Теодоза, – сказал себе Серизе, усаживаясь в кабриолет. – А дю Портайль, должно быть, тот самый таинственный покровитель, который в свое время прислал моему дружку две с половиной тысячи франков… Что, если я предварю старика анонимным письмом об опасности, угрожающей молодому адвокату, который должен по векселям двадцать тысяч франков?»
Через час походная кровать для г-жи Кардинал была доставлена; любопытная привратница предложила торговке свои услуги для приготовления обеда.
– Не хотите ли вы повидать господина кюре? – спросила мамаша Кардинал у больного, с интересом разглядывавшего новую кровать.
– Я хочу вина! – проворчал нищий. – И ничего больше.
– Как вы себя чувствуете, папаша Пупилье? – осведомилась привратница.
– Никак я себя не чувствую, – ухмыльнулся старик, – вот уже двенадцать дней, как я не занимаюсь своим ремеслом…
Этот человек, много лет стоявший на паперти церкви Сен-Сюльпис, считал нищенство ремеслом…
– Он приходит в себя, – прошептала мамаша Кардинал.
– Они меня обворовывают, они там управляются без меня, – продолжал старик, бросая вокруг угрожающие взгляды. – А, это ты, крошка Кардинал? Клянусь святым храмом…
– Как я рада, что вы пришли в себя! – воскликнула крошка Кардинал, которой было без малого сорок лет.
Старец снова откинулся на подушку.
– Неважно, он еще в силах подписать завещание, как говорит наша обезьяна, – проворчала торговка рыбой.
Читателю должно быть известно, что в народе прозвище «обезьяна» дается поверенным и нотариусам. Называют так и подрядчиков.
– Надеюсь, вы обо мне не забудете, – умильным голосом сказала привратница. – Ведь это я велела Перашу сходить за вами.
– Забыть о вас? Да я скорее забуду о боге, моя милая… Какая же я буду Пупилье, если, получив свою долю, не насыплю вам полный передник монет…
Вечером снова вернулся Серизе; он покончил со всеми хлопотами, связанными с получением необходимых для бракосочетания бумаг, и побывал в мэриях двух округов, где сделал оглашение. Одной чашки настоя из мака оказалось достаточно, чтобы усыпить старика Пупилье. Достойная племянница и Серизе взяли больного за голову и за ноги и перенесли его с одной кровати на другую. Затем, не испытывая никакого стыда, торопливо перерыли постель; они даже вспороли матрас, этот несгораемый шкаф нищих. В матрасе ничего не оказалось, зато под ним вместо сетки они увидели деревянный ящик. Нетерпеливые наследники вскоре обнаружили в ящике двойное дно, и тогда стало понятно, почему мамаша Кардинал не смогла утром сдвинуть с места это тяжелое ложе. Через несколько минут Серизе, тщательно исследовав тайник, понял, что внутренний ящик замаскирован дощечкой, которая выдвигается, подобно крышке пенала. Он вытащил эту деревянную пластинку, и его глазам открылись четыре ящика, шириною в три дюйма каждый, набитые золотыми монетами.
– Мы заменим золото медяками, – ухмыльнулся Серизе, подталкивая локтем свою сообщницу.
– А много ли тут денег?
– Больше ста тысяч франков, в каждом ящике – по меньшей мере тридцать тысяч, – ответил Серизе, – славное приданое для вашей дочери. А теперь перенесем старика на его кровать. Раз секрет тайника нам известен, мы без труда разработаем эту золотую жилу…
– Должно быть, он откопал такую кровать скупца у какого-нибудь торговца мебелью, – заметила госпожа Кардинал.
– Давайте посмотрим, смогу ли я унести за раз тысячу монет по сорок франков, – сказал Серизе, набивая золотом карманы.
В карманы панталон вошло триста золотых монет, в жилетные – двести, а в каждый из двух карманов сюртука он вложил по двести пятьдесят монет, предварительно завязав их в свой носовой платок и в платок мамаши Кардинал.
– Ну как, очень заметно, что я нагружен? – спросил он, прохаживаясь по комнате.
– Вовсе нет!..
– Так вот, за четыре раза я перетащу к себе все золото из ящиков.
Спящего старика перенесли на его ложе, а Серизе отправился на площадь Сен-Сюльпис, где нанял фиакр и поехал домой. Чтобы не возбуждать подозрений, он вскоре вновь возвратился в сопровождении врача из квартала Сен-Марсель, обычно пользовавшего бедняков и хорошо знавшего их недуги. Осмотр больного продолжался до девяти часов вечера. Врач, введенный в заблуждение глубоким забытьем больного, которое было вызвано настойкой мака, заявил, что тот не протянет и трех дней. Как только врач уехал, Серизе взял…
(На этом заканчивается текст, оставленный Бальзаком).
Деловой человек
Господину барону Джемсу Ротшильду, генеральному австрийскому консулу в Париже, банкиру.
Слово «лоретка» было придумано для того, чтобы дать пристойное название некоему разряду девиц, или же девицам того трудноопределимого разряда, который Французская академия, по причине своего целомудрия, а также ввиду возраста своих сорока членов, не сочла за благо обозначить точнее. Когда новое слово вполне выражает общественное явление, говорить о котором без околичностей невозможно, жизненность такого слова обеспечена. Так, слово «лоретка» проникло во все слои общества, даже в те, куда сама лоретка никогда не проникнет. Слово это родилось только в 1840 году, по всей вероятности, вследствие скопления гнезд этих ласточек по соседству с церковью Лоретской божьей матери. Наше объяснение предназначено только для грамматиков. Сии господа не оказались бы в таком затруднении, если бы писатели средневековья так же тщательно изображали нравы, как делаем мы, в наш век анализа и описаний.
Мадемуазель Тюркэ, или Малага, – ибо под этим боевым именем она гораздо более известна (см. «Мнимая любовница»), – одна из первых прихожанок этой очаровательной церкви. Девица веселая, остроумная и не имевшая иного богатства, кроме красоты, Малага в то время, к которому относится наша история, составляла счастье одного нотариуса; супруга его была женщиной, пожалуй, чересчур набожной, чересчур чопорной, чересчур сухой для того, чтобы он мог вкушать блаженство у домашнего очага. Итак, однажды вечером, на масленой, достопочтенный Кардо угощал у мадемуазель Тюркэ стряпчего Дероша, карикатуриста Бисиу, журналиста Лусто и Натана, – их имена, столь хорошо известные по «Человеческой комедии», делают излишней какую бы то ни было характеристику. Юный ла Пальферин, чей старинный графский титул можно было сравнить с древней скалой, увы, лишенной малейшей прожилки благородного металла, почтил своим присутствием незаконный приют нотариуса. За обедом у лоретки не угощают патриархальной говядиной, тощим супружеским цыпленком или семейным салатом, не услышишь здесь и лицемерных речей, какие произносят в салоне, украшенном добродетельными женами буржуа. Ах! Когда же наконец добрые нравы станут привлекательными? Когда наконец светские дамы будут меньше показывать плечи, но выкажут больше ума и простодушия? Маргарита Тюркэ, эта Аспазия из цирка Олимпик, принадлежала к числу непосредственных и живых натур, которым прощают все за наивность в грехе и за лукавство в раскаянии, которым говорят: «Обманывай меня ловчее!» – как ей и говорил Кардо, человек довольно остроумный, хотя и нотариус. Не вообразите, однако, чего-нибудь уж слишком дурного. Просто Дерош и Кардо, как люди весьма покладистые и ловкие дельцы, почитали за благо держаться на дружеской ноге с Бисиу, Лусто, Натаном и молодым графом. А эти господа, нередко прибегавшие к услугам обоих должностных лиц, слишком хорошо их знали, чтобы, выражаясь языком лореток, их обставлять.
Беседа, благоухавшая ароматом семи сигар, сначала игривая, словно выпущенная на свободу козочка, остановилась на стратегии, выработавшейся в Париже в результате непрекращающейся войны между должником и заимодавцем. И если вы соизволите припомнить обстоятельства жизни гостей, собравшихся у Малаги, то, конечно, согласитесь, что в Париже с трудом найдешь людей более осведомленных в этой области: одни – завзятые крючкотворы, другие – свободные художники, они походили на пересмеивающихся между собой судей и ответчиков. Серия рисунков, которые Бисиу посвятил долговой тюрьме Клиши, послужила поводом для нового оборота разговора. Была полночь. Собеседники, непринужденно рассевшиеся в гостиной вокруг стола и перед камином, обменивались остротами, которые, мало того, что понятны и возможны только в Париже, но даже и в самом Париже возникают и могут быть поняты лишь в одной определенной части города, очерченной улицами Фобур-Монмартр и Шоссе д'Антен, возвышенной частью улицы Наваррен и полосой бульваров.
Глубокие мысли, серьезные и пустяковые поучения, все прибаутки на эту тему, исчерпанную, впрочем, Рабле уже в 1500 году, были вновь исчерпаны за десять минут. Отказаться от такого фейерверка – заслуга не шуточная; завершила его Малага, пустив последнюю ракету.
– Все это оборачивается на пользу поставщикам, – сказала она. – Я отказала модистке, которая испортила мне две шляпки. Разъярившись, она двадцать семь раз прибегала ко мне за двадцатью франками. Ей и в голову не приходило, что у нас никогда не бывает двадцати франков. Можно иметь тысячу франков, можно послать за пятьюстами к своему нотариусу; но двадцать франков – таких денег у меня вовек не было! Моя кухарка и горничная, быть может, и наберут вместе двадцать франков. У меня же нет ничего, кроме кредита, и я его потеряю, едва лишь возьму в долг двадцать франков. Если я попрошу двадцать франков, то уж ничем не буду отличаться, от своих товарок, прогуливающихся по бульварам.
– Модистке уплачено? – осведомился ла Пальферин.
– Да в уме ли ты, дружок? – воскликнула она, прищурившись. – Сегодня утром она явилась в двадцать седьмой раз, – вот почему я вам об этом рассказываю.
– Как же вы поступили? – поинтересовался Дерош.
– Мне стало жаль ее, и… я заказала крохотную шляпку, которую сама в конце концов придумала, чтобы получилось что-то необыкновенное. Если мадемуазель Аманда справится, то уж ничего больше у меня не потребует: судьба ее обеспечена.
– Мне довелось наблюдать поразительные случаи такого рода борьбы, – заявил Дерош, – и, по-моему, они гораздо лучше объясняют деловым людям Париж, чем художественные произведения, где всегда изображается Париж фантастический. Вот вы, – продолжал он, окинув взглядом Натана, Лусто, Бисиу и ла Пальферина, – вы воображаете себя ловкачами, а всех вас затмил на этом поприще некий граф, занятый сейчас завершением своей карьеры; в свое время он считался самым ловким, самым искусным, самым хитрым, самым умелым, самым дерзким, самым изворотливым, самым непреклонным, самым предусмотрительным из всех пиратов в желтых перчатках, с кабриолетом и отменными манерами, из всех пиратов, которые когда-либо бороздили, бороздят и будут бороздить бурное море Парижа. Лишенный совести и чести, он в своих делах следовал всегда принципам, каким следует английский кабинет министров. До женитьбы жизнь его была непрестанной борьбой, как у… Лусто, – прибавил Дерош. – Я был и до сих пор состою его поверенным.
– А какая первая буква его имени?.. Погодите, это – Максим де Трай! – воскликнул ла Пальферин.
– Тем не менее и он все заплатил, никого не введя в убыток, – продолжал Дерош. – Но, как только что заметил наш друг Бисиу, требование уплаты в марте, когда хочется заплатить в октябре, – это посягательство на свободу личности. Поэтому, согласно некоей статье своего собственного кодекса законов, Максим считал мошенничеством хитрость, на которую отважился один из его кредиторов, чтобы добиться немедленной уплаты. Вексель со всеми его последствиями, прямыми и косвенными, был давным-давно изучен Максимом. Однажды некий молодой человек, в гостях у меня, назвал в его присутствии вексель «мостом ослов». «Нет, – заметил Максим, – это «мост вздохов»: оттуда не возвращаются». Надо добавить, что коммерческую юриспруденцию он знал досконально, ни один стряпчий не мог бы ничему научить Максима. Как вам известно, имущества у него тогда никакого не было, ездил он в наемной карете и на наемных лошадях, жил у своего лакея, в чьих глазах, говорят, навсегда останется великим человеком – даже после брака, в который собирается вступить! Он состоял членом трех клубов и обедал в одном из них в тех случаях, когда не бывал приглашен в какой-либо знакомый дом. Вообще он редко пользовался своим жилищем…
– Да, он мне сказал однажды, – воскликнул ла Пальферин, перебивая Дероша: – «Единственная моя слабость – это делать вид, будто я живу на улице Пигаль!»
– Таков один из двух противников, – продолжал Дерош, – а вот и другой. Вы, верно, что-нибудь слышали о некоем Клапароне…
– Волосы у него торчали вот этак! – воскликнул Бисиу, взъерошив свою шевелюру.
И, одаренный тем же талантом копировать людей, каким в высокой степени обладал пианист Шопен, он мигом, с поразительным сходством изобразил Клапарона.
– Разговаривая, он вот так вертит головой, он был коммивояжером, перепробовал все ремесла…
– Надо полагать, он родился путешественником, ибо в эту самую минуту находится на пути в Америку, – сказал Дерош. – У него только и осталось надежды, что на Америку: в ближайшую сессию он, верно, будет заочно осужден за злостное банкротство.
– Человек за бортом! – воскликнула Малага.
– Клапарон этот, – продолжал Дерош, – в течение шести или семи лет был ширмой, подставным лицом, козлом отпущения для двух наших друзей, дю Тийе и Нусингена; но в 1829 году его роль стала настолько известна…
– …что наши друзья вероломно его бросили, – вставил Бисиу.
– Они попросту предоставили его собственной судьбе, – пояснил Дерош, – и он скатился в грязь. В 1833 году он сошелся, чтобы обделывать разные делишки, с неким Серизе…
– Как! С тем, который в пору увлечения коммандитными обществами задумал такую миленькую комбинацию, что шестое отделение судебной палаты упрятало его на два года в тюрьму? – спросила лоретка.
– С тем самым, – подтвердил Дерош. – Во время Реставрации, с 1823 по 1827 год, профессия этого Серизе состояла в том, чтобы бесстрашно подписывать газетные статьи, которые яростно преследовали министерство внутренних дел, и садиться за это в тюрьму. Приобрести известность было тогда легко. Либеральная партия называла своего присяжного бойца «отважный Серизе». Его ревностная деятельность была расценена в 1828 году как «общественное благо». «Общественное благо» – было своего рода гражданским лавровым венком, присуждавшимся газетами. Серизе решил пустить в оборот «общественное благо»; он явился в Париж и открыл под покровительством банкиров «левой» частное агентство, занимавшееся, между прочим, и банковскими операциями над капиталом одного человека, слишком ловкого игрока, который сам себя отправил в изгнание: в июле 1830 года все его деньги ухнули вместе с государственным кораблем.
– А! Это тот, которого мы прозвали «искусством карточной игры»!.. – воскликнул Бисиу.
– Не говорите о нем дурно! – вскричала Малага. – Бедняжка д'Этурни был славный малый.
– Вы понимаете, конечно, какую роль в 1830 году должен был играть разорившийся человек, которого в политических кругах называли «отважный Серизе». Его послали в один весьма приятный округ, – продолжал Дерош. – К несчастью для Серизе, власть не так наивна, как партии, склонные во время борьбы все превращать во взрывной снаряд. Продержавшись месяца три, Серизе был вынужден подать в отставку. Уж не вздумалось ли ему снискать популярность? К тому времени он еще ничего не натворил такого, чтобы лишиться своего благородного титула («отважный Серизе»!), и правительство, в порядке возмещения, предложило ему пост редактора одной оппозиционной, a in petto правительственной газеты. Таким образом, само же правительство совратило этого достойного человека. Чувствуя себя в этой должности слишком уж похожим на птицу, сидящую на гнилой ветке, Серизе устремился в очаровательное коммандитное общество и заработал, несчастный, как вы только что изволили заметить, два года тюрьмы, в то время как более ловкие обрабатывалипублику.








