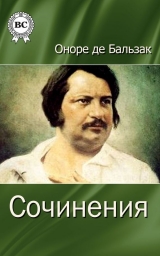
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 86 страниц)
Обед закончился тостом, предложенным Тюилье; тост этот подсказал ему Теодоз, когда малага, разлитая по рюмкам, засверкала в них, как рубин.
– Господа, Кольвиль выпил за дружбу. Я же пью это благородное вино за моих друзей!..
Эти прочувствованные слова были встречены громкими криками «ура». Воспользовавшись шумом, Дюток не преминул сказать Теодозу:
– Просто преступление вливать такое вино в их луженые глотки…
– Ах, если бы можно было изготовлять во Франции подобное вино, друг мой! – вскричала жена мэра, с шумом тянувшая из своей рюмки испанский ликер. – Какое славное состояние можно было бы себе сколотить!..
Зели окончательно опьянела, на ее багровое лицо страшно было смотреть.
– Ну, наше состояние уже сколочено! – ответил Минар.
– Как вы думаете, сестрица, – обратилась Бригитта к г-же Тюилье, – не подать ли нам чай в гостиную?..
Вместо ответа г-жа Тюилье поднялась из-за стола.
– Ах, вы великий чародей! – сказала Флавия Кольвиль де ла Пераду, который предложил ей руку, чтобы проводить в гостиную.
– И моя единственная мечта, – ответил молодой человек, – очаровать вас. Поверьте, я полностью вознагражден: сегодня вы еще более восхитительны, чем всегда!
– Подумать только, – сказала она, не принимая вызова, – Тюилье, наш Тюилье возомнил себя политическим деятелем.
– Моя дорогая, половина смешных положений и смехотворных поступков, с которыми мы сталкиваемся в обществе, – плод подобных интриг, часто сам человек не так уж в этом виновен. Во многих семьях, как вы, верно, сами не раз наблюдали, муж, дети, друзья убеждают хозяйку дома, глупее которой трудно сыскать, что она кладезь мудрости, или матрону лет сорока пяти, что она молода и хороша собой!.. Отсюда и возникают странности в поведении, не объяснимые для людей, непричастных к этой игре. Нередко встречаешь мужчин, обязанных своим отвратительным самомнением рабскому обожанию любовницы, или же чванных рифмоплетов, которых продажные льстецы убедили, будто они великие поэты. В каждом роду есть свой выдающийся человек, и общество поэтому уподобляется палате, где вечно царит полумрак, хотя там находятся светочи Франции… Ну и что ж? Люди умные, глядя на это, посмеиваются, вот и все. Вы олицетворяете ум и красоту в этом маленьком буржуазном мирке, вот почему я поклоняюсь вам, как божеству. Но моя заветная мысль – вырвать вас отсюда, ибо я вас искренне люблю. Правда, в моем чувстве больше дружбы, нежели любви, хотя и любви тут примешалось немало, – прибавил он и, пользуясь тем, что оконная ниша скрывала их от любопытных взглядов, нежно прижал Флавию к груди.
– Госпожа Фельон, не угодно ли вам сесть за фортепьяно? – сказал Кольвиль. – Сегодня здесь все должно пуститься в пляс: бутылки, монеты, бренчащие в кармане мадемуазель Бригитты, и наши славные дочки! Я, пожалуй, схожу за кларнетом.
При этих словах он подал жене чашку, из которой только что пил кофе, и улыбнулся, видя, что между Флавией и Теодозом установилось полное согласие.
– Что вы сделали с моим мужем? – спросила Флавия у своего соблазнителя.
– Должен ли я вам открыть нашу тайну?
– Значит, вы меня не любите? – проговорила она, взглянув на него с едва скрытым кокетством женщины, почти решившейся идти до конца.
– Ну, коль скоро и вы мне станете открывать все ваши тайны, – продолжал он весело, словно охваченный неудержимым порывом южанина, с виду таким естественным и очаровательным, – то и я не стану скрывать от вас ничего из того, что лежит у меня на сердце…
Он вновь увлек ее в оконную нишу и сказал, улыбаясь:
– Бедняга Кольвиль разглядел во мне артиста, притесняемого всеми этими буржуа, молчащего в их присутствии из страха, что его не поймут, дурно истолкуют, изгонят. Зато он ощутил жар священного огня, пылающего в моей груди. Кстати, – продолжал Теодоз, и в его голосе прозвучала глубокая убежденность, – я и в самом деле артист, когда дело доходит до красноречия, артист в духе Беррье: я могу заставить плакать присяжных, заплакав сам, ибо я нервен, как женщина. И вот ваш муж, презирающий всех этих буржуа, вышучивал их вместе со мной, мы буквально уничтожали их смехом, и он нашел, что моя ирония не уступает его собственной. Я посвятил его в наш план касательно Тюилье, я дал ему понять, какую пользу может принести ему сей политический манекен. «Ради одного того, – сказал я, – чтобы стать господином де Кольвилем и тем самым позволить вашей очаровательной жене занять подобающее место в обществе, вам следует получить место генерального сборщика налогов, а затем сделаться депутатом. Для этого вам достаточно будет прожить лет восемь в департаменте Верхних или Нижних Альп, в каком-нибудь захолустном городе, где все вас будут любить и где ваша жена очарует всех… И такая возможность будет к вашим услугам, особенно если вы отдадите свою милую Селесту в жены человеку, способному приобрести влияние в Палате…» Аргументы, изложенные в шутливой форме, действуют на некоторых людей куда сильнее, чем если с ними говорят серьезно. Так что отныне мы с Кольвилем закадычные друзья. Разве вы не слышали, как он крикнул мне за столом: «Негодяй! Ты украл мою мысль»? Нынче вечером мы с ним станем говорить друг другу «ты»… Затем какая-нибудь небольшая история, в которую неизменно впутываются артисты, находящиеся на дружеской ноге – а уж я его впутаю в такую историю! – сделает нас и впрямь друзьями, он, пожалуй, станет видеть во мне друга, более близкого ему, чем сам Тюилье, ибо я уже успел шепнуть нашему дражайшему Кольвилю, что Тюилье просто лопнет от зависти, если увидит у него в петлице еще одну орденскую розетку… Видите, моя дорогая и обожаемая Флавия, какой энергией наполняет человека глубокое чувство! Ведь нужно было, чтобы Кольвиль открыл мне доступ в свое сердце, чтобы я мог бывать у вас с его согласия!.. Я все готов сделать ради вас – лизать язвы прокаженных, глотать живых жаб, соблазнить Бригитту! Да, я бы пронзил себе грудь этой тростью, если бы она могла послужить мне костылем, который помог бы мне дотащиться до ваших дверей и пасть к вашим ногам!
– Этим утром вы меня просто испугали, – прошептала Флавия.
– Но вечером вы уже не испытываете тревоги?.. Да, – прибавил он с силой, – пока я с вами, вам не угрожает никакая беда.
– О, вы человек необыкновенный, я это признаю!..
– Вовсе нет! Все мои поступки – и самые значительные и самые незаметные – лишь отблески пламени, зажженного вами в моей груди, я хочу стать вашим зятем, чтобы мы никогда больше не разлучались… Моя жена, да простит мне бог, будет лишь машиной, производящей детей, но высшим существом, моей богиней будешь ты! – прошептал он на ухо Флавии.
– Вы просто сатана! – проговорила она в ужасе.
– Нет, но я немного поэт, как все мои земляки. Прошу вас, будьте моей Жозефиной!.. Завтра в два часа я приду к вам домой, меня снедает пылкое желание увидеть ложе, на котором вы спите, кресла, в которых вы отдыхаете, цвет обивки вашей спальни, увидеть, как расположены вещи, окружающие вас, – словом, полюбоваться жемчужиной в ее раковине!..
Произнеся эту ловкую тираду, он удалился, даже не дождавшись ответа.
Флавия, с которой ни разу в жизни влюбленные в нее мужчины не разговаривали столь страстным языком, каким разговаривают только в романах, испытывала полную растерянность; но она была счастлива и, прислушиваясь к быстрому биению сердца, беззвучно шептала себе, что не поддаться влиянию такого мужчины выше сил человеческих. В тот вечер Теодоз впервые облачился в новые панталоны, серые шелковые чулки и открытые туфли; на нем был черный шелковый жилет и черный атласный галстук, украшенный весьма изысканной булавкой. Наряд его довершал новый фрак, сшитый по последней моде, и желтые перчатки, гармонировавшие с ослепительно белыми манжетами. В салоне, где с каждым часом прибавлялись все новые и новые гости, он был единственным человеком с хорошими манерами, умевшим безукоризненно себя держать.
Госпожа Прон, урожденная Барниоль, пришла в сопровождении двух своих пансионерок, семнадцатилетних девиц, доверенных ее материнской заботе их семьями, жившими на острове Бурбон и острове Мартиника. Г-н Прон, преподаватель риторики в коллеже, которым руководили священники, был человеком того же круга, что и Фельоны. Однако в отличие от них он не выставлял себя напоказ, не сыпал афоризмами и сентенциями, не старался служить примером для подражания; он держался сухо и чопорно. Г-н и г-жа Прон, служившие украшением гостиной Фельонов, принимали по понедельникам, с Фельонами их связывало общее родство с Барниолями. Прон был небольшого роста, он недурно танцевал и не считал это зазорным для своего положения. Прославленная репутация пансиона мадемуазель Лаграв, с которой супруги Фельон поддерживали знакомство уже больше двадцати лет, еще больше укрепилась, когда этим заведением начала руководить мадемуазель Барниоль, самая умелая и опытная из воспитательниц. Г-н Прон пользовался большим влиянием в той части квартала, что расположена между бульваром Монпарнас, Люксембургским садом и Севрской дорогой. Вот почему, едва завидя своего друга, Фельон, не обинуясь, взял его под руку и увлек в угол, чтобы посвятить в планы, связанные с выдвижением кандидатуры Тюилье; после десятиминутной беседы они отправились на поиски Тюилье, и оконная ниша, находившаяся против той, где все еще стояла Флавия, стала, без сомнения, свидетельницей трио, в своем роде достойного трио швейцарцев из оперы «Вильгельм Телль».
– Вы только полюбуйтесь на интриги нашего достопочтенного Фельона! – сказал Флавии вновь подошедший Теодоз. – Сумейте только уговорить честного человека, и он отлично будет прибегать к самым недостойным методам, ибо, в конечном счете, наш уважаемый приятель убеждает маленького Прона, а тот покорно дает себя убедить исключительно в интересах Феликса Фельона, занимающего в этот миг внимание вашей прелестной Селесты… По-моему, вам пора их разлучить… Они уже минут десять вместе, а сын Минара ходит вокруг, как обозленный бульдог.
Феликс все еще находился под глубоким впечатлением благородного поступка Селесты, этого простодушного крика ее души, хотя никто, за исключением г-жи Тюилье, об этом уже не помнил; молодой человек невольно проявил наивную хитрость, которую мы назвали бы благородным лукавством истинной любви; надо заметить, что оно было ему непривычно: как всякий математик, он был невероятно рассеян. Итак, Феликс направился к г-же Тюилье, верно предположив, что Селеста непременно подойдет к ней: глубокий расчет глубокой любви! Девушка была тем более признательна Феликсу, что адвокат Минар, которого интересовало лишь приданое, даже не подумал подойти к ее крестной матери и спокойно попивал кофе, беседуя о политике с Лодижуа, Барниолем и Дютоком; молодой человек выполнял приказание отца, уже думавшего о новых выборах в Палату: они должны были произойти в 1842 году.
– Разве можно не любить Селесту! – сказал Феликс г-же Тюилье.
– Милая девочка, только она одна во всем свете и любит меня! – отвечала на это рабыня, с трудом сдерживая слезы.
– О, нет, сударыня, мы оба вас любим, – возразил простодушный Матье, приветливо улыбаясь.
– О чем это вы беседуете? – спросила Селеста, подходя к крестной матери.
– Дитя мое, – ответила богобоязненная женщина, привлекая к себе крестницу и целуя ее в лоб, – господин Феликс сказал, что вы оба любите меня и будете обо мне заботиться…
– Не сердитесь за такое пророчество, мадемуазель, – проговорил вполголоса будущий кандидат в Академию наук, – и позвольте мне сделать все, чтобы оно исполнилось!.. Ничего не поделаешь, я таков: несправедливость глубоко возмущает меня!.. О, спаситель был совершенно прав, пообещав рай кротким духом, невинным агнцам, приносящим себя в жертву!.. Всякий человек, если бы даже он вас не любил, Селеста, став свидетелем вашего возвышенного душевного порыва нынче за столом, проникся бы к вам обожанием! Да, только невинности дано утешать мучеников!.. Вы милая, хорошая девушка и станете одной из тех женщин, которые составляют одновременно и славу и счастье своей семьи. Счастлив тот, кто вам понравится!
– Дорогая крестная, вы только подумайте, в каком розовом свете видит меня господин Феликс!..
– Он воздает тебе должное, мой ангелочек, и я буду молиться богу за вас обоих…
– Если б вы только знали, Селеста, как я рад, что мой отец может оказать услугу господину Тюилье… И как бы я хотел быть полезен вашему брату!..
– Стало быть, вы любите всю нашу семью? – спросила девушка.
– О да! – с жаром ответил Феликс.
Истинная любовь всегда облекается в оболочку стыдливости, она страшится пышных выражений, ибо и без того красноречиво заявляет о себе: такая любовь не нуждается в фейерверке, в отличие от показной любви, и внимательный наблюдатель, окажись он в гостиной Тюилье, мог бы написать целую книгу, сравнив две противоположные сцены и нарисовав гигантские приготовления Теодоза и простоту Феликса; один из молодых людей был воплощением природы, другой – воплощением общества, искренность и притворство противостояли друг другу. Заметив восторженное состояние дочери, на чьем лице легко было прочесть душевное волнение, увидя, как прелестная девушка стала еще прелестнее и вся расцвела, выслушав первое косвенное признание в любви, Флавия ощутила укол ревности; она подошла к Селесте и прошептала ей на ухо:
– Вы нехорошо себя ведете, дочь моя, на вас все смотрят, и вы себя компрометируете, разговаривая так долго наедине с г-ном Феликсом, даже не спросясь, хотим ли мы этого.
– Но, мама, ведь здесь же крестная.
– Ах, простите, моя милая, – сказала г-жа Кольвиль г-же Тюилье, – я вас и не заметила…
– Вы поступаете, как и все остальные, – произнес Иоанн Златоуст.
Слова эти задели г-жу Кольвиль, она вздрогнула, будто в ее грудь впилась зазубренная стрела; бросив на Феликса высокомерный взгляд, она сказала Селесте: «Садись сюда, дочка» – и, усевшись возле г-жи Тюилье, указала дочери на соседний стул.
– Я буду работать до полного изнеможения, – сказал Феликс г-же Тюилье, – но стану членом Академии наук, ибо слава поможет мне добиться ее руки.
«Ах, мне нужен был вот такой муж, такой спокойный и мягкий человек, как он! – подумала бедная г-жа Тюилье. – Мне так по душе скромная, незаметная жизнь в тиши… Господи, ты этого не захотел, окажи же свое покровительство двум этим детям и соедини их судьбы! Ведь они созданы друг для друга!»
Она погрузилась в глубокую задумчивость, машинально прислушиваясь к ужасающему шуму, который подняла ее невестка: неутомимая Бригитта помогала двум служанкам убирать со стола, чтобы освободить столовую для танцев; при этом ее голос гремел, напоминая своими раскатами голос капитана фрегата, который стоит на капитанском мостике и отдает приказания к атаке: «Есть ли у нас еще настойка из смородины? Подите и купите оршад!» После минутной паузы снова слышалось: «Бокалов не хватит, напитков мало, принесите шесть бутылок простого вина, которое я велела достать из погреба. Да проследите, чтобы привратник Коффине его не вылакал!.. Каролина, ты, моя милая, оставайся у буфета!.. Если танцы затянутся до часу ночи, надо будет подать ветчину. Соблюдайте умеренность, внимательно за всем следите. Передайте мне метелочку… Налейте масла в лампы… А главное, ничего не разбейте… Остатки от десерта надо тоже пустить в дело, поставьте их на буфет! Любопытно, придет ли в голову моей сестрице помочь нам? И о чем она только думает, эта рохля?.. Господи, до чего же она медлительна!.. Стулья унесите – будет больше места для танцев».
В гостиной было полным-полно: тут можно было увидеть и Барниолей, и Кольвилей, и Лодижуа, и Фельонов, и всех тех, кого привлек сюда слух, что у Тюилье в тот день танцуют; слух этот распространился по Люксембургскому саду между двумя и четырьмя часами дня, то есть именно тогда, когда там прогуливались буржуа квартала.
– Готово, милый друг? – спросил Кольвиль, врываясь в столовую. – Ведь уже девять часов, и в вашей гостиной людей, что сельдей в бочке. Явился даже Кардо с женой, сыном, дочерью и будущим зятем, они прихватили с собой и молодого помощника прокурора, этого Винэ, так что, можно сказать, присутствует и Сент-Антуанское предместье. Мы перетащим сюда фортепьяно из гостиной, хорошо?
И Кольвиль заиграл на кларнете; веселые трели были приняты людьми, теснившимися в гостиной, как призывный сигнал и встречены громким «ура».
Стоит ли подробно описывать такого рода бал? Костюмы, лица, речи – все здесь было в полном соответствии с небольшой деталью, которая много говорит живому воображению, ибо во всяком деле факт незначительный, но яркий и характерный порою все определяет. Гостям на балу предлагали бокалы с чистым вином, с вином, разбавленным водою, и просто со сладкой водой. На подносах, местами изрядно облупившихся, разносили также бокалы с оршадом и различными настойками, и все эти напитки поглощались с головокружительной быстротой. В гостиной расставили пять карточных столов, за ними сидели двадцать пять игроков, танцевали девять пар одновременно. В час ночи гости затеяли контрданс, именуемый в просторечии «Булочница»; в этой кадрили участвовал Дюток, на голове у него красовался тюрбан из полотенца, напоминавший тот, что носят кабилы; в общий танец были вовлечены и г-жа Тюилье, и мадемуазель Бригитта, и г-жа Фельон, и даже сам папаша Фельон. Слуги, ожидавшие своих господ, пришедших в гости к Тюилье, а также слуги самого Тюилье с любопытством глазели на танцующих; нескончаемая кадриль продолжалась больше часа, и когда Бригитта пригласила всех немного подкрепиться, гости готовы были ее качать; однако осмотрительная хозяйка успела припрятать дюжину бутылок старого бургундского вина. Приглашенные веселились от души, почтенные матроны не отставали от юных девиц, и Тюилье, в конце концов, заявил:
– Подумать только, еще нынче утром нам и в голову не приходило, что вечером у нас состоится такой веселый праздник!..
– Нигде не получаешь столько удовольствия, – заявил нотариус Кардо, – как на импровизированных балах. Я терпеть не могу званых вечеров, где все держат себя необыкновенно чопорно!
Подобное мнение служит почти аксиомой в буржуазных кругах.
– А я, – пробормотала захмелевшая госпожа Минар, – отвечу вам песенкой: «Я люблю папашу, я люблю мамашу!..»
– Господин Кардо, разумеется, не имел вас в виду, сударыня, ведь ваш дом – излюбленный приют удовольствий, – сказал Дюток.
Едва кадриль окончилась, Дюток направился к буфету и принялся уписывать ветчину; подошедший Теодоз насильно увел его, говоря:
– Нам пора идти, ведь завтра на рассвете мы должны быть у Серизе, он обещал дать необходимые сведения о занимающем нас деле, кстати сказать, оно не так просто, как полагает Серизе.
– Это еще почему? – спросил Дюток, не переставая жевать ветчину даже на пороге гостиной.
– Вы что ж, не знаете законов?.. Я-то их достаточно знаю, чтобы предвидеть все опасности, связанные с этой аферой. Если нотариус сам хочет купить дом, а мы выхватим у него из-под носа лакомый кусочек, он может накинуть цену и оттяпать у нас добычу, для этого ему достаточно прибегнуть к помощи любого из зарегистрированных кредиторов. По действующему ныне ипотечному праву, если дом продается по требованию одного из кредиторов и сумма, вырученная за него на торгах, недостаточна, чтобы удовлетворить всех кредиторов, они имеют право потребовать новых торгов и продать дом дороже. Так что, если нам даже удастся провести нотариуса, он может назавтра спохватиться.
– Ты прав! – воскликнул Дюток. – Ну что ж, повидаемся с Серизе.
Слова «повидаемся с Серизе» услышал адвокат Минар, шедший позади приятелей, но для него фраза эта не имела никакого смысла. Дюток и Теодоз были так далеки от него, от его жизненного пути и его планов, что он не вникал в смысл их речей.
– Вот один из самых великолепных дней в нашей жизни, – сказала Бригитта брату, когда в половине третьего утра они оказались вдвоем в опустевшей гостиной. – Какая честь, когда тебя единодушно избирают своим кандидатом сограждане!
– Не заблуждайся, Бригитта, мы обязаны всем этим, дорогая, одному человеку.
– Кому же?
– Нашему другу ла Пераду…
Дом, куда направились не в понедельник, а лишь во вторник утром Дюток и Теодоз, ибо письмоводитель напомнил адвокату, что Серизе отсутствовал по воскресеньям и понедельникам, потому что оба эти дня народ посвящал развлечениям и к процентщику не приходил ни один клиент, – дом этот столь же необходим для воссоздания облика предместья Сен-Жак, как дома Тюилье и Фельона. Никто не знает (правда, еще не создана комиссия для изучения этого явления), повторяем, никто не знает, почему кварталы города Парижа приходят в упадок и запустение как в отношении архитектуры, так и в отношении нравственности. Каким образом квартал Люксембург и Латинский квартал, где помещаются дворцы и церкви, дошли до того состояния, в котором мы их видим сегодня? Ведь тут находится один из самых красивых дворцов в мире, тут дерзко возносится к небу купол церкви святой Женевьевы и купол Валь-де-Грас, созданный Мансаром, тут расположен полный очарования Зоологический сад! Почему элегантность уходит из нашей жизни? Почему дома, подобные домам вдовы Воке, Фельона, Тюилье, почему различные пансионаты растут, как грибы, оттесняя на задний план дворцы Стюартов, кардиналов Миньона и Дюперрона? Почему грязь, засоряющие все вокруг промыслы и нищета завладевают центральной частью столицы, вместо того чтобы располагаться поодаль от старого и благородного города?..
После смерти ангела во плоти, чью благотворительность благословляли жители квартала, здесь пышным цветом распустилось самое низкопробное ростовщичество. На смену советнику Попино пришел Серизе. И, странная вещь (о ней следовало бы поговорить подробно в другом месте!), результаты, с точки зрения социальной, мало чем отличались друг от друга. Попино давал в долг без процентов и заранее шел на возможные потери; Серизе никогда ничего не терял, заставляя тем самым несчастных трудиться, не жалея сил, и набираться ума-разума. Бедняки обожали Попино, но и к Серизе они не питали ненависти. Тут мы сталкиваемся с работой последнего колесика парижской финансовой машины. Наверху – банкирские дома Нусингена, Келлера, дю Тийе, Монжено; чуть ниже – ростовщики типа Пальмá, Жигонне, Гобсека; еще ниже – такие дельцы, как Саманон, Шабуассо, Барбе; затем – городской ломбард, этот король ростовщичества, расставляющий свои силки на каждом углу, чтобы ловить жертвы нищеты, не давая спастись ни одной; и, наконец, в самом низу – Серизе.
Сюртук со шнурами возвещал о том, что в этом логове обитает бывший участник коммандитного товарищества и человек, хорошо известный шестой палате.
Дом, где он жил, был словно изъеден селитрой, стены, покрытые зелеными пятнами, казалось, запотели и издавали зловоние, как и сами неопрятные ростовщики. Он помещался на углу улицы Пуль; тут же находился погребок торговца вином; это третьеразрядное заведение было выкрашено снаружи в ярко-красный цвет, на окнах, забранных толстыми решетками, висели занавески из красного коленкора, а внутри помещалась стойка, обитая листом свинца.
Над входом в отвратительный подъезд раскачивался уродливый фонарь с надписью: «Меблированные комнаты». Стены были отмечены железными крестами, говорившими о ветхости строения, принадлежавшего торговцу вином; он занимал половину нижнего этажа и антресоли. Меблированные комнаты содержала вдова г-на Пуаре, в девичестве Мишоно; они располагались на втором, третьем и четвертом этажах, и жили в них бедные студенты.
Серизе занимал две комнаты – одну в первом этаже и одну на антресолях: он попадал в нее по внутренней лестнице, выходившей окнами в ужасный мощеный двор, откуда поднимались зловонные запахи. Серизе платил сорок франков в месяц г-же Пуаре, и она кормила его за это завтраком и обедом; таким образом, он угождал и домохозяйке, живя у нее на пансионе, и торговцу вином, которому он поставлял огромную клиентуру; еще до восхода солнца клиенты Серизе осушали не одну бутылку с горячительным и оставляли у кабатчика немало денег. Г-н Кадене открывал свое заведение раньше, чем его сосед Серизе, начинавший финансовые операции по вторникам – в три часа утра летом и в пять часов утра зимой.
Столь раннее начало его ужасного промысла определялось часом открытия Центрального рынка, куда затем направлялось большинство клиентов и клиенток Серизе. Г-н Кадене во внимание к этой клиентуре, которой он целиком был обязан Серизе, брал со своего драгоценного жильца, занимавшего две комнаты, всего лишь восемьдесят франков в год; домовладелец подписал с ним арендный договор, заключенный на двенадцать лет с таким условием, что Серизе мог каждые три месяца расторгнуть его, не уплачивая неустойки. Кадене самолично приносил каждый день бутылку превосходного вина и вручал ее Серизе перед обедом; когда жилец оказывался на мели, ему достаточно было только сказать своему приятелю: «Кадене, одолжи мне сто экю». Правда, он исправно возвращал взятые взаймы деньги.
Кадене, по слухам, получил надежное доказательство, что вдова Пуаре в свое время вручила Серизе две тысячи франков, после чего дела экспедитора пошли в гору, ибо, переехав в этот квартал, он располагал лишь тысячефранковым кредитным билетом да покровительством Дютока. Кадене, чья алчность возрастала по мере того, как успешно развивалась его торговля, предложил в начале года двадцать тысяч франков своему другу Серизе. Тот отказался под тем предлогом, что он, мол, действует вместе с компаньоном и неосторожная финансовая операция может послужить причиной их ссоры.
– Он согласится взять ваши деньги из шести процентов годовых, – сказал он Кадене, – а они принесут вам больше дохода, если вы сами пустите их в дело… Мы с вами войдем в компанию позднее, когда подвернется что-нибудь действительно выгодное, однако подходящий случай обычно требует капитала не меньше, чем в пятьдесят тысяч франков. Вот когда у вас на руках будет такая сумма, мы поговорим…
Серизе сообщил Теодозу о возможности выгодно приобрести дом, только убедившись, что даже вместе с г-жой Пуаре и Кадене ему никогда не набрать ста тысяч франков.
Ростовщик чувствовал себя в полной безопасности в своем логове, где, если бы в этом была необходимость, он всегда мог рассчитывать на помощь. Бывали дни, когда сюда на рассвете приходило не меньше шестидесяти или даже восьмидесяти клиентов, мужчин и женщин; они наполняли винный погребок, толпились в коридоре, рассаживались на ступенях лестницы, недоверчивый Серизе впускал к себе в кабинет не больше шести человек за раз. Приходя, люди устанавливали очередь, и она двигалась в порядке номеров; виноторговец и его официант писали номера мелом: у мужчин – на полях шляп, а у женщин – прямо на спине.
Часто стоявшие впереди уступали за деньги свою очередь пришедшим позднее, подражая кучерам фиакров. В иные дни, когда важно было попасть на Центральный рынок как можно раньше, передний номер ценился в стакан водки и одно су. Клиент, выходивший из кабинета Серизе, приглашал следующего по очереди; если возникали споры, Кадене быстро пресекал их, говоря:
– Чего вы добьетесь, если на шум явится стража или полиция! Онприкроет лавочку, вот и все.
Все знали, что он– это Серизе. Когда днем какая-нибудь несчастная женщина, у которой в доме не было ни куска хлеба, видя, что дети вот-вот умрут с голода, прибегала в полном отчаянии, чтобы раздобыть десять или двадцать су, она спрашивала у виноторговца или у старшего официанта:
– Онздесь?
Кадене, толстый низенький человек, одетый в синий костюм с нарукавниками из черной материи, в переднике, какой носят кабатчики, в фуражке на голове, представлялся такой несчастной матери ангелом небесным, ибо он обычно отвечал:
– Онсказал мне, что вы честная женщина, и велел передать вам сорок су. Как быть дальше, сами знаете…
И происходило невероятное: егоблагословляли, как некогда благословляли Попино!
В воскресенье утром, подсчитывая расходы, люди во всем Париже проклинали Серизе; они проклинали его и в субботу, когда из полученных за работу денег приходилось возвращать ему долг и проценты! Но со вторника и до пятницы он был для бедняков провидением, богом.
Комната, где жил Серизе, некогда служившая кухней для обитателей второго этажа, была почти пуста; потолочные балки, выбеленные известью, до сих пор оставались закопченными. Стены, вдоль которых были расставлены скамьи, и плитки из песчаника, заменявшие паркет, впитывали, а затем выделяли влагу. Камин, от которого еще сохранился навес, уступил место железной печке, где Серизе в холодные дни жег каменный уголь. Под каминным колпаком находился квадратный помост, возвышавшийся на полфута над полом, тут стоял дощатый стол, стоивший не больше франка, и деревянное кресло с круглой плоской подушкой из зеленой кожи. Стена за спиной Серизе была обшита досками. Возле стола стояла ширма из неструганого дерева, она защищала хозяина комнаты от ветра, дувшего в окно и в дверь; эта двустворчатая ширма, однако, пропускала теплый воздух, струившийся из печки. К окнам были приделаны с внутренней стороны огромные ставни, обитые железом и закладывавшиеся металлическим брусом. Дверь была также обита железом.
В глубине комнаты, в углу, виднелась винтовая лестница, некогда помещавшаяся в полуразрушенном складе на улице Шапон, который приобрел в свою собственность Кадене; он установил эту лестницу на антресолях, но по требованию Серизе всякое сообщение со вторым этажом было прекращено, и дверь, выходившую на площадку, замуровали. Таким образом, жилище это превратилось в крепость. В верхней комнате, принадлежавшей Серизе, было немного мебели: ковер, купленный за двадцать франков, узкая кровать, комод, два стула, стол и железная касса в виде секретера с великолепным замком, приобретенная по случаю. Серизе брился перед каминным зеркалом; у него были две смены постельного белья из коленкора, шесть перкалевых рубашек, вся остальная его одежда также была сшита из дешевого материала. Однако раз или два Кадене встретил Серизе в весьма элегантном наряде: ростовщик, по-видимому, хранил в нижнем ящике комода праздничный костюм, который позволял ему посещать Оперу и бывать в свете; парадный костюм делал Серизе неузнаваемым, и, не распознай его Кадене по голосу, он бы спросил: «Чем могу служить?»
Больше всего клиентамнравились в Серизе его веселый нрав и остроумные ответы, он говорил на понятном им языке. Кадене, два его официанта и Серизе, жившие в самом сердце нищеты, всегда сохраняли спокойствие, подобно тому, как могильщики сохраняют спокойствие среди плачущих родственников или старые сержанты – среди мертвецов; они бесстрастно выслушивали голодные вопли и отчаянные крики, подобно тому, как хирурги бесстрастно выслушивают стоны пациентов; по примеру солдат и санитаров, Кадене и Серизе лишь изредка роняли ничего не значащие фразы: «Надо немного потерпеть, побольше мужества!», «К чему так убиваться? Вы себя уморите, а какой в этом толк?..», «Ко всему привыкают, надо быть рассудительным» и так далее.








