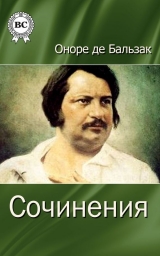
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 86 страниц)
Фельон – образцовый мелкий буржуа – обладал множеством добродетелей и смешных черт. Всю свою жизнь он проработал в канцеляриях и, как человек подчиненный, уважал людей вышестоящих. Поэтому в присутствии Минара он и рта не раскрывал. Фельон великолепно перенес трудности критического возраста чиновника, отставка не повлияла на него, и вот почему. Дело в том, что этот достойный и превосходный человек никогда не мог себе позволить жить по своему вкусу. Он искренне любил Париж и с большим интересом наблюдал, как выпрямляются и украшаются улицы города, старик был способен часами смотреть, как сносят дом. Нередко можно было встретить его на улице, он стоял как вкопанный, задрав голову и наблюдая, как каменщик ломом расшатывает камень на верхушке стены; Фельон не трогался с места до тех пор, пока камень не падал, когда же камень, наконец, оказывался на земле, он удалялся, не менее счастливый, чем академик, ставший свидетелем падения романтической драмы. Истинные статисты великой социальной комедии, Фельон, Лодижуа и им подобные исполняют в ней функции античного хора. Они плачут, когда надо плакать, смеются, когда надо смеяться, и без устали откликаются на невзгоды и радости общественной жизни: в своем углу они торжественно отмечают победы, одержанные в Алжире, Константине, Лиссабоне, Уллоа, одинаково горько оплакивают смерть Наполеона, зловещие катастрофы у стен монастыря Сен-Мерри и на улице Транснонен, сожалеют о смерти великих людей, им совершенно неизвестных. Для Фельона характерно своеобразное двуличие: он умудряется разделять и точку зрения оппозиции и точку зрения правительства. Когда на улицах Парижа завязывались схватки, у Фельона хватало мужества открыто высказывать перед соседями свою точку зрения; он отправлялся на площадь Сен-Мишель и, жалея правительство, исполнял свой долг. Все время, пока продолжалось брожение, он поддерживал династию, которую привел к власти Июль; но как только начинались политические процессы, Фельон вставал на сторону обвиняемых. Кое-кто, пожалуй, назовет Фельона флюгером, но присущая ему изменчивость мнений весьма невинна и определяется его политическими взглядами; огромную роль в его воззрениях играет северный колосс, это воплощение английского материализма. Как и для старой газеты «Конститюсьонель», Англия для Фельона – нечто двойственное: она поочередно выступает то в качестве коварного Альбиона, то в качестве образцовой страны. Англия коварна, когда дело идет об интересах обиженной Франции и о Наполеоне; она становится образцовой страной, едва речь заходит об ошибках французского правительства. Как и его газета, Фельон принимает демократический элемент и отказывается, едва об этом заходит речь, от какого бы то ни было соглашения с республиканским духом. Республиканский дух для него – это 1793 год, мятеж, террор, аграрный закон. Демократический элемент – это развитие мелкой буржуазии, это царство самого Фельона.
Сей уважаемый старец – человек вполне почтенный, добропорядочность определяет всю его жизнь. Он достойно воспитал своих детей и остался прекрасным отцом в их глазах, он добивается того, чтобы дома его уважали так, как он сам уважает власть и вышестоящих. Он никогда не делал долгов. Заседая в суде присяжных, он, не жалея сил, следит за ходом процесса, не позволяя себе улыбнуться даже тогда, когда смеются и судья, и публика, и даже представитель государственного обвинения. Он необыкновенно услужлив и готов посвятить вам и свои заботы и время – все, за исключением денег. Фельон боготворил своего сына Феликса – преподавателя математики, он полагал, что молодой человек способен когда-нибудь стать членом Академии наук.
Тюилье занимал промежуточное положение между самоуверенным ничтожеством Минаром и бесхитростным глупцом Фельоном, однако он походил на них обоих в силу своего унылого жизненного опыта. Он скрывал пустоту ума под банальными фразами, подобно тому как прикрывал желтую кожу черепа жидкими прядями седых волос, в чем, безусловно, сказывалось удивительное искусство его парикмахера.
– Избери я любую другую карьеру, – любил говорить Тюилье, – я бы, конечно, добился большего.
По его словам, возможные в теории благодетельные реформы оказывались невозможными на практике, все начинания приводили к противоположным результатам; он не уставал рассказывать о различных несправедливостях, об интригах, о пресловутом деле Рабурдена
– После этого, – прибавлял Тюилье, – можно с одинаковым успехом верить во все и не верить ни во что. Ах, правительственные учреждения – нелепая вещь, и я счастлив, что у меня нет сына. Вдруг бы он вздумал избрать себе карьеру чиновника!
Кольвиль, как всегда, сохранял веселое расположение духа, то был кругленький, добродушный мужчина, постоянно шутивший, с неизменным интересом составлявший анаграммы, вечно чем-то занятый – словом, типичный буржуа, довольный самим собой, человек не без способностей, но так и не добившийся успеха, упорный труженик, так, собственно, ничего и не достигший, но умеющий принимать судьбу с веселой шуткой на устах, неглупый, но недалекий, одаренный, но не даровитый, ибо, будучи прекрасным музыкантом, он теперь играл только для дочери.
Салон Тюилье походил на любой провинциальный салон, но только он был озарен отблесками немеркнущего парижского зарева: заурядные плоские разговоры, которые велись в нем, все же носили на себе печать века. Слова и вещи, входившие в моду, ибо в Париже слово и вещь неотделимы друг от друга, как лошадь и всадник, попадали сюда, словно рикошетом. Гости неизменно ожидали появления господина Минара для того, чтобы узнать правду о важнейших событиях. Дамы держали сторону иезуитов, мужчины защищали Университет; впрочем, женщины большей частью молчали. Человек умный, если бы он, победив скуку, провел тут несколько вечеров, хохотал бы во все горло, как во время представления комедии Мольера, ибо в результате нескончаемых споров он узнал бы приблизительно следующее:
«Можно ли было бы избежать революции 1789 года? Займы Людовика Четырнадцатого положили ей начало. Людовик Пятнадцатый, эгоист, человек церемонный, который сказал: «Будь я начальником полиции, я бы запретил кабриолеты», распутный король – ведь вы, конечно, слыхали о его Оленьем парке! – во многом способствовал ее возникновению. Господин де Неккер, злонамеренный женевец, дал ей последний толчок. Иностранцы всегда питали неприязнь к Франции. Ну, мы еще увидим войну против вельмож… Максимум принес большой вред революции. С юридической точки зрения Людовика Шестнадцатого не следовало осуждать, суд присяжных оправдал бы его. Бонапарт позволил себе стрелять в парижан, и эта дерзость сошла ему с рук. Луи-Филипп опирался на его пример. В чем причина падения Карла Десятого? Наполеон – великий человек, некоторые подробности из жизни императора, свидетельствующие о его гениальности, напоминают анекдоты: он брал по пять понюшек табаку в минуту, а табак держал в кожаных карманах, пришитых к жилету. Он сам проверял счета поставщиков и отправлялся на улицу Сен-Дени, чтобы узнать цены на товары. Тальма был ему другом, этот великий артист обучал Наполеона царственным жестам, и тем не менее император всю жизнь отказывался даровать Тальма орден. Наполеон заменил на посту уснувшего часового, чтобы спасти беднягу от расстрела. Вот почему солдаты обожали его. Людовик Восемнадцатый, человек, не лишенный ума, несправедливо судил о нем и упорно именовал его господином де Буонапарте. Главный недостаток нынешнего правительства состоит в том, что оно позволяет другим вести себя, между тем оно должно само вести других за собой. Правительство слишком мало себя ценит! Он, Минар, боится людей энергических; следовало бы разорвать договоры тысяча восемьсот пятнадцатого года и потребовать у Европы возвращения Рейна. Когда, наконец, прекратится министерская игра, во время которой одни и те же люди образуют новые правительства?»
– Ну, довольно шевелить мозгами, – обычно обрывала мадемуазель Тюилье спорщиков. – Алтарь воздвигнут, пора садиться за игру.
Этой фразой старая дева разом прекращала дискуссию, изрядно надоедавшую дамам.
Если все эти предварительные факты, все эти общие положения не показались читателю достаточно убедительными и не помогли ему мысленно нарисовать раму для настоящей Сцены, не помогли составить представление об описанном нами обществе, этому, пожалуй, поможет сама драма. Заметим только, что сделанный нами набросок отличается воистину исторической точностью и рисует нравы важнейшего социального слоя, особенно если не упускать из виду, что вся политическая система младшей королевской ветви Бурбонов опирается на него.
Зима 1839 года была в некоторых отношениях тем периодом, когда салон Тюилье находился в зените славы. Минары бывали здесь каждое воскресенье, а в другие дни, даже будучи приглашены куда-нибудь, заезжали сюда на часок; чаще всего Минар, отправляясь в гости с дочерью и старшим сыном-адвокатом, оставлял у Тюилье свою жену. Подобная настойчивость объяснялась несколько запоздалым свиданием между господами Метивье, Барбе и Минаром; встреча эта произошла однажды вечером, когда два самых солидных жильца Тюилье задержались дольше обычного, чтобы побеседовать с мадемуазель Тюилье. Минар узнал от Барбе, что старая дева принимает от него приблизительно на тридцать тысяч франков векселей сроком на пять-шесть месяцев из расчета семь с половиной процентов годовых и что она берет векселя на такую же сумму у Метивье; отсюда, по его словам, следовало, что почтенная особа владеет состоянием по меньшей мере в сто восемьдесят тысяч франков
– Я учитываю векселя книгопродавцев из двенадцати процентов годовых и принимаю только те, которые имеют надежное обеспечение. И для меня это очень удобно, – закончил Барбе. – Я утверждаю, что у нее не меньше ста восьмидесяти тысяч франков, ибо она выдает векселя от своего имени на Французский банк сроком на три месяца.
– Стало быть, у нее есть счет в банке? – осведомился Минар.
– Еще бы! – воскликнул Барбе.
Благодаря своим связям с управляющим Французским банком Минар узнал, что у мадемуазель Тюилье действительно имелся текущий счет приблизительно на двести тысяч франков, гарантированный сорока акциями этого банка. Но эта гарантия, прибавил управляющий, была излишней, ибо банк с полным уважением и доверием относится к особе, ведающей делами Селесты Ланпрэн, дочери одного из бывших служащих банка, который проработал в нем ровно столько лет, сколько существовал сам банк. К тому же мадемуазель Тюилье за двадцать лет ни разу не превысила размер кредита, которым она пользовалась. Каждый месяц она неизменно присылала векселя на шестьдесят тысяч франков, обычно сроком на три месяца, что требовало обеспечения приблизительно в сто шестьдесят тысяч франков. Ее акции, лежавшие в банке, составляли сумму в сто двадцать тысяч франков, и, таким образом, банк ничем не рисковал, ибо векселя в любую минуту можно было реализовать за шестьдесят тысяч франков.
– Так что, – закончил управляющий банком, – если бы она прислала нам когда-нибудь векселя сразу на сумму сто тысяч франков, мы бы их приняли. Ведь ей принадлежит также дом, он нигде не заложен и стоит больше ста тысяч франков. К тому же все эти векселя попадают к ней от Барбе и Метивье, а банк получает их за четырьмя подписями, включая подпись самой мадемуазель Тюилье.
– Для чего мадемуазель Тюилье проделывает все эти операции? – спросил Минар у Метивье.
– О, без сомнения, для того, чтобы увеличить состояние Селесты.
– Но в таком случае Селеста – выгодная партия для вас, – обронил Минар.
– О, нет! – возразил Метивье. – Уж лучше я женюсь на одной из кузин, мой дядюшка посвятил меня в свои дела, у него сто тысяч франков ренты и всего две дочери.
Как ни была скрытна мадемуазель Тюилье, никому, даже брату, не говорившая о том, куда она помещает деньги, как ни трудно было определить размер ее личного капитала, ибо она присоединила к нему некоторые сбережения, сделанные за счет состояния г-жи Тюилье, все же кое-какие лучи света проникли сквозь густой мрак, окутывавший ее сокровище.
Дюток, часто видевшийся с Барбе, на которого он походил и характером и лицом, более точно, чем Минар, определил размер сбережений семьи Тюилье: по его мнению, они составляли в 1838 году полтораста тысяч франков, и писец тайно следил за ростом этого состояния, подсчитывая барыши старой девы с помощью столь сведущего дисконтера, каким был Барбе.
– Селеста получит от нас двести тысяч франков наличными, – доверительно сообщила старая дева Барбе, – а госпожа Тюилье намерена при подписании брачного контракта ввести ее во владение своим имуществом. Что до меня, то мое завещание сделано. Брат будет пользоваться при жизни всем состоянием, но в конечном счете его унаследует Селеста. Своим душеприказчиком я избрала моего нотариуса господина Кардо.
Мадемуазель Тюилье к этому времени побудила брата возобновить его старинные связи с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами – людьми, занимавшими в квартале Сент-Антуан, где господин Сайар был мэром, приблизительно такое же положение, какое занимали в своем квартале Тюилье и Минары. Нотариус Кардо также ввел в дом Тюилье жениха для Селесты в лице мэтра Годешаля, поверенного, купившего у Дервиля его контору, способного человека лет тридцати шести; Годешаль заплатил сто тысяч франков за дело, и двести тысяч франков приданого помогли бы ему разделаться с долгами. Минар ловким ходом устранил Годешаля, шепнув мадемуазель Тюилье, что если Селеста выйдет замуж за этого стряпчего, то ее невесткой окажется знаменитая актриса оперы Мариетта.
– Она сама вышла из актерской семьи, – вставил Кольвиль, намекая на происхождение своей жены, – и вовсе не для того, чтобы вновь оказаться в среде актеров.
– К тому же господин Годешаль слишком стар для Селесты, – заметила Бригитта.
– Помимо всего прочего, – робко вставила г-жа Тюилье, – почему бы не дать девочке возможность выбрать себе мужа по душе, чтобы она была с ним счастлива?
Бедная женщина заметила в сердце Феликса Фельона истинную любовь к Селесте, такую любовь, о какой женщина, раздавленная Бригиттой и глубоко оскорбленная безразличием Тюилье, уделявшего супруге меньше внимания, чем служанке, могла только мечтать. То была любовь пылкая, но не решавшаяся заявить о себе открыто, любовь стойкая и вместе с тем боязливая, скрытая от всех, но распускающаяся пышным цветом в глубине человеческого сердца. Феликсу Фельону исполнилось двадцать три года, это был мягкий и чистый юноша, именно такой, какими бывают ученые, посвятившие себя занятиям чистой наукой. Его заботливо воспитал отец, который все принимал всерьез и старался подавать сыну хороший пример, сопровождая его избитыми рассуждениями. Феликс был среднего роста; светло-каштановые волосы, серые глаза, прелестный голос, спокойные манеры – все производило приятное впечатление, которого не портила даже веснушчатая кожа; вид у него был мечтательный, разговаривая, он не жестикулировал, тщательно взвешивал слова, никому не противоречил, и сразу становилось понятно, что человек этот не способен ни на корыстную мысль, ни на низкий расчет.
«Именно таким я хотела бы видеть своего мужа!» – часто говорила себе г-жа Тюилье.
В середине зимы 1839-1840 года, в феврале месяце, в гостиной Тюилье находились различные люди, чьи беглые портреты мы только что набросали. Приближался конец месяца, Барбе и Метивье, рассчитывавшие попросить по тридцать тысяч франков у мадемуазель Бригитты, играли в вист с господами Минаром и Фельоном. За соседним столом устроились Жюльен-адвокат (так прозвал молодого Минара Кольвиль), г-жа Кольвиль, г-н Барниоль и г-жа Фельон. За игрой в бульот, в которой фишка стоила одно су, сидели г-жа Минар, не умевшая играть ни во что другое, отец и сын Кольвили, старик Сайар и его зять Бодуайе; запасными игроками были Лодижуа и Дюток. Жены Бодуайе, Лодижуа и Барниоля составили вместе с мадемуазель Минар партию в бостон, Селеста сидела рядом со своей подружкой – Прюдансой Минар, Феликс Фельон беседовал с г-жой Тюилье, не сводя глаз с Селесты.
По другую сторону камина восседала в глубоком кресле королева Елизавета этого семейного очага – мадемуазель Бригитта, одетая так же просто, как и тридцать лет назад, ибо благоденствие не могло заставить эту женщину расстаться со своими привычками. На ее тронутых сединой волосах красовался чепец из черного газа, увенчанный букетиками герани сорта «Карл X»; платье с шемизеткой цвета коринки стоило пятнадцать франков, вышитый воротник был куплен за шесть франков: он едва прикрывал глубокую борозду, образованную шейными мускулами, соединявшими голову с позвоночником. Даже у Монвеля, игравшего старика Августа, профиль был не столь суров, как у этой самодержавной властительницы, собственноручно вязавшей носки для брата. Перед камином стоял сам Тюилье, готовый, в случае надобности, встретить запоздавшего гостя; рядом с ним находился молодой человек, чье появление произвело огромный эффект: несколько минут назад привратник, надевавший по воскресеньям великолепную ливрею, объявил о приходе г-на Оливье Винэ.
Причиной этого неожиданного визита была доверительная беседа между нотариусом Кардо и прославленным генеральным прокурором, отцом молодого судейского чиновника. Оливье Винэ только недавно был переведен из суда города Арси в суд департамента Сены на должность помощника королевского прокурора. Нотариус Кардо пригласил к себе на обед Тюилье, на этом обеде в качестве почетного гостя присутствовал со своим сыном генеральный прокурор, которому, по всей видимости, предстояло сделаться министром юстиции. По мнению Кардо, общий размер состояния, которое должна была унаследовать Селеста Кольвиль, составлял к тому времени по меньшей мере семьсот тысяч франков. Винэ-сын, казалось, был очарован разрешением приходить каждое воскресенье к Тюилье. Большое приданое служит в наши дни источником больших глупостей, которые люди совершают без всякого стыда.
Прошло минут десять, и другой молодой человек, беседовавший с Тюилье перед приходом помощника прокурора, возвысил голос и завязал бурный политический спор, заставив юного представителя судебного ведомства последовать его примеру и принять оживленное участие в дискуссии. Речь шла о голосовании, в результате которого палата депутатов добилась отставки правительства 12 мая, отказавшись утвердить дотацию для герцога Немурского.
– Конечно же, я далек от того, чтобы поддерживать правительственную политику, – говорил молодой человек, – я далек от того, чтобы одобрять приход буржуазии к власти. У буржуазии не больше прав представлять все государство, чем было в свое время у аристократии. Но, так или иначе, французская буржуазия взяла на себя обязанность основать новую династию, новую королевскую власть для самой себя, – и вот как ныне она с нею обращается! Когда народ позволил Наполеону возвыситься, то сотворил из него нечто великолепное, монументальное, он гордился величием Наполеона и великодушно отдавал свою кровь и свои силы, чтобы воздвигнуть здание Империи. В сравнении с великолепием аристократического трона и пурпурной императорской мантии, в сравнении с грандами и народом буржуазия выглядит особенно мелкой; она низводит власть до своего уровня, вместо того, чтобы попытаться самой возвыситься до уровня этой власти. Привыкнув к грошовой экономии в своих лавках, она предписывает ее своим королям и властителям. Но ведь то, что может почитаться добродетелью в торговле, оборачивается ошибкой и даже преступлением в высшей политике. Я бы очень многого хотел для народа, но не стал бы урезáть на десять миллионов цивильный лист. Буржуазия, которая стала ныне во Франции почти всем, обязана даровать счастье народу, окружить короля блеском, пусть даже без излишней роскоши, уничтожить привилегии, не унижая величия страны.
Отец Оливье Винэ был одним из руководящих деятелей правительственной коалиции: однако мантия хранителя печати, о которой он давно мечтал, все еще оказывалась для него недостижимой. Вот почему молодой помощник прокурора не знал, что ответить; в конце концов он решил в какой-то мере согласиться с собеседником.
– Вы правы, сударь, – заявил Винэ. – Однако, прежде чем щеголять, буржуазия должна выполнить свои обязанности перед Францией. Да, сначала обязанности, а уж затем роскошь, о которой вы толкуете. То, что вам кажется столь достойным упрека, в настоящее время просто необходимо. Палата депутатов не играет должной роли в делах, министры служат не столько Франции, сколько короне, и парламент пожелал, чтобы французское правительство, по примеру Англии, стало его орудием на деле, а не на словах. В тот день, когда правительство станет действовать самостоятельно и будет представлять в качестве исполнительной власти Палату депутатов, подобно тому, как сама Палата представляет страну, парламент начнет весьма либерально относиться к короне. В этом суть вопроса, я просто излагаю ее, не высказывая собственного мнения, ибо занимаемый мною пост обязывает меня сохранять в области политики полную верность короне.
– Речь идет не только о политике, – возразил молодой человек, чье произношение выдавало уроженца Прованса, – надо сказать, что буржуазия вообще дурно поняла свою миссию: мы нередко встречаем генеральных прокуроров, председателей суда, пэров Франции в омнибусах, судьи живут на свое жалованье, префекты не имеют состояний, министры погрязли в долгах. Между тем, получая все эти места, буржуазия должна была бы окружать их почетом, подобно тому, как это некогда делала аристократия; должностным лицам следовало бы не сколачивать себе состояния, как это выявилось во время недавних скандальных процессов, а тратить собственные доходы ради лучшего отправления обязанностей…
«Кто этот молодой человек? – спрашивал себя Оливье Винэ, – может быть, родственник хозяина дома? Кардо следовало бы прийти сюда в первый раз вместе со мною».
– Кто этот юноша? – в свою очередь, спросил Минар у господина Барбе. – Я уже не в первый раз вижу его здесь.
– Жилец, – ответил Метивье, сдавая карты.
– Адвокат, – прибавил вполголоса Барбе. – Он занимает небольшую квартирку на четвертом этаже, с окнами на улицу… О, человек малозначительный и совершенно без средств.
– Как зовут этого молодого человека? – осведомился Оливье Винэ у г-на Тюилье.
– Теодоз де ла Перад, он не так давно стал адвокатом, – прошептал Тюилье на ухо помощнику прокурора.
В эту минуту женщины, которые, как и мужчины, внимательно смотрели на молодых людей, переглянулись, и г-жа Минар, не удержавшись, сказала Кольвилю:
– Как он хорош собой, этот юноша.
– Я составил анаграмму, – ответил отец Селесты. – Его имя и фамилия – ведь полностью его зовут Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад – предрекают следующее: «Ишь, мародер! Зол и делает парад!»Так что, милая моя госпожа Минар, остерегитесь выдавать за него свою дочь.
– Вот молодой человек, которого находят более красивым, чем мой сын, – сказала г-жа Фельон г-же Кольвиль. – Что вы по этому поводу думаете?
– О, что касается внешности двух этих молодых людей, то тут женщина заколебалась бы, прежде чем сделать выбор, – ответила г-жа Кольвиль.
В эту минуту молодой Винэ, окинув взглядом гостиную, в которой собралось столько мелких буржуа, счел, что поступит очень тонко, если начнет превозносить буржуазию; он подхватил слова молодого адвоката из Прованса и принялся утверждать, будто люди, облеченные доверием правительства, должны подражать королю, чья роскошь оставила далеко позади роскошь прежних монархов; не удовольствовавшись этим, Винэ заявил, что делать сбережения из получаемого жалованья просто глупо, к тому же это даже невозможно, особенно в Париже, где жизнь вздорожала чуть ли не в три раза, где судейскому чиновнику, к примеру, приходится платить за свою квартиру тысячу экю!..
– Отец, – сказал он в заключение, – дает мне ежегодно тысячу экю, и этих денег вместе с моим жалованьем едва хватает на то, чтобы жить сообразно занимаемому мною положению.
Когда помощник прокурора вступил на зыбкую стезю, к которой его так ловко подвел собеседник, коварный провансалец незаметно обменялся взглядом с Дютоком, дожидавшимся своей очереди войти в карточную игру.
– В Париже отмечается такая острая нужда в должностях, – заметил письмоводитель, – что поговаривают о создании двух мировых судов в каждом округе с тем, чтобы открыть еще двенадцать канцелярий… Как будто можно посягнуть на наши права, на эти места, за которые платят поистине бешеные деньги!
– Я еще не имел удовольствия слышать ваши речи во Дворце Правосудия, – обратился помощник прокурора к г-ну де ла Пераду.
– Я адвокат бедняков и выступаю лишь в мировом суде, – ответил провансалец.
Слушая рассуждения молодого судейского чиновника о том, что должностным лицам следует проживать свои доходы, мадемуазель Тюилье приняла чопорный вид, значение которого было хорошо известно и молодому провансальцу и Дютоку. Винэ-младший покинул салон вместе с Минаром и Жюльеном-адвокатом; таким образом, поле битвы возле камина осталось за молодым де ла Перадом и Дютоком.
– Чиновная буржуазия, – заявил Дюток, обращаясь к Тюилье, – начинает вести себя так, как некогда вела себя аристократия. Дворяне норовили жениться на дочерях из богатых семейств, чтобы таким способом унаваживать свои земли, нынешние выскочки охотятся за приданым, чтобы подправить свои дела.
– Именно это господин Тюилье говорил мне нынче утром, – дерзко заявил провансалец.
– Винэ-старший женился на некоей барышне де Шаржбеф, – продолжал Дюток, – от нее-то он и понабрался дворянских привычек. Ему во что бы то ни стало нужно состояние, жена его живет на княжескую ногу.
– Ну, лишите этих людей должностей, – сказал Тюилье, который, как истый буржуа, завидовал своим ближним, – и они быстро окажутся на мели…
Мадемуазель Тюилье вязала с такой молниеносной быстротой, что казалось, будто работает паровая машина.
– Ваш черед, господин Дюток, – заявила г-жа Минар, вставая. – У меня ноги застыли, – прибавила она, направляясь к камину.
При этом золотые побрякушки на ее тюрбане засверкали, как бенгальские огни при бликах свечей «звезда», которыми тщетно пытались осветить огромную гостиную.
– Этому помощнику прокурора впору проповедовать в храме святого Луи! – заметила г-жа Минар, бросив взгляд на мадемуазель Тюилье.
– Вы хотите сказать – в храме святого Луидора! – подхватил провансалец. – Как это остроумно, сударыня…
– Госпожа Минар уже давно приучила нас к своим метким замечаниям, – вставил красавец Тюилье.
Госпожа Кольвиль внимательно смотрела на провансальца и невольно сравнивала его с молодым Фельоном: тот беседовал с Селестой, не обращая никакого внимания на все происходившее вокруг. Пожалуй, теперь самое время описать своеобразного человека, который был призван сыграть столь важную роль в жизни семьи Тюилье и который, конечно же, заслуживает имени великого артиста.
В Провансе, особенно в окрестностях Авиньона, встречается порода людей, далеко отстоящих от привычного типа южанина: обычно это блондины или шатены, с нежным цветом лица и кроткими глазами, чей взор покоен, безразличен или томен, в то время как у большинства южан взор, как правило, живой, пламенный и глубокий. Заметим, кстати, что на Корсике люди, подверженные бурным порывам, опаснейшим вспышкам гнева, чаще всего блондины, с виду совершенно спокойные. Самыми грозными в Провансе оказываются бледные, довольно полные мужчины с тусклыми светло-голубыми или светло-зелеными глазами. Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад был великолепным образчиком этой породы людей, чья конституция заслуживает внимательнейшего изучения со стороны медицинской науки, философии и физиологии. Дело в том, что в них иногда происходит внезапное разлитие желчи, и отравленная горечью кровь кидается им в голову, подталкивая их на свирепые деяния, которые они на первый взгляд холодно обдумывают; на самом же деле их поступки – следствие внутреннего опьянения, хоть в это и не легко поверить, глядя на их флегматическую внешность, встречаясь с их спокойным, благодушным взором.
Молодой провансалец, родившийся неподалеку от Авиньона, был человек среднего роста, хорошо сложенный, довольно полный; трудно определить оттенок его кожи: ее нельзя назвать ни мертвенно бледной, ни матовой, ни розовой, своим цветом она напоминала желатин, и этот образ один только в силах дать представление об аморфной, бесцветной оболочке, под которой скрывались нервы, не столько крепкие, сколько способные при определенных обстоятельствах выдержать чудовищное напряжение. Взгляд его бледно-голубых холодных глаз обычно выражал обманчивую меланхолию, необыкновенно привлекающую женщин. Красивый лоб, казалось, дышал благородством и отлично гармонировал с тонкими, редкими светло-каштановыми волосами, которые от природы слегка завивались на концах. У него был нос охотничьей собаки: приплюснутый, раздвоенный на конце, любопытный, какой-то осмысленный и ищущий, вечно что-то вынюхивающий; нет, то не был добродушный нос, то был нос иронический и насмешливый. Но черты характера Теодоза были глубоко запрятаны, только тогда, когда молодой человек переставал наблюдать за собою и приходил в ярость, становились явными свойственный ему сарказм и ум, которыми были пронизаны его дьявольские шуточки. У него был приятно изогнутый рот, губы цвета граната, голос на среднем регистре звучал необыкновенно пленительно; Теодоз обычно старательно сдерживал раскаты своего голоса, который, если хозяин давал ему волю, звенел в ушах слушателей, как гонг. Впрочем, адвокат переходил на фальцет лишь в тех случаях, когда не помнил себя от гнева и нервы его не выдерживали. Его овальной формы лицо обычно ничего не выражало – так хорошо он умел им управлять. С этим истинно жреческим выражением лица находились в полном согласии сдержанные, благовоспитанные манеры, но в его обхождении было что-то уж слишком приветливое и навязчивое, чуть ли не льстивое, и такая манера вести себя невольно покоряла человека, особенно пока он находился в обществе Теодоза. Обаяние, имеющее своим источником человеческое сердце, оставляет в другом человеке глубокие следы, но обаяние, являющееся лишь следствием искусного умения вести себя, равно как и следствием красноречия, одерживает только преходящие победы: чтобы добиться цели, оно не гнушается никакими средствами. Но много ли встречается в частной жизни людей с философским складом ума, способных сравнивать и разбираться в таких тонкостях? Почти всегда, по народному выражению, люди заурядные разгадывают хитреца лишь тогда, когда он уже успел обвести их вокруг пальца!








