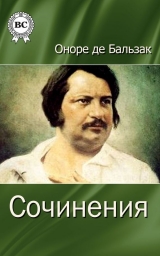
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 86 страниц)
Госпоже Бирото почудился яркий свет в соседней комнате, и она тотчас подумала: «Пожар!» – но тут ее внимание привлек красный фуляровый платок, который она приняла за лужу крови, и грабители целиком заняли ее мысли; больше того, в расстановке мебели она усмотрела следы недавней борьбы. Когда она вспомнила, какие деньги лежат в кассе, ее охватил священный трепет, вытеснивший леденящий ужас кошмара; совершенно потеряв голову, в одной сорочке, она бросилась на помощь мужу, который, решила она, борется с убийцами.
– Бирото, Бирото! – закричала она наконец голосом, полным тревоги.
Она нашла парфюмера в соседней комнате со складным метром в руке: он что-то измерял; его бумажный зеленый в коричневую крапинку халат распахнулся, от холода покраснели ноги, но Бирото до того был увлечен своим делом, что ничего не чувствовал. Наконец он оглянулся и спросил: «Что случилось, Констанс?» Лицо его, растерянное лицо человека, вдруг оторвавшегося от сложных вычислений, было удивительно глупо, и г-жа Бирото расхохоталась.
– Господи! – воскликнула она. – Ну и чудак же ты, Цезарь! Почему ты не предупредил меня, что встаешь? Я чуть не умерла со страху, не знала, что и подумать. Что ты здесь делаешь, на сквозняке? Того и гляди, простудишься. Слышишь, Бирото?
Иду, женушка, иду, – сказал парфюмер, возвращаясь в спальню.
– Грейся и рассказывай, что за блажь пришла тебе в голову, – продолжала г-жа Бирото, выгребая из-под золы еще тлеющие головешки и усердно раздувая огонь. – Я совсем замерзла. Ну, не глупо ли было вскочить с постели в одной сорочке? Но мне почудилось, что тебя убивают.
Парфюмер поставил подсвечник на камин, запахнул халат и машинально подал жене ее фланелевую юбку.
– Возьми, душенька, оденься. Двадцать два на восемнадцать, – продолжал он прерванный монолог, – да у нас получится великолепная гостиная.
– Что с тобой, Бирото? В своем ли ты уме? Ты бредишь?
– Нет, жена, я подсчитываю.
– Подождал бы лучше до утра со своими глупостями, – воскликнула она, завязывая юбку под ночной кофтой, и, приоткрыв дверь, заглянула в комнату дочери. – Цезарина спит, – прибавила г-жа Бирото, – она нас не услышит. Ну, не томи меня, Бирото. Что случилось?
– Мы дадим бал.
– Бал! Мы? Да ты и впрямь бредишь, дружок.
– Нет, я в здравом уме, милочка. Понимаешь ли, надо жить так, как обязывает наше положение в обществе. Правительство отличило меня, я принадлежу к правительству, мы должны проникнуться его духом и содействовать его намерениям, всячески их поддерживая. Герцог де Ришелье только что добился прекращения оккупации Франции иноземными войсками, и господин де ла Биллардиер считает, что должностные лица, так сказать представители города Парижа, должны почесть за долг ознаменовать освобождение страны, каждый в сфере своего влияния. Проявим же истинный патриотизм, и пусть сгорят со стыда все эти проклятые интриганы, все эти так называемые либералы! Или ты полагаешь, что я не люблю родины? Я покажу либералам, моим врагам, что любить короля – значит любить Францию!
– Бедный мой Бирото, так, по-твоему, у тебя есть враги?
– Да, жена, да, у нас есть враги. И половина наших друзей в квартале – наши враги. Все они твердят в один голос: «Бирото везет, Бирото – ничтожество, а вот смотрите – он уже помощник мэра, все ему удается». Ну что ж, их ждет еще удар! Знай, я тебе первой говорю – я кавалер ордена Почетного легиона: король вчера подписал указ.
– Ах, тогда нам и вправду надо дать бал, друг мой, – согласилась взволнованная г-жа Бирото. – Но за какие заслуги тебе пожаловали орден?
– Когда господин де ла Биллардиер сообщил мне вчера эту новость, – продолжал смущенный Бирото, – я тоже спросил себя: за какие заслуги? Но, размышляя по дороге домой, я решил, что достоин награды, и одобрил правительство. Прежде всего, ведь я роялист, в вандемьере я был ранен у церкви Святого Роха, а это немалое дело – сражаться в такие дни за короля. Потом, как говорят среди купечества, я неплохо справлялся со своими обязанностями в коммерческом суде. Наконец, ныне – я помощник мэра, а король пожаловал четыре ордена муниципалитету города Парижа. Выбирая помощников мэра, достойных награды, префект внес меня в список первым. Король ведь должен меня знать: благодаря старику Рагону я поставляю ему пудру, которую он благоволит употреблять, мы одни знаем рецепт пудры покойной королевы, нашей августейшей страдалицы! А уж мэр-то меня поддерживает. Чего ты хочешь? Ежели король награждает меня орденом без ходатайства с моей стороны, сдается мне, я не могу отказаться. Это было бы непочтительно по отношению к его величеству. Разве я хотел стать помощником мэра? Итак, жена, раз уж дует попутный ветер, как говорит в веселую минуту твой дядя Пильеро, то, я полагаю, мы должны быть на высоте. Если я могу быть полезен правительству, то готов стать, чем господь прикажет: супрефектом – так супрефектом, если уж таково мое предназначение. Ты глубоко ошибаешься, жена, полагая, что истинный гражданин может счесть выполненным свой долг перед родиной, если он двадцать лет кряду продает парфюмерные товары заинтересованным в них покупателям. Если государство требует от нас наших познаний, мы обязаны принести их на алтарь отечества, как обязаны уплачивать налог и на движимое имущество, и на двери, и окна, и прочее. Неужели тебе всю жизнь хочется оставаться за конторкой? Слава богу, насиделась ты в лавке достаточно. Бал будет нашим с тобой праздником. Конец розничной торговле, хватит. Я сожгу нашу вывеску «Королева роз» и вместо «Цезарь Бирото, парфюмер, преемник Рагона» просто напишу большими золотыми буквами: «Парфюмерные товары». На антресолях устроим контору, кассу и уютный кабинет для тебя. Под склад для товаров отведем комнату за лавкой, теперешнюю столовую и кухню. Мы снимем весь второй этаж соседнего дома, пробьем туда дверь. Лестницу же перенесем так, чтобы свободно переходить из одного дома в другой. Получится большая, шикарно отделанная квартира! Я заново обставлю твою комнату, устрою тебе будуар, и Цезарине отведем хорошенькую комнатку. Кассирша, которую мы наймем, старший приказчик и твоя горничная (да, сударыня, у вас будет горничная!) поселятся на третьем этаже. На четвертом – будет кухня, комната для кухарки и рассыльного. На пятом этаже устроим склад для бутылок, хрусталя и фарфора. Упаковочную – на чердак! Прохожие не увидят больше, как работницы наклеивают этикетки, готовят пакетики, сортируют флаконы, закупоривают пузырьки. Что было еще терпимо на улице Сен-Дени, для улицы Сент-Оноре – уже плохой тон. Наш магазин должен напоминать салон. Скажи-ка, разве одни мы, парфюмеры, находимся в чести? Разве среди офицеров национальной гвардии нет торговцев уксусом или горчицей, к которым благосклонен двор? Возьмем их за образец, расширим нашу торговлю и одновременно войдем в высшее общество.
– Постой, Бирото, знаешь, что мне пришло в голову, пока я тебя слушала? Ты, видно, сам не знаешь, чего захотел! Вспомни, что я говорила, когда тебя собирались назначить мэром: «Спокойствие дороже всего! Тебе так же пристало быть на виду у всех, – сказала я тогда, – как моей руке стать крылом ветряной мельницы. Высокое положение тебя погубит!» Ты не послушал меня, вот и пришла наша гибель. Чтобы приобрести политический вес, нужны деньги, а много ли у нас денег? Зачем понадобилось тебе сжигать вывеску, которая стоила шестьсот франков, и отказываться от «Королевы роз» – твоей истинной славы? Оставь честолюбие другим. Не суй руку в огонь – обожжешься, разве не верно? А в наши дни и вовсе сгорают в политике. Завелась у нас сотня тысяч франков? Хочешь увеличить состояние? Хорошо, поступи, как в 1793 году: курс государственной ренты сейчас семьдесят два франка, вот и приобрети ренту. Будешь получать десять тысяч франков дохода и нашим делам не повредишь. Воспользуйся случаем, выдай дочь замуж, продай фирму, и уедем к тебе на родину. Ведь уже пятнадцать лет ты только и твердишь что о покупке «Трезорьера» – такое чудесное именьице в окрестностях Шинона: тут тебе и леса, и луга, и виноградники, и две мызы, и доходу оно дает тысячу экю; нам обоим усадьба нравится, и мы можем купить ее за шестьдесят тысяч франков… А вам, сударь, вдруг взбрело на ум занять место в правительственных кругах. Не забывай, мы всего лишь парфюмеры. Если бы шестнадцать лет тому назад, когда ты еще не изобрел ни «Двойного крема султанши», ни «Жидкого кармина», тебе сказали бы: «У вас будет достаточно средств, чтобы купить «Трезорьер», да ты с ума сошел бы от радости. Теперь же, когда ты в состоянии приобрести это имение, – а тебе ведь так хотелось купить его, ты ведь рта не мог раскрыть, чтобы не заговорить о нем, – теперь ты собираешься истратить на глупости деньги, заработанные нами в поте лица, – я вправе сказать нами, я-то всегда сидела за конторкой, словно собачонка на привязи. Чем пускаться в сомнительные спекуляции, не лучше ли жить месяцев восемь в году в Шиноне, а в столице иметь пристанище у дочери, которую мы выдадим замуж за парижского нотариуса. Выжди повышения курса государственных бумаг, тогда ты сможешь дать дочери ренту в восемь тысяч франков, и нам останется еще две тысячи; на средства же, вырученные от продажи фирмы, купим «Трезорьер». Перевезем туда, милый котик, нашу обстановку, она ведь тоже денег стоит, и заживем что твои князья. А в Париже нужно не меньше миллиона, чтобы занять видное положение.
– Я так и знал, что ты это скажешь, жена, – заметил Цезарь Бирото. – Все же я не настолько глуп (хотя ты и считаешь меня круглым дураком), чтобы не подумать обо всем. Слушай же внимательно. Александр Кротта самый подходящий для нас зять, куда уж лучше! И к нему перейдет контора Рогена. Но неужели ты думаешь, что он удовлетворится приданым в сто тысяч франков, а мы можем дать такую сумму только при условии, что продадим все свое имущество и затратим эти средства на устройство дочери. Конечно, я готов так сделать, лучше мне до конца дней своих есть черствый хлеб, но пусть уж наша дочь, как ты сама сказала, будет женой парижского нотариуса и счастливой, как королева. Пойми же, сто тысяч франков или восемь тысяч франков ренты – сущие пустяки, на такие деньги не купишь конторы Рогена. Маленький Ксандро, как мы его называем, подобно всем нашим знакомым, считает нас куда богаче, чем мы есть на самом деле. Если его отец, этот толстый фермер, старый скаред, не продаст своих земель за сто тысяч франков, Ксандро не быть нотариусом, ибо контора Рогена стоит четыреста, а то и пятьсот тысяч франков. Если Кротта не заплатит половины суммы наличными, как он выпутается? За Цезариной мы должны дать двести тысяч франков приданого, да и я сам хочу уйти на покой обеспеченным парижским буржуа, имея пятнадцать тысяч франков ренты. А если я тебе докажу ясно как день, что все это возможно, прикусишь ли ты язычок?
– Ну, раз ты нашел золотые россыпи в Перу…
– Да, милочка, да, – ответил радостно взволнованный, сияющий Бирото, обнимая жену за талию и легонько похлопывая ее рукой. – Я не хотел заговаривать с тобой об этом деле, пока не довел его до конца, но, право, завтра все уже будет в порядке. Так вот, Роген предложил мне надежную спекуляцию; он и сам принимает в ней участие вместе с Рагоном, с дядей Пильеро и еще двумя клиентами. Мы покупаем в районе церкви Мадлен участки земли, которые, по расчетам Рогена, достанутся нам за четверть той цены, какой они достигнут через три года – к сроку окончания аренды, когда мы станем их полноправными владельцами. Каждому из шести пайщиков дается обусловленная доля. Я вкладываю триста тысяч франков и получу три восьмых всей земли. Если кому-нибудь из нас понадобятся деньги, Роген их достанет под залог нашей части. Но, знаешь, своя рука – владыка, свой глаз – алмаз, и я решил стать владельцем половинной доли, вместе с Пильеро и стариком Рагоном, а записана она будет на мое имя. Роген будет находиться в доле с неким Шарлем Клапароном, моим совладельцем, который, так же как и я, выдаст обязательства своим компаньонам. Документы на приобретенные земельные участки оформляются частным порядком до тех пор, пока мы не станем полными хозяевами всей земли. Роген рассмотрит контракты, подлежащие реализации, ибо еще наверняка неизвестно, удастся ли нам освободиться от регистрации участков и переложить эту обязанность на тех, кто станет покупать у нас землю по частям… Но это слишком долго тебе объяснять. После оплаты земли нам останется лишь сидеть сложа руки, а через три года у нас будет миллион. Цезарине исполнится двадцать лет, мы продадим нашу фирму и с божьей помощью скромно вступим на путь величия.
– Отлично, но где ты возьмешь триста тысяч франков? – спросила г-жа Бирото.
– Ты ничего не смыслишь в делах, кошечка. Я внесу сто тысяч франков, которые лежат у Рогена, сорок тысяч получу под залог дома и сада в предместье Тампль, где находится наша фабрика, а кроме того, двадцать тысяч франков лежат у меня в портфеле, – итого сто шестьдесят тысяч франков. Остается найти еще сто сорок тысяч; на эту сумму я подпишу векселя приказу банкира Шарля Клапарона, он внесет их стоимость за вычетом учетного процента. Вот триста тысяч франков и уплачены, – долг пойдет впрок, коль заплатишь в срок. Когда наступит срок векселям, мы погасим их из наших доходов. Если же не удастся рассчитаться, Роген достанет мне денег из пяти процентов под залог моих земельных участков. Но мы обойдемся без займа; я открыл средство для ращения волос – «Комагенное масло». Ливингстон уже установил в подвале гидравлический пресс – будем добывать масло из орехов, – под сильным давлением сразу выжмем из них все масло. Рассчитываю за год заработать не меньше ста тысяч. Я уже обдумываю объявление. Начнем его так: «Долой парики!» – и произведем фурор. А ты и не замечала, что я страдаю бессонницей. Вот уж три месяца, как успех «Макассарского масла» не дает мне покоя. Я хочу пустить ко дну это «Макассарское».
– Так вот над какими планами ты уже два месяца ломаешь себе голову и даже словечком о них не обмолвишься! Прекрасные планы! Недаром я видела себя во сне нищенкой, на пороге собственной лавки: это небесное предзнаменование. Скоро мы дотла разоримся и все глаза себе выплачем. Нет, пока я жива, не бывать этому, слышишь, Цезарь?! За всем этим скрываются какие-то темные дела, о которых ты и не догадываешься; ты человек такой честный и порядочный, что не можешь заподозрить кого-либо в плутнях. С какой радости обещают тебе миллионы? Ты рискуешь всем состоянием, берешь обязательства не по средствам, а вдруг твое «Масло» не пойдет, не достанешь денег, нельзя будет реализовать стоимость земли, – как ты тогда оплатишь векселя? Может, ореховыми скорлупками? Ты стремишься к более высокому положению в обществе, отказываешься торговать под своим именем, хочешь уничтожить вывеску «Королева роз» и в то же время готов низко кланяться, лебезить перед публикой, выставлять напоказ имя Цезаря Бирото на всех столбах, заборах, на всех огороженных для построек местах.
– Вовсе не так! Я открою отделение магазина под вывеской Попино где-нибудь в районе Ломбардской улицы и поручу его маленькому Ансельму. Тем самым я отблагодарю чету Рагонов, пристроив их племянника к делу, которое его обеспечит. Бедных стариков Рагонов, видно, здорово потрепало за последнее время…
– Поверь мне, все эти люди подбираются к твоим деньгам.
– Да какие же «эти люди», моя прелесть? Не твой ли дядя Пильеро, который души в нас не чает и обедает у нас каждое воскресенье? Или добряк Рагон, наш предшественник? У него за плечами сорокалетняя безупречная деятельность, он наш всегдашний партнер по бостону! Или, может быть, Роген? Да ведь он почтенный человек пятидесяти семи лет и уже четверть века состоит парижским нотариусом. А парижский нотариус – это, сказал бы я, самый цвет общества, если бы только все порядочные люди не были достойны одинаковой чести. В случае нужды мне помогут компаньоны! Так где же заговор, дружочек? Давай поговорим по душам! Честное слово, у меня накипело на сердце. Ты всегда была пуглива, как кошка! Едва только в лавке у нас набиралось на два су товаров, как ты начинала видеть в каждом покупателе вора… Приходится на коленях умолять: позволь обогатить тебя! Ты парижанка, а честолюбия в тебе ни на грош. Без твоих вечных страхов я был бы счастливейшим человеком в мире! Послушай я тебя, мы никогда бы не пустили в продажу ни «Крема султанши», ни «Жидкого кармина». Лавка всегда кормила нас, но эти два открытия и наши мыла дали нам сто шестьдесят тысяч франков чистоганом. Без моей изобретательности, – ведь что ни говори, а я талантливый парфюмер, мы оставались бы мелкими розничными торговцами, еле-еле сводили бы концы с концами, и никогда не бывать бы мне именитым купцом, не баллотироваться в члены коммерческого суда, не заседать в суде, не стать помощником мэра. Знаешь, кем бы я был? Лавочником, как дядюшка Рагон, не в обиду ему будь сказано, так как я уважаю его лавку, этой лавке мы обязаны нашим благосостоянием! Поторговав лет сорок парфюмерией, мы, подобно Рагону, имели бы три тысячи франков дохода; и при нынешней дороговизне, когда цены возросли вдвое, мы перебивались бы кое-как, не лучше стариков Рагонов. Чем дальше, тем у меня сильнее болит душа за них. Надо разобраться в их делах; завтра же хорошенько расспрошу обо всем Попино. Ты отравляешь счастье тревогой, все боишься, не утеряешь ли завтра то, чем обладаешь сегодня. Следуй я твоим советам, не было бы у меня ни кредита, ни ордена Почетного легиона, ни политической карьеры впереди. Да, покачивай головой сколько угодно… Если наше дело выгорит, я еще стану депутатом от Парижа. Недаром зовут меня Цезарь, все мне удается. Нет, это просто непостижимо, – чужие люди ценят мой ум, а дома жена, единственный человек, ради счастья которого я из кожи вон лезу, считает меня глупцом!
Слова эти, прерываемые красноречивыми паузами и вылетавшие словно пули, как у всякого, кто, обвиняя, оправдывается, выражали такую глубокую, безграничную привязанность, что г-жа Бирото была в душе тронута; однако, по женскому обычаю, она воспользовалась любовью мужа, чтобы взять над ним верх.
– Вот что, Бирото, – возразила она, – если ты меня любишь, позволь мне быть счастливой на свой лад. Ни ты, ни я не получили светского воспитания, мы не умеем ни разговаривать, ни держать себя в обществе; подумай, где уж нам преуспевать в высших кругах? А как мне хорошо будет в «Трезорьере»! Я всегда любила животных и птиц и с радостью стану возиться с цыплятами и хозяйством. Давай продадим фирму, выдадим Цезарину замуж, и брось ты свое «имогенное масло». На зиму мы будем приезжать к зятю в Париж, заживем счастливо, спокойно, никакие перемены ни в политике, ни в торговле нас не будут тревожить. К чему тебе душить других? Разве нам не хватает нашего состояния? Или, став миллионером, ты будешь по два раза в день обедать, заведешь себе еще вторую жену? Бери пример с дяди Пильеро, он благоразумно довольствуется своим небольшим состоянием, и жизнь его заполнена добрыми делами. Разве нуждается он в роскошной квартире? А я уверена, что ты решил заказать новую обстановку, я видела у нас в лавке Брашона, не за парфюмерией же он приходил.
– Верно, душенька, угадала, – я заказал для тебя обстановку; завтра мы начнем переделывать квартиру под руководством архитектора, рекомендованного мне господином де ла Биллардиером.
– Господи, сжалься над нами! – воскликнула г-жа Бирото.
– Ну рассуди сама, душенька. Неужели в тридцать семь лет такая привлекательная женщина, как ты, должна похоронить себя в Шиноне? Да и мне самому всего тридцать девять. Передо мной открывается блестящий путь, не пропускать же такой случай! Действуя осмотрительно, я положу начало солидной фирме, уважаемой парижским купечеством, сделаюсь основателем торгового дома Бирото и стану не менее чтимым, чем Келлеры, Демаре, Рогены, Кошены, Гильомы, Леба, Нусингены, Саяры, Попино, Матифа, а ведь ими гордятся или гордились целые районы столицы. Полно! Это верное дело, золотое дно!
– Верное!
– Да, верное. Вот уже два месяца, как я его обмозговываю. Будто бы между прочим, осведомляюсь о постройках в ратуше у архитекторов, у подрядчиков. Господин Грендо, молодой архитектор, который будет переделывать наш дом, в отчаянии, что за отсутствием средств не может принять участие в нашей спекуляции.
– Он рассчитывает, что начнут строиться, вот и подзадоривает вас, чтобы потом ощипать.
– Ну, таких людей, как Пильеро, Шарль Клапарон и Роген, не проведешь! Пойми ты, – верный успех, как с «Кремом султанши».
– Но, дружок, зачем понадобилось Рогену пускаться в спекуляции, когда он оплатил стоимость конторы и сколотил себе состояние? Не раз видела я его озабоченного, что твой министр, идет – глаз не подымает; дурной это знак – Роген что-то таит. И лицо у него вот уже лет пять как у старого развратника. Кто поручится, что он не улизнет, захватив ваши денежки? Такие дела случались. Знаем ли мы его как следует? Пусть он пятнадцать лет считался нашим приятелем, а я за него не поручусь. Послушай, у него зловонный насморк, он не живет с женой, должно быть, содержит любовниц, а те его разоряют; иначе почему ему быть таким озабоченным? Утром, одеваясь, я сквозь занавеси вижу из окна, как он возвращается пешком домой. Откуда? – никто не знает. Похоже, что у него есть вторая семья и что у него и жены свои особые траты. Так ли должен вести себя нотариус? Если у Рогенов пятьдесят тысяч франков доходу, а проедают они шестьдесят тысяч, то через двадцать лет они проживут все свое состояние, и Роген будет гол как сокол; но, привыкнув блистать в свете, он безжалостно обчистит своих друзей, ведь своя рубашка ближе к телу. Он водится с этим проходимцем дю Тийе, нашим бывшим приказчиком; я не вижу ничего хорошего в этой дружбе. Если Роген не знает цену дю Тийе, значит, он слеп, а если раскусил его, почему так носится с ним? Ты скажешь, его жена любит дю Тийе; что ж, я не жду ничего хорошего от человека, который терпит, что жена порочит его имя. А потом, что за простофили теперешние владельцы участков, – отдают за сто су то, что стоит сто франков. Если ты встретишь ребенка, не знающего стоимости луидора, разве ты умолчишь о ней? Не в обиду будь тебе сказано, ваша затея смахивает на жульничество.
– Господи! До чего женщины бывают порой забавны и как они все на свете путают! Если бы Роген не принимал участия в деле, ты твердила бы: «Смотри, Цезарь, смотри. Роген остался в стороне, не сомнительное ли это предприятие?» Когда же он входит в дело и тем самым гарантирует его успех, ты говоришь…
– Но при чем тут какой-то Клапарон?
– Да ведь нотариус не имеет права под своим именем участвовать в спекуляции.
– Зачем же он поступает противозаконно? Что ты скажешь на это, законник?
– Дай мне договорить. Роген участвует в покупке участков, а ты мне заявляешь – нестоящее это дело! Разумно ли это? Ты еще прибавляешь: «Это противозаконно». Но Роген примет и явное участие, если понадобится. Ты заявляешь: «Он богат!» Но ведь то же самое могут сказать и обо мне? Что бы я ответил Рагону и Пильеро, если бы они спросили меня: «К чему вы затеяли это дело, когда у вас и так денег хоть отбавляй?»
– Купец – это совсем иное, чем нотариус, – возразила г-жа Бирото.
– Словом, совесть моя совершенно спокойна, – продолжал Цезарь. – Люди продают землю по необходимости; мы обкрадываем их не больше, чем тех, у кого покупаем облигации ренты не за сто, а за семьдесят пять франков. Сегодня мы приобретаем земли по одной цене, через два года она возрастет так же, как повышается курс ренты. Знайте, Констанс-Барб-Жозефина Пильеро, вы никогда не уличите Цезаря Бирото в поступке, противоречащем чести, закону, совести или порядочности. Человека, стоявшего во главе фирмы восемнадцать лет, подозревают в нечестности, и где же? в его собственной семье!
– Полно, успокойся, Цезарь! Я твоя жена, прожила с тобой столько лет, я хорошо знаю и понимаю тебя. В конце концов здесь ты хозяин. Наше состояние – дело твоих рук. Оно твое, распоряжайся им. Хоть доведи ты нас – меня и дочь – до крайней нищеты, мы и тогда не сделаем тебе ни малейшего упрека. Но послушай, когда ты придумал «Крем султанши» и «Жидкий кармин», чем ты рисковал? – пятью, шестью тысячами франков, и только. Сегодня же ты ставишь на карту все свое состояние, ты играешь не один, а с партнерами, которые могут перехитрить тебя. Задавай балы, переделывай квартиру, истрать десять тысяч франков – это бесполезно, но не разорительно. Но против твоих спекуляций землей я решительно возражаю. Ты парфюмер, так и оставайся парфюмером, не к чему тебе становиться перекупщиком земельных участков. У нас, женщин, всегда бывают верные предчувствия. Я предупредила тебя, а дальше поступай как знаешь. Ты был членом коммерческого суда, ты знаешь законы, ты всегда удачно вел свои дела. А я что ж… я должна слушаться тебя, Цезарь. Но я не успокоюсь, пока наше состояние не будет обеспечено и пока мы не выдадим Цезарину замуж за хорошего человека. Дай бог, чтобы сон мой не оказался пророческим!
Такая покорность раздосадовала Бирото, и он прибегнул к невинной хитрости, обычной для него в подобных обстоятельствах.
– Послушай, Констанс, я еще не дал слово, но все уже налажено.
– О Цезарь, все уже сказано; не будем больше к этому возвращаться. Честь дороже богатства. Ложись спать, дружок, дрова уже прогорели. Поговорим в постели, если хочешь. Ах, этот зловещий сон! Господи! Видеть во сне самое себя! Нет, это ужасно!.. Мы с Цезариной будем служить молебны за успех твоего дела.
– Конечно, господняя помощь не повредит, – важно изрек Бирото, – но знаешь ли, жена, ореховое масло – тоже сила. Я пришел к новому своему открытию так же случайно, как и к «Двойному крему султанши»: тогда меня осенило, когда я перелистывал книгу, а теперь – когда рассматривал гравюру «Геро и Леандр». Помнишь, там женщина льет масло на голову своего возлюбленного? Разве это не мило? Нет ничего вернее предприятий, которые играют на тщеславии, самолюбии, желании нравиться. Эти чувства никогда не умирают.
– Увы! я это прекрасно вижу.
– В известном возрасте мужчина пойдет на все, чтобы восстановить потерянную шевелюру. Парикмахеры говорили мне, что сейчас у них покупают не только «Макассарское масло», но всевозможные снадобья для окраски и ращения волос. После заключения мира мужчины еще больше увиваются за красивыми женщинами, а дамы лысых не любят, хе-хе, – верно, дружочек? Итак, спрос на этот товар объясняется политическим положением. Мое средство от выпадения волос будут покупать, как хлеб, тем более что оно несомненно получит одобрение Академии наук. Добрейший господин Воклен, надеюсь, поможет мне и на этот раз. Завтра я отправлюсь к нему за советом и преподнесу ему гравюру, которую я наконец нашел для него после двухлетних поисков в Германии. Он как раз занимается анализом волос. Я знаю об этом от Шифревиля – его компаньона по фабрике химических продуктов. Если изыскания Воклена подтвердят мою догадку, на наше масло набросятся и мужчины, и женщины. Еще раз тебе говорю, открытие мое – целое состояние. Господи, да я из-за него сон потерял. Ах, счастье наше, что у маленького Попино превосходные волосы! Нам бы еще нанять кассиршу с косами до пят, да пусть она говорит, – не в обиду будь сказано ни господу, ни ближнему нашему, – что ей помогло «комагенное масло» (это будет именно масло), и тогда седовласые старцы набросятся на него, как осы на мед. А что ты скажешь, голубушка, о бале? Я не злой человек, но я не прочь увидеть среди гостей этого пройдоху дю Тийе, который кичится своим богатством и всегда избегает меня на бирже. Он знает, что мне известны кое-какие его некрасивые делишки. Пожалуй, я был слишком добр к нему. Как странно, женушка, что всегда бываешь наказан за добрые дела, – на этом свете, понятно. Я был для него, словно отец родной, ты даже не представляешь, сколько я для него сделал.
– Меня мороз по коже подирает от одного разговора о нем. Если бы ты знал, чем он собирался отплатить тебе за добро, ты не скрывал бы, что он украл в твоей кассе три тысячи франков. Я ведь догадалась, как ты уладил дело. Право, если бы ты отдал его в руки полиции, ты оказал бы добрым людям немалую услугу.
– Как же он собирался мне отплатить?
– Не стоит вспоминать. Если ты способен выслушать меня сегодня, я дам тебе добрый совет, Бирото: не водись ты с этим дю Тийе.
– Не странно ли будет отвернуться от человека, который служил у меня приказчиком и именно под мое поручительство получил двадцать тысяч франков, чтобы начать собственное дело? Нет уж, будем творить добро ради добра. И ведь дю Тийе мог исправиться…
– Придется нам, верно, все перевернуть вверх дном.
– Как так перевернуть все вверх дном? Нет, мы все разыграем как по нотам. Ты, видно, уже забыла, что я тебе говорил о лестнице и найме помещения в соседнем доме, – я уж договорился с торговцем зонтиками, Кейроном. Завтра вместе с ним я пойду к господину Молине, владельцу дома. Да, дел у меня завтра побольше, чем у министра…
– Ты мне голову вскружил своими планами, – ответила Констанс, – просто ум за разум заходит. И я уже совсем сплю.
– Доброе утро, – ответил муж. – Слышишь, Констанс, я говорю тебе «доброе утро», так как на дворе уже светло. Смотри-ка, уже заснула дорогая детка! Спи спокойно, ты у нас еще будешь богачкой, или я потеряю право называться Цезарем.
Через несколько минут Констанс и Цезарь мирно похрапывали.
Беглый взгляд, брошенный на прошлое этой супружеской четы, подтвердит впечатление, которое сложилось у читателей от дружеского препирательства между героями описанной сцены. Рисуя купеческие нравы, наш очерк объяснит еще, в силу какого необычайного стечения обстоятельств Цезарь Бирото стал владельцем парфюмерной лавки и офицером национальной гвардии, а затем сделался помощником мэра и кавалером ордена Почетного легиона. Всесторонне рассмотрев его характер и причины его возвышения, нетрудно будет понять, что в торговом мире потрясения, которые преодолевают люди сильные, для людей слабых и недалеких оказываются непоправимыми катастрофами. Сами события ничего еще не решают. Их последствия зависят исключительно от людей; несчастье – ступень к возвышению гения, очистительная купель – для христианина, клад – для ловкого человека, бездна – для слабого.
Жак Бирото, фермер-арендатор из окрестностей Шинона, женился на горничной помещицы, у которой он вскапывал виноградники. У Бирото было три сына, жена умерла при рождении третьего ребенка, и муж не намного ее пережил. Помещица сердечно относилась к горничной: она воспитала старшего сына фермера – Франсуа вместе со своими детьми, а затем определила его в семинарию. В годы революции Франсуа Бирото скрывался и вел бродячую жизнь неприсягнувших священников, которых преследовали и гильотинировали за малейшую провинность. Ко времени начала этой истории он был викарием Турского собора и только раз выезжал из города, чтобы повидаться с братом Цезарем. Парижская сутолока до того ошеломила почтенного священника, что он не решался выйти из комнаты; он называл кабриолеты «полукаретами» и всему удивлялся. Погостив с неделю, он вернулся в Тур, дав себе слово больше никогда не приезжать в столицу.








