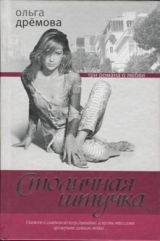
Текст книги "Столичная штучка"
Автор книги: Ольга Дрёмова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
По стеклам старинного серванта прыгали солнечные зайчики, и оттого казалось, что саксонские фарфоровые собачки, стоявшие в ряд на тяжелой полированной полке, ехидно ухмыляются. Почти прижав к стеклам свои приплюснутые носы, они с интересом прислушивались к беседе и, неодобрительно морщась от яркого света, прищуривали узкие щелочки кукольных глазок. Резкий упругий луч, рассекший комнату по диагонали театральным прожектором, вырвал золотистый сияющий конус, внутри которого, хаотично наталкиваясь друг на друга, прыгали мечущиеся во все стороны бестолковые пылинки.
– К сожалению, не каждую ошибку можно исправить, – с болью сказал Толя, – даже если от этого зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Наверное, говорить на эту тему больше не имеет никакого смысла. Что бы я ни сделал и как бы теперь ни поступил, изменить ничего не удастся. – Голос Анатолия был чужим и подавленным, и по тому, как он прятал глаза, стараясь не встретиться с матерью взглядом, Ева Юрьевна поняла, что сын чего-то недоговаривает.
– Ты… видел ее? – внимательно наблюдая за сыном, Ева Юрьевна заметила, как по лицу Анатолия пробежала едва уловимая тень.
– Кого? – наивный взгляд Толи не смог обмануть бдительности старой леди.
– Давай не станем осложнять друг другу жизнь.
В ее надтреснутом голосе зазвучала усталость, и, устыдившись своего малодушия, Анатолий посмотрел на мать, улыбнулся одними глазами, и лицо его озарилось внутренним светом, теплым, добрым и необыкновенно ласковым.
– Я люблю ее больше всего на свете, – вкрадчиво произнес он.
При этих словах уголки губ старой леди слегка дрогнули, и где-то на самом дне выцветших глаз заплескалась боль. То, что приросло насмерть, пригорело, по живому резать было непросто, но другого выхода не было. Выпрямив и без того ровную спину, она сделала над собой усилие и, загасив в глазах огонек обиды, негромко произнесла:
– Это должно было случиться, в одном сердце двум женщинам места не хватит. – Увидев, как передернулось лицо сына, она торопливо набрала в грудь воздуха и, пока он не успел возразить, продолжала: – Я не смогу тебя делить ни с кем, никогда этого не делала и не намерена начинать сейчас. Наверное, просто наступило такое время, которого я боялась всю свою жизнь и ждала одновременно: ты вырос и больше во мне не нуждаешься. Если твое сердце узнало, что такое любовь, значит, пора отпустить тебя.
Слова давались Еве Юрьевне тяжело. Нервно разломав сигарету, не выкуренную даже на треть, о край пепельницы, она автоматически взяла следующую, но, покрутив ее в пальцах, отложила в сторону.
– Сорок восемь – не край, ты еще не стар, и у тебя впереди есть то, чего у меня нет и, к сожалению, уже не будет никогда, – времени. Заглянуть за край раньше времени не дано ни одному грешному существу, потому что возврата с края нет, как нет смерти для того, кому Бог дал познать, что такое любовь.
– Я не боюсь края, мама, так устроен мир, и не в моих силах перекроить его. Я люблю, и мне достаточно того, что рядом со мной есть человек, значащий для меня больше, чем собственная жизнь. Даже если она никогда не сможет простить меня, мне будет достаточно знать, что я дышу с ней одним воздухом, смотрю на одно небо, живу с ней в одном городе и хожу по тем же самым улицам, что и она. Мне больно, мне так больно, мамочка, но в мире нет ничего, ради чего я отказался бы от этой боли.
Слова Анатолия наполняли душу Евы Юрьевны восторгом и острой щемящей болью невозвратимой утраты. Все, к чему она стремилась столько лет, было перечеркнуто, и под ее жизнью подведена уверенная черта. Осознав глубину потери, она поняла, что проиграла окончательно и бесповоротно, и ее старческие пергаментные губы растянулись в горькой улыбке.
* * *
– Нет, Вовчик, поскольку деньги тебе отдавать придется по-любому, без бабушки нам никак не обойтись, даже не заикайся, – рыжие брови Федора почти сошлись на переносице. Озабоченно барабаня карандашом по исчерченному схемами листу бумаги, он искоса взглянул на понурившегося Володю. – Я что-то никак не возьму в толк, почему ты так активно восстал против моей изумительно гениальной идеи, может, просветишь?
Громко выпустив воздух, Володя жалобно вздохнул, и по его нерешительному движению плечами Федор вывел, что в душе друга идет борьба между желанием поделиться очень важным и, судя по всему, не очень приятным воспоминанием и намерением оставить все как есть.
– Что ты вздыхаешь, будто кошелек потерял? – Федор отложил карандаш и взглянул на друга более требовательно. – Знаешь, ты довздыхаешься: я плюну на все, развернусь и уйду, мне что, одному это все нужно? Давай, не тяни резину, выкладывай, почему при имени Евы Юрьевны ты впадаешь в состояние столбняка.
– Обидно ощущать себя дураком, – нахохлился Володя, отводя глаза в сторону.
– Не говори глупостей, на твоем месте мог оказаться другой, у всякого бывают проколы, так что же, каждого в дураки записывать? – стараясь подбодрить Нестерова, доброжелательно спросил Шумилин.
– Каждого не надо, а меня стоит записать в этот список дважды, – решительно отвергая помощь друга, неожиданно выдал Володя.
– На основании чего такая гипертрофированная самокритика и неземная любовь к собственной персоне? – удивленно произнес Федор.
– Не хотел я говорить, но ты же, как пиявка, все равно не отцепишься, пока всю кровь не выпьешь. Три месяца назад, под Новый год, со мной произошла почти такая же история, из которой, если бы не бабушка, я бы лапы так и не вытащил, – сморщившись, неохотно проговорил Володя.
– Вот это фольтик! – изумлению Федора не было предела. – А почему я об этом ничего не знал?
– Я вообще никому не хотел говорить, думал, все, поумнел, второй раз на те же самые грабли наступать ни за что в жизни не стану, а ровно через три месяца влип еще сильнее.
– Да что за история такая, говори толком, я ничего не понимаю, – мотнул головой Федор, и, качнувшись, его огненная шевелюра заплясала мелкими солнечными зайчиками.
– Особенно рассказывать-то и нечего. Один знакомый попросил меня посидеть в торговой палатке вместо него всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут, а потом вместе с этим знакомым заявился хозяин всей этой кухни и выяснилось, что за время последней смены из кассы пропала приличная сумма денег. Ты же понимаешь, что ему было не с руки выяснять, кто где был, кто кого заменял, – с обидой выговорил он. – Поскольку нас было двое, он расписал на нас долг поровну, вот и вся история.
– А Ева Юрьевна здесь при чем? – спросил Федор.
– А, бабуля! – невольно улыбнулся Володя. – Знаешь, идти мне тогда было некуда: отец только-только перебрался к своей новой жене, с матерью мы серьезно поругались, а девчонка, у которой я тогда завис, выгнала меня, как паршивого щенка.
– За что ж она тебя так? – каждый новый факт, услышанный от друга, был удивительнее предыдущего. Шумилину, отродясь не дорожившему женским обществом, было непонятно, как можно было позволить какой-то вертихвостке обращаться с собой подобным образом.
– Известное дело за что, – усмехнулся непонятливости друга Вовчик. – Пока деньги были, она меня терпела, а когда закончились – вместе с вещами отправила на все четыре стороны. На улице я ночевать не мог, домой идти – гордость не позволяла, вот я и двинул к бабуле.
– А почему ты не пришел ко мне? – Володя услышал, как в голосе друга зазвучала обида.
– Знаешь, со мной тогда что-то такое происходило, я почти ничего не соображал, хорошо хоть до этого додумался, – оправдывался Володя.
– Ладно, – не желая выяснять отношения по пустякам, Федор решил не углубляться в мотивы поступков друга, тем более что неприятность была уже позади. – Ты не рассказал про Еву Юрьевну, она здесь каким боком оказалась?
– Я сначала молчал, не хотел ее во всю эту грязь вмешивать, но она, ты же сам знаешь, какая бабка, вытрясла из меня все, даже то, чего я и сам не знал.
– И что дальше? – представив, как Ева Юрьевна обводит простодушного Володьку вокруг пальца, Федор невольно улыбнулся.
– А дальше вытащила она меня, как миленького, почти за шиворот, из всего этого безобразия.
Несмотря на все мое упрямство, она настояла на том, чтобы позвонить в милицию, и оказалась права. Когда я отдавал деньги, выяснилось, что все подстроил тот самый знакомый, который оставил меня в палатке одного.
– И чем это все закончилось?
– Серегу взяли на месте прямо с деньгами в руках, а я пообещал бабушке, что больше никогда так глупо не поступлю, – закончил рассказ Володя. – Если бы не она, неизвестно, как бы все сложилось. Не могу я к ней опять идти. Ну ты сам посуди, с какими глазами я к ней пойду и что скажу?
– Да-а-а, – глубокомысленно протянул Федя, – неожиданный поворот событий, даже не знаю, что тебе посоветовать.
Переведя взгляд на исчерченный лист, он взял карандаш и стал делать на бумаге какие-то пометки. Наблюдая за другом, Володя видел, как Федор несколько раз перечеркивал написанное, проводя стрелки из одного угла в другой, но, видимо, не найдя лучшего способа, возвращался к прежнему. Наконец, оторвавшись от листа, Федор бросил карандаш в сторону и, со всей серьезностью посмотрев на Володю, твердо проговорил:
– Никакого другого выхода я не вижу. То, что я здесь прикинул, – он кивнул на лист, – осуществимо и вполне реально, но без помощи Евы Юрьевны и еще кого-то четвертого нам этого не осилить. Может, другой выход и есть, но вся беда в том, что нет времени. Завтра первое апреля, последний срок выплаты – пятое, а значит, для того чтобы опередить их хотя бы на шаг, нам нужно действовать срочно. – Посмотрев на обмякшего Вовчика, Федор сочувственно кивнул. – Мне жаль, что так вышло, но другого выхода у нас нет. Или сейчас же мы берем руки в ноги и шагаем к Еве Юрьевне, или они тебя раздавят.
– Как я ей скажу? – глаза Володи расширились от волнения.
– Это не проблема, – философски заметил Федор. Пройдя в прихожую, он сунул ноги в бессменные «трактора» и накинул на плечи потертую по швам кожанку. – Если это единственное, что мешает тебе существовать, то дыши спокойнее: говорить с Евой Юрьевной буду я.
* * *
Лежа на животе и тихо постанывая, Кондратьев старательно изображал смертельно больного человека, в данный момент совершенно непригодного для выяснения чего-либо. Насколько сильна была физическая боль, терзавшая организм неудачливого взломщика уже вторые сутки, и была ли она вообще, сказать было сложно, но страх на его лице был самым что ни на есть натуральным, и, глядя в его страдальческие глаза, заведенные под самый потолок, сомневаться в этом не приходилось.
Против всякого обыкновения на его душещипательные стоны никто не обращал внимания и, как ни странно, не спешил с сочувствиями.
На сострадание отца рассчитывать не приходилось, главным образом потому, что его не было дома. Обивая пороги приемных, Эдуард Викторович пытался наладить хоть какие-то отношения с представителями закона посредством давления вышестоящих инстанций, но, несмотря на его высокое положение, а может быть, именно из-за этого самого положения, важные организации, встречавшие его еще несколько дней назад, словно посланника самого Иисуса Христа, и кланявшиеся почти до земли, отказывались не то что помочь, но даже принять незадачливого просителя.
Почувствовав, что власть уходит из рук Кондратьева, те, кто не смели лишний раз обременить хозяина жизни даже намеком на свои пустяковые, не заслуживающие внимания такого занятого человека, проблемы, будто предчувствуя скорое крушение колосса, заставляли его часами просиживать в душных приемных в надежде на аудиенцию. Понимая, насколько шатко его теперешнее положение, Кондратьев покорно молчал и соглашался с любыми условиями, выставляемыми ему не иначе как в ультимативной форме. Теперь, когда шалость сына перешла грани любой вседозволенности, он был на волосок от того, чтобы единым махом потерять все, за что бился столько лет, не жалея ни времени, ни сил.
К тому, что отец отнесется к его проделке отрицательно, Глеб был готов изначально, но от матери, всегда спокойной и понимающей, подобного отношения к своей звездной персоне он не ожидал. Вместо сострадания к тяжело больному человеку, вместо понимания к нашалившему ребенку он впервые в жизни встретился с такой глухой стеной неодобрения, что гнев отца был просто цветочками по сравнению с тем презрением, на которое оказалась способной мать.
Бессильно опустив руки, она часами бродила из угла в угол, через каждые несколько секунд бросая взгляды на молчавший мобильник, сиротливо лежавший на резной чугунной полке незажженного камина. Когда показательно-назойливые стоны отпрыска становились чрезмерно требовательными и навязчивыми, она бросала на Глеба тяжелый обвиняющий взгляд, и от пристального выражения ее глубоких темных глаз Глебу делалось страшно. Заскулив, словно нашкодивший щенок, он боязливо утыкался в подушку и, стараясь не встречаться с матерью глазами, трусливо зажмуривался.
День ото дня обстановка в доме становилась все невыносимее; страх неизвестности, пропитавший каждый уголок квартиры, ощущался настолько реально и явственно, что Глеб, все это время не высовывавший носа из своей комнаты, был готов лезть на стены и орать во весь голос, лишь бы разорвать эту гробовую тишину, накрывшую все живое в доме. Тихое гудение холодильника и монотонное, доводящее до одурения, тиканье секундной стрелки часов сводили его с ума, заставляя прислушиваться не только к шагам на лестнице, но и к собственному дыханию. Доведенный страхом до крайности, он не мог ни есть, ни спать, и даже мысли, звенящие у него в мозгу тонкой порванной струной, не могли зацепиться за что-то конкретное, расплываясь и оседая на предметах и событиях раздваивающейся пеленой гнетущего безразличия.
…Во всей квартире было темно, стертые контуры предметов растворялись в уснувших сырых сумерках. Дверь в комнату родителей была закрыта, но из узенькой щелки вылезал острый желтый язычок света и разрезал бесформенное пространство пустого коридора надвое. Из-за дверей доносились приглушенные голоса, но смысла слов Глебу разобрать не удавалось, поэтому, скатившись с дивана на пол, он с опаской поднялся и, еле передвигая негнущимися от страха ногами, бесшумно вышел из своей комнаты.
Оказавшись в темной тесноте коридора, Глеб сделал несколько неверных шагов и замер. Потом он подошел к комнате родителей и прислушался. Говорил в основном отец, а мать по нескольку раз переспрашивала его об одном и том же.
Несмело заглянув в щель, Глеб увидел, что отец сидит в кресле напротив телевизора, закинув голову и закрыв глаза, а мать, периодически всхлипывая, ладонью вытирает опухшее от слез лицо и, раскачиваясь из стороны в сторону, будто что-то все время отрицая, мелко-мелко трясет головой. Лицо отца было мертвенно-бледным, неживым, восковым в своей страшной неподвижности, и Глебу подумалось, что вот именно таким, застывшим и холодным, он будет лежать в гробу.
Глеб увидел, как шевельнулись пальцы на мертвой руке отца, застывшей на ручке кресла, и от ощущения могильного холода, вдруг подступившего к горлу, он готов был заголосить во всю мочь. Судорожно передернувшись, он впился ладонями в косяк двери и почувствовал, как, вторя нервной дрожи в коленях, его зубы начали выстукивать дробь.
– Перестань хлюпать, – оторвав голову от велюрового покрытия кресла, Кондратьев взглянул на трясущуюся в беззвучной истерике жену, и от голоса отца по всему телу Глеба прошла волна тошноты. – Слезами тут уже не помочь. Большего не сумел бы сделать никто, даже Господь Бог. – В словах отца звучала тоскливая безнадежность.
– Неужели это конец? – губы матери снова задрожали, и припухлые мешки под глазами мелко задергались. – Но ведь он же еще мальчик, у него вся жизнь впереди, – прошептала она, глядя на мужа полными ужаса глазами. – Эдик, подумай хорошенько, ты же всегда мог найти выход, всегда! Мир круглый, ведь должны же остаться друзья, знакомые, хоть кто-нибудь, кто смог бы все это остановить.
– Какие друзья, Томочка, опомнись, о чем ты говоришь? – бескровные губы отца пришли в движение, но на его застывшем лице не дрогнул ни один мускул. – Какие могут быть друзья у политиков?
– Но я же прекрасно помню, как тебя всегда встречали… – цепляясь за соломинку, с надеждой проговорила она.
– Не нужно себя обманывать, Томик, – обреченно произнес Кондратьев. – У политиков друзей не бывает: все его окружение составляют или сторонники, или завистники, причем и те и другие существуют до тех пор, пока ты у руля. Когда, попав в опалу, ты становишься беззащитен и уязвим и от тебя уже ничего не зависит, пропадают и те и другие. И тогда ты физически чувствуешь, как вокруг тебя ширится пустота, и ни один из тех, кто был рядом, из элементарного чувства самосохранения даже не подаст руки.
– Но он же еще совсем мальчишка! – глухо уронила она.
– Ему четырнадцать, – возразил Кондратьев, и восковая рука снова дернулась. – Тамара, совсем скоро наша с тобой жизнь кардинально изменится. После подобной огласки на первых же выборах моя кандидатура не наберет и нескольких десятков голосов, не говоря о необходимом минимуме. То, что на моей карьере поставлен крест, это однозначно, – ровно произнес он, и от его тона Глеба передернуло снова. – Дело даже не в занимаемой должности, Бог с ней, хотя к ее достижению я стремился всю жизнь, дело в том, что нам придется изменить весь образ жизни, перекроив привычный мир по новой.
– А как же Глеб? – слова Тамары Васильевны, повиснув в воздухе, упали в пустоту, и Глеб ощутил, как по его спине забегали мурашки.
– Ему четырнадцать, и с этим ничего поделать нельзя, – повторил Эдуард Викторович.
– Что… с ним… будет? – выдавливая слова, мать посмотрела на отца в упор, но вместо ответа тот опустил глаза. – Сделай же хоть что-нибудь! – ее шепот перешел в хрип, а студенистое лицо покрылось малиновыми пятнами.
– Я сделал все, что было в человеческих силах, – сжался в комок он.
– Значит, все кончено?
– Все, – дернувшись, восковая рука застыла, и Глеб почувствовал, как страшная сила неумолимо потянула его на самое дно вонючего вязкого болота.
* * *
Опустившись на дворы и скверы, черная бархатная драпировка неба укрыла ночной город. В квадратных прорезях плюшевой материи виднелись желтые глаза окон, а высоко-высоко, где нескладное ушко толстой штопальной иглы оставило после себя рваные следы, мерцали желтые точки звезд. Освобождая от своего присутствия мостовые и тротуары, исчезала в тени посеченная паутина асфальтовых трещин; немигающим взглядом таращились на мир провисшие бусы фиолетовых фонарей. Заледенелые к ночи, тонкие корочки луж напоминали сморщенные полиэтиленовые пакеты, с шуршанием похрустывающие под ногами запоздалых прохожих.
– Это же надо было нам так сподобиться! – Артем удивленно вскинул брови и, посмотрев на шагавшего рядом Дмитрия, засмеялся. – Нет, скажи честно, у тебя что, другого времени не нашлось? Я могу понять, когда люди на пару идут в парк попить пивка, но синхронно свататься – это, ты уж извини, самое натуральное отклонение.
– Ты не очень-то крылья расправляй, все-таки с тестем разговариваешь, – с важностью отозвался Дмитрий. Прислушиваясь к звуку собственных шагов, эхом отдававшихся в пустынном дворе, он до сих пор не мог до конца осознать, что его мечта исполнилась.
– Подумаешь, тесть – некуда присесть! – ехидно отозвался Артем. Поднеся часы поближе к лицу, он присмотрелся к циферблату, подсвеченному зеленоватым огоньком. – Пяти часов не прошло, как его в звании повысили, а он уже дедовщину развел.
– Смотри у меня, – пригрозил Дмитрий, – будешь со мной так неуважительно разговаривать, я теще расскажу, как ты на нее спорил, она тебя быстро к ногтю прижмет.
– Зачем же семейные отношения начинать с такого экстрима? – глаза Артема основательно округлились. – А как же, Дим, мужская солидарность и все такое прочее?
– Ага-а-а, – протянул Меркулов, – вспомнила бабка, как девкой была. Очухался? А где, спрашивается, была твоя мужская солидарность, когда ты меня со своим спором в угол загонял, спала? – и его глаза, прищурившись, сложились в две узкие хитрющие щелочки.
– Ох и мстительный же ты, Меркулов! – с наигранной дрожью в голосе произнес Обручев. Если бы не боязнь показаться смешным или, того хуже, перебудить всю округу, он набрал бы в грудь побольше воздуха и закричал от переполнявшей его радости. Так хорошо ему не было очень давно. Глядя на корявые стволы почерневших от влаги лип, Артем испытывал ни с чем не сравнимое чувство умиротворенности и по-детски наивного умиления.
Часть двора была неосвещена, и там, куда не дотягивался отбрасываемый фонарем полукруг света, тьма была такой густой и плотной, что, протянув ладонь, можно было ощутить ее скользкую влажную студенистость. Умаявшись за день, ветер уснул, и в воздухе, неподвижно застывшем над проседью осевших сугробов, повис едва уловимый запах земли.
– Никакой я не мстительный, – улыбаясь своим мыслям, проговорил Дмитрий. – Но посуди сам: терпеть твои выходки пять лет в институте, потом работать вместе и под финал всего сделаться родственниками, это ж какое ангельское надо иметь терпение, чтобы все это вынести и не пикнуть?
– В качестве отступного могу пообещать тебе внука, – смиренно опустив глаза, предложил Артем.
– Чего ты мне можешь пообещать? – от неожиданности Дмитрий даже замедлил шаги.
– Прости, не подумал, что почетное звание деда может произвести на тебя такое впечатление, – мило извинился Обручев. – Или тебе больше хочется внучку? В принципе, это грамотно. Говорят, после сорока мужчины становятся мудрее и начинают понимать, что дочки и внучки – гораздо более выгодное вложение в собственную старость.
– После сорока набираются ума далеко не все, – не остался в долгу Меркулов. – Что касается тебя, Артем, то тебе подобная перспектива не грозит и после шестидесяти.
– Если будешь так важничать, я пожалуюсь на тебя теще, – перешел в наступление тот.
– В таком случае мне придется, заметь, исключительно в качестве отца и главы семьи, открыть на многое глаза не только жене, но и дочери, – не задумываясь, парировал Дмитрий.
– А Голубев-то наш до сих пор пребывает в святой уверенности, что хотя бы с одного из нас получит свои законные дивиденды, – вдруг ни с того ни с сего рассмеялся Артем.
Одно за другим гасли окна и звезды, видимо, кто-то, сидящий за дырявым бархатным занавесом, зашивал образовавшиеся по недогляду прорехи. Под ногами похрустывали тонкие пленочки слабенького льда, уснувший город молчал, и только раскосые глаза всевидящих фонарей, понимающе жмурясь, разбрасывали во тьму золотые усики света.
* * *
Если бы человечество могло изобрести устройство, безликое и неподкупное, фиксирующее самые читаемые тексты прошлого и настоящего, то, скорее всего, парадоксальные результаты итогов повергли бы всех аналитиков в состояние, близкое к шоковому. Ни многотомные рафинированные страницы сериалов, ни строгие главы суровых классиков не смогли бы тягаться с простыми лаконичными строчками этикеток парфюмерии и бытовой химии, присутствующих в каждом доме без исключения и составляющих предмет интереса всех тех, у кого совершенно неожиданно образовался свободный временной промежуток, вынуждающий таковых к его добровольно-принудительному применению.
Находясь в кабинете, используемом, как правило, индивидуально, Анатолий изучал упаковку баллона воздухоочистителя. Он рассматривал аляпистую картинку экзотических цветов и набирался знаний о мерах предосторожности при работе с распылителем, данных для особо одаренных на четырех языках одновременно, когда в квартире Евы Юрьевны позвонили в дверь.
Само помещение совмещенного с ванной санузла было относительно просторным, но дверь открывалась наружу и перегораживала узкое пространство коридора почти полностью. Она разрезала полтора квадратных метра площади на две маленьких клетушки и замуровывала входящего в квартиру или выходящего из нее окончательно и бесповоротно. Гора всяческих вещей, круглогодично собиравших пыль на вешалке, также не располагала к поспешному бегству из добровольного заточения. Поняв, что, независимо от желания, покинуть место в тронном зале ему удастся только после того как освободится коридор, Анатолий поставил красочное чтиво обратно на полку и, поскольку встреча гостей не планировалась, постарался прислушаться к голосам.
Дивная планировка однокомнатной хрущевской квартиры была не единственным «достоинством», прилагающимся к стандартным квадратным метрам площади, выделенным на душу населения; гораздо более интересной особенностью была потрясающая, почти стопроцентная слышимость, позволяющая при наличии перегородок быть в курсе всего, что происходило не только в собственной квартире, но и у соседей. Конечно, во времена строительства этих сказочных сооружений у простого советского гражданина не было таких секретов, которые он вынужден был бы скрывать от своих сограждан за семью замками, но шум сливающейся воды, как и другие посторонние звуки, отчетливо слышимые в кухне, во все времена не могли служить достойным фоном не только романтического ужина при свечах, но и элементарной трапезы.
До слуха Анатолия донесся металлический щелчок дверной «собачки». Не услышав стандартного «кто там», Анатолий крайне удивился и, покосившись на облупившийся, давно не мытый косяк ванной, сделал вывод, что стоявший за дверью был хорошо известен матери, потому что непредусмотрительность и безалаберность никогда не были чертами характера практичной и рассудительной Евы Юрьевны.
Первых слов Анатолий разобрать не смог, но то, что гость был не один, сомнений не вызывало.
– Боже мой, каким ветром вас занесло? – Анатолий услышал, как мать крепко поцеловала одного из них, и по ее интонации определил, что приход неизвестных доставил ей большую радость.
– Здравствуйте, Ева Юрьевна! – голос был молодым и, несомненно, знакомым, но кто это мог быть, Анатолий пока не понял. Второй, по всей видимости, все еще находящийся в объятиях старой леди, буркнул что-то нечленораздельное, и по тому, что наступила секундная заминка, стало ясно, что визитеров двое.
– Как здорово, что вы пришли, раздевайтесь, тапочки под вешалкой, и проходите, а я поставлю чайник, – шлепанцы Евы Юрьевны прошаркали на кухню, а двое в прихожей заговорили между собой шепотом.
– Зря мы пришли, только бабку расстраивать, – почти прошептал один. Напрягая слух, Анатолий почти прилип ухом к тонкой двери, но шепот отвечавшего был настолько тих, что разобрать удалось не все.
– …сила воли… другого выхода?.. кто-то третий… – Анатолий пытался уловить и состыковать между собой странные обрывки фраз, но ему это плохо удавалось. Если бы он вышел из своего укрытия сразу после звонка или как-то обозначил свое присутствие в доме чуть раньше, то сейчас ему не пришлось бы выгибаться дугой, стараясь распознать голоса шептавшихся за дверью.
– Бабуль, а где войлочные тапки? – голос Володи прозвучал настолько неожиданно, что Анатолий буквально замер, боясь вздохнуть и проклиная место своей дислокации, не позволяющее встретиться с сыном достойно.
Опустив глаза к стареньким растрескавшимся кафельным плиточкам пола, он с ужасом обнаружил, что тапочки, о которых шла речь, стоят в полуметре от его носа. Представив, какой последует ответ, Анатолий приготовился к позору. То, что с сыном они обязательно встретятся, Анатолий знал наверняка, но такой встречи он не предполагал.
– Бабуль! – голос Володи зазвучал громче, и лицо Анатолия стало напоминать размоченный в кипятке лежалый сухофрукт. Решив, что пора выходить из нелепой ситуации, в которую он случайно попал, Анатолий встал, но в этот момент из кухни раздался спасительный голос матери:
– Вовчик, сделай милость, наклонись, под вешалкой стоят три пары шлепанцев, я думаю, какие-то из них твоему другу должны подойти.
– Федь, полезай сам, я не знаю, какие тебе будут в самый раз, – негромко сказал Володя, и рука Анатолия отдернулась от дверной ручки.
– Если твоя бабуля собирается жить, пока не сносит все, что у нее висит в прихожей, то вопрос вечного жида разрешится с ее помощью раз и навсегда, – голос Федора напряженно замер, видимо, наклонившись, тот пытался выудить подходящую пару.
– Сам ты жид, – беззлобно ответил Володя, – вот я сейчас ей твои слова передам, тогда посмотрим, какой национальности станешь ты.
– Вовчик, называй меня хоть наивной чукотской девочкой, только не сдавай Еве Юрьевне… – ребята прошли на кухню, а Анатолий, ругая себя за малодушие, стоял в ванной и раздумывал, как ему быть дальше.
– Садитесь, – Анатолий услышал, как звякнули о края блюдец витые мельхиоровые ложечки, и, будто перед ним не было облезлой крашеной стены цвета темной охры, почувствовал, как чашки наполнились свежезаваренным чаем.
В том, что за четырнадцать лет сын так и не привык мыть руки перед едой, вина Анатолия, бесспорно, была, и вот теперь, стоя перед запертой дверью ванной комнаты, он не знал, радоваться этому обстоятельству или, наоборот, огорчаться. Здравый смысл подсказывал Нестерову открыть дверь и прекратить эту комедию, но интуитивно он противился этому.
– Вам клубничное? – дверка холодильника хлопнула, и Анатолий услышал, как зашуршала грубая пергаментная бумага, заменявшая Еве Юрьевне полиэтиленовые крышки. Может быть, по этой причине, а может, и по другой, варенье старой леди никогда не засахаривалось и не покрывалось плесенью, стой оно хоть несколько зим.
– Давно я тебя не видела, Вовчик, что-то случилось? – голос старой леди был глуховат, но каждое слово слышалось в ванной вполне отчетливо.
– Да нет, бабуль… – Анатолию показалось, что голос Володи дрогнул, и он подумал, что, наверное, сын говорит неправду.
– Ева Юрьевна! – Шумилин звякнул донышком чашки, но добавить ничего не успел.
– Бабуль, Федор любит сладкий, – перебил Володя, и Анатолий уловил в его голосе панические нотки.
– Сахару? – звук пододвигаемой сахарницы был почти неразличим, и только напряжение помогло Нестерову уловить этот едва заметный звук.
– Спасибо, не нужно, – решительно проговорил Федор, и Анатолий представил, как рыжие брови Володиного друга смыкаются над самой переносицей. – Ева Юрьевна, мы пришли вовсе не чай пить, нам необходима ваша помощь.
– Что случилось? – на кухне наступила неловкая пауза, и Анатолию стало слышно, как серебряные часы в большой комнате отбивают очередную четверть.
– Володя рассказывал, как несколько месяцев назад вы помогли ему в истории с палаточным долгом, – раздельно начал Шумилин.
– Что еще за история? – едва шевеля губами, изумился Анатолий.
– Сумма, о которой тогда шла речь, была большой, но, честно сказать, умещающейся в какие-то рамки, – твердо продолжал он.








