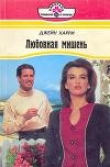Текст книги "Рыцарство (СИ)"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
-Ты можешь ходить по навозу, а потом – давить виноградные гроздья. Грязь твоих ног будет уничтожена брожением виноградного сусла, всё перебродит в сладость вина. Так и мы... в нас много дерьма. Но дай нам Бог перебродить Его благодатью и очиститься. Я чувствую, в самые горькие минуты чувствую в себе это брожение. Бог не оставляет меня вразумлениями. Я понял и больше. Горе тебе, если ты лишен вразумлений от Него, тогда ты – подлинно погибшее дитя.
Чентурионе смерил друга долгим взглядом. Он не был лишен вразумлений, но чувствовал себя погибшим.
'Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, – и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Простираю к Тебе руки мои, душа моя – к Тебе, как жаждущая земля. Услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, ибо я Твой раб...' – Феличиано повторял слова царя-псалмопевца, с верой в Господа, но, не имея веры в помощь Его, ибо не считал уже себя достойным помощи. Дух его изнемог, он гнал от себя дурные мысли, но чувствовал глубокое утомление и гнетущую тяжесть на сердце. На душе была ночь.
За что? Феличиано мучительно искал ответ. Он был послушным сыном, и никогда не выходил из воли отца, пока тот был жив, уважал и ценил его за непреклонную силу духа, глубокий ум и огромный опыт. Он мечтал уподобиться отцу и жадно впитывал отцовские слова, скупые, умные, глубокие. Умение управлять, знание подводных камней политики, основанные на понимании сокровенного в людских душах – всему этому он был обязан Амброджо Чентурионе. Он был верен в дружбе, не нарушал рыцарского кодекса. Не предавал, ни разу не дрогнул в бою. За что же он наказан, за что проклят? Он не понимал жестокости Провидения. Все, что он мог поставить себе в вину – распутные похождения молодости, но кто не грешен в блуде? Феличиано не хотел открывать Раймондо причины своей сокровенной скорби, но неожиданно спросил.
– Я не прелюбодей, женам не изменял. Но ты не думаешь, Раймондо, что смерть брата – кара мне за распутство? За блуд молодости?
-Для живущего в грязи и распутстве слова 'смертный грех' пусты, блудник, растлевая свою плоть развратом, теряет благодать Духа Божьего. Тяжесть блуда в помрачении ума, потери смысла бытийного, подверженности духу уныния и печали, в неверии в чистую любовь, это цинизм и опустошение, мертвенность сердца к страданиям ближних... Законченные блудники в бою трусы. О тебе ли это?
Феличиано молчал, опустив голову. Кое-что было о нём.
-Наказание за распутство в бесшабашные годы – отсутствие мира в семье. 'Злая жена, – учит нас премудрый царь Соломон, – достается мужу за грехи его молодости'
Феличиано вздрогнул, но промолчал.
– Большинство блудников обречены на унылое одиночество, но хуже то, что развратник забывает Господа. Но ты – молишься и помнишь Бога. Кайся в грехах юности и не повторяй их – и Господь сжалится над тобой.
Феличиано молчал, потом тихо спросил.
-Но почему? Мы гуляли вместе с Энрико. Почему за одни и те же прегрешения...
-Неисповедимы пути Господни, но Энрико, поверь, тошнит от его былых грехов. Но мудрее всех вас был Амадео. И награда его за целомудрие, за хранение чистоты до брака – ясность ума и мирное сердце, мудрое слово, способность любить, единомыслие в браке, здоровые дети, счастье в призвании, долголетие, добрая слава при жизни и любовь потомства.
Феличиано кусал губы и умолкал.
Неделю спустя под вечер, вернувшись от Энрико, с которым обсудил заботы дня святого Мартина, Чентурионе стоял у лестничного подъема на сторожевую башню. С горестью вдохнул становящийся уже прохладным ноябрьский воздух. Вздохнул. Он не любил зиму. Поднялся по ступеням наверх – несколько минут оглядывал город, суетливую рыночную площадь, снующих торговцев, монахов, горожан. Взгляд его ушёл вдаль, к тонущим в туманной дымке очертаниям мужского монастыря, затронул абрис соседних гор и ушел в небо. Друзья женаты, Амадео и Энрико ждут потомства, и только он, бесплодная смоковница, мертв и пуст. Это была не зависть – Чентурионе не был завистлив. Это был нестерпимый и унижающий помысел жалости к себе, так истомивший душу, что Чентурионе едва не завыл. 'Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены и душа моя потрясена. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих...'
Но небеса молчали.
Феличиано думал над словами Раймондо. Он блудил, но не считал себя распутником, ибо не интересовался женщинами и не любил их... Слова 'смертный грех' пустыми для него не были, он не замечал в себе помрачения ума, но все остальное... 'Потеря смысла бытийного, подверженность духу уныния и печали, неверие в чистую любовь, цинизм и опустошение, мертвенность сердца к страданиям ближних...' Да, он не знал, зачем живет, ничего не замечал, был погружен в печаль, тоска сжимала сердце. Он не мог быть один – наедине с этой невыносимой тяготой, ну, а про какую-то там любовь, да еще чистую, что и говорить-то было?
Обречен на унылое одиночество. Сейчас Феличиано уже не думал о брате. Сотни пустых ночей, ночей разврата, вспоминались ему. Они не возбуждали, но отвращали мерзостью, но прошлое не смыть. Слезы раскаяния. Да, они струились по иссохшим щекам, оплакивая погибший род, его одиночество и бесплодие, его горе и муку... 'Господи, утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою....'
Если Раймондо прав, то первым своим врагом был он сам. Не Реканелли. Не Тодерини. Он сам убил свой род.
Ближе к ночи, Чентурионе снова ощутил приступ гнетущей тоски, и вспомнил о наложнице, у которой до этого не был неделю. Феличиано не хотел её. Он обещал Амадео отпустить девку, и не намерен был нарушать слово. Торопливо повернул в коридор, и оказался перед в дверью каморки для челяди графа Амброджо, где сейчас жила Лучия Реканелли.
В последнее время, особенно после разговора с Амадео, Феличиано стал мягче с девкой. Не бил и не обижал, просто спал с ней, ублажая свою похоть. Но Раймондо прав. Ничего уже не изменить, но надо прекратить это. Амадео тоже прав. Надо сохранять... нет, уже не благородство, но остатки его. Завтра он отправит её из замка.
Чентурионе вынул ключ и провернул его в замке.
...Сегодня девка была бледна, под глазами её темнели круги, она зябко куталась в старое истрёпанное одеяло. Чентурионе неодобрительно смотрел на неё, потом удивлённо замер – девка, торопливо вскочив, выскочила в соседнюю комнату. Казалось, ее мутило. Вернувшись, пошатываясь, подошла к камину и снова села перед ним. Феличиано понял, что девке дурно, и это раздосадовало его. Но не ударил ее. Подошёл к камину и поглядел на её лицо. Оно было бледным и отёчным.
-Что с тобой? Заболела?
Девка подняла на него больные глаза и чуть заметно сжалась, ожидая его удара. В коридоре послышались отчетливые, чуть шаркающие шаги, но Чентурионе знал, что сюда никто не зайдет. Однако, раздался скрип дверных петель и на пороге появилась Катарина Пассано. Его кормилица прошла к столу и поставила на него горшок с чем-то, пахнущим лимоном и мятой. Чино поморщился: старуха брала на себя слишком уж много. Могла бы и постучать. Однако, препираться с ней Феличиано не любил – себе было дороже. Впрочем, чело его тут же и разгладилось: кормилица могла дать дельный совет. Девка явно больна – самое время от неё избавиться.
-Слушай, Катарина, я не вижу причин ей тут оставаться. Я внесу за нее залог в монастырь, и хочу, чтобы ты отвезла её к кармелиткам сразу после праздника, скажи Луиджи Борго, чтобы он...– Феличиано осёкся, разглядев вдруг лицо старухи.
Катарина медленно подходила к нему, и лицо ее исказилось до карнавальной маски злой горгульи.
-Ты! Выродок, хоть и появившийся из господского чрева! – взвизгнула она, подлинно испугав Феличиано, который даже попятился от неё в испуге, – мерзавец без чести и совести, Бога забывший! Какой монастырь? Кому она непраздная в монастыре нужна? Обрюхатил, подонок, девку, а теперь избавиться от выблядка хочешь? Ловко! Да только честные люди так не поступают! Будь проклят день, когда я приложила тебя к груди! Твою мать никто в монастырь не отсылал! А этот теперь свое дите на произвол судьбы выкинуть хочет...
Катарина остановилась.
Феличиано Чентурионе не слушал её. Белый, с остановившимся взглядом, он не слышал вообще ничего. Комната плыла перед глазами, плыли какие-то путанные мысли, обрывочные и бессмысленные, как туманная рвань над болотом, плыл город, видимый с высоты башни, плыло лицо разозленной Катарины и силуэт сжавшейся в рваном одеяле девки у камина...
Потом его накрыла ночь.
...очнулся он на постели. При падении Феличиано ударился затылком о полог кровати и свез кожу на руке выше запястья. Затылок ныл и стучало в висках. Из-за полога на него испуганно косилась девка Реканелли, а Катарина прикладывала к его голове тряпку, пахнущую отваром чабреца и мяты. Феличиано помнил, что было что-то... что-то страшное... нет, важное, невозможное, потрясшее, что это было?
-Помоги мне, Лучия, – бросила старуха.
Девка бросилась к Катарине, и прозвучавший старушечий голос вдруг вернул Феличиано Чентурионе утраченное понимание. 'Непраздная', 'обрюхатил', 'своё дите...' – вспомнил он слова старухи. Они не допускали двух толкований. Чентурионе рывком поднялся и тут же повалился навзничь – голова снова закружилась, в глазах потемнело.
-Чего ты дергаешься, дурень, лежи, – голос Катарины утратил теперь резкость. Она любила Феличиано, как сына, и неожиданный обморок Чентурионе испугал старуху: такого с ним отродясь не случалось.
Чентурионе, подчиняясь не словам кормилицы, но своей слабости, вдруг обессилевшей его, лежал теперь тихо. Он думал. Предположить, что проклятая девка могла понести не от него, было нелепо. Он взял её чистой – это Феличиано помнил. После, запертая здесь, в верхних покоях, в комнатах для прислуги графа Амброджо, она не выходила никуда – ключ был только у него и у Катарины, которая иногда выводила девку гулять в палисадник – там же, на верхнем этаже. Чентурионе поднял глаза на Лучию Реканелли, снова присевшую у камина. Спросить у Катарины, кто еще из мужчин мог зайти к Лучии? Феличиано недоуменно заморгал. Вздор. Сама Катарина твердо уверена, что это его ребенок.
Его ребенок... его ребенок...
Феличиано осторожно привстал, почувствовав, что дышать стало легче. Его ребенок... его ребенок... Мысли двоились. Помысел о том, что утроба этой ненавистной девки, наполненная им, зачала, был неприятным и даже пугающим. Он четыре месяца сливал туда свою ненависть, ярость и злобу, непереносимое горе и скорбную муку – и она понесла? Понесла его ребенка? Он... будет отцом? Как же это? Господь сжалился над ним? Дитя ненависти и распутства, мести и гнева?
Его то морозило, то бросало в жар.
Всё ещё ощущая мутную слабость, Феличиано порадовался, что свидетелей его обморока не было, ибо Катарину и девку в расчёт не брал. Он снова вернулся мыслями к тому, что облегчало дыхание и, хоть и до конца еще не осмыслялось, несло в себе почти невозможную радость. Его дитя... его ребенок... Наследник.
Теперь граф Феличиано Чентурионе сполз с кровати и осторожно поднялся во весь рост. Чуть шатался. Пол плясал под ногами, но глаз уже четко различал полог кровати и камин в комнате.
-Это у меня с прошлой охоты...голова порой кружится, – с непонятной улыбкой неожиданно мягко пояснил он Катарине, – но что ты говорила-то? Что беременна девка, что ли? – Кормилица смерила его недоумевающим взглядом. Что-то тут было не то, но что – старуха не понимала. Смиренный, вкрадчивый голос Феличиано был непривычен ей.– Ну, и чего кричать-то? – между тем, переведя дыхание, беззлобно продолжал граф, – я же не знал...
Он, всё ещё пошатываясь, подошёл к Лучии Реканелли – бледной и испуганной. Она боялась графа до дрожи, полагала, что, узнав о её беременности, он рассердится и поселит её в том же подвале с крысой, где ей уже пришлось ночевать. Его лицо удивило Лучию: на нём вдруг проступила улыбка, которая зажгла его глаза, те, что всё время, сколько она его знала, были то гневными, то тусклыми и мёртвыми. Феличиано Чентурионе не гневался, поняла она, он обрадовался.
Его следующие слова снова были обращены к Катарине. В них проступили властность и повелительная деспотичность, но смысл был кроток.
-Немедленно иди вниз, пришли служанок в покои Франчески. Поставить там ванну, приносить горячую воду утром и вечером, постелить шелковые простыни. Еда с моего стола. Поторопись, что смотришь-то?
Старуха и вправду смотрела на него в ошарашенном недоумении. За последние четыре месяца она пригляделась к несчастной девице и прониклась к ней жалостью, вот уж кто попал, как кура в ощип, совершенно невинно. Девчонка была милой и беззлобной, нрава кроткого и смиренного. И тем гнуснее был поступок Чино. Беременность Лучии усугубила её жалость, приказ же Чентурионе избавиться от непраздной девицы был совсем уж нехристианским, безжалостным и циничным. Но сейчас Катарина была подлинно удивлена. Что с Чентурионе? Поселить девчонку в покоях графини?
Однако, ослушаться не посмела.
Едва она скрылась за дверью, Чентурионе приблизился к Лучии. Он по-прежнему улыбался, и она зачарованно смотрела на его необычайно похорошевшее лицо. Он потянул её к постели, почти насильно усадил у полога, отбросил рваное одеяло, распахнул платье. Её все это время мутило, а при мысли, что он снова овладеет ею, становилось плохо, но он только обнял её за плечи и положил ладонь на живот. Она видела, что он заворожённо гладит его и думает совсем о другом. Сам Феличиано ощутил, что рука его подлинно оперлась на жизнь, хоть живот был совсем небольшим, но он не был привычно плоским и мягким. Там было чадо.
Он заставил ее лечь на подушку и, ринувшись к камину, схватил канделарий. Поставил у полога кровати, снова положил руки на живот. Да, он округлился. Совсем чуть-чуть, но округлился. Был твердым и округлым. О, Небо! Его семя дало плод. Теперь он сел рядом с нею, хотел было снова положить руку на живот, но отдернул её, смутившись.
Оживлённо спросил.
-Что бы ты хотела на ужин? Что ты любишь?
Лучия изумлённо посмотрела на Чентурионе. С чего бы ему об этом спрашивать? К тому же в последние две недели ей вообще ничего не хотелось – постоянно тошнило. Однако, если он улыбается... Лучия робко попросила принести ей книги. Ей казалось, что если удастся увлечься чтением – дурнота отступит. Феличиано снова улыбнулся. Книги? Конечно, ей принесут. Может быть, она хочет увидеться с подругами – с Чечилией, Делией и Бьянкой? По лицу Лучии пробежала тень. Она хотела бы увидеть подруг, но слишком многое их теперь разделяло – гибель Челестино, ее ничтожное положение... Чечилия писала ей, но Лучия не нашла слов для ответа. Ее родные погубили брата Чечилии, брат Чечилии погубил её саму... Все было, наверное, справедливо, но от этой справедливости болело сердце и спирало дыхание. О чём им теперь говорить? Она отрицательно покачала головой.
Он не возразил.
Тут снова раздались шаги Катарины. Покои были готовы, ванну принесли, постель перестелили. Сияющий Феличиано поблагодарил старуху и отдал новое распоряжение – его ужин накрыть в покоях Франчески, принести вина и сладостей.
Сам Феличиано, брезгливо откинув рваное одеяло, в которое опять пыталась укутаться Лучия, осторожно набросил на неё свой дорогой, подбитый мехом плащ, и повёл по лестнице вниз. Они миновали несколько коридоров, проходя мимо постов охраны, пока Чентурионе не распахнул перед ней широкие двери весьма тонкой резьбы, почти кружевные.
Лучия ахнула. Выросшая в богатом доме, она привыкла к удобствам, но сейчас оказалась среди роскоши: ноги её утонули в дорогом восточном ковре, сверкали стены, отделанные драгоценными мозаичными плитами и росписями художников, в огромном камине полыхали дрова, мебель резного дуба была удобна и очень красива. После каморки, где ей пришлось коротать дни последние месяцы, это была сказка. Феличиано подвёл Лучию к сундукам, звеня ключами, подбирал, проворачивал их в замках, распахивал. Там был дорогие платья, отороченные мехами и украшенные вышивками, шелка и бархат, огромная шкатулка украшений, целый сундук обуви.
– Это все твоё. Утром и вечером тебе будут наполнять ванну, я приставлю тебе двух служанок. Ты будешь гулять в саду.
Тут появились слуги, и уставили стол аппетитнейшими яствами, но ела Лучия совсем мало, опасаясь тошноты. Она ничего не понимала, но от новых запахов и волнения ей было так плохо, что она слабо соображала. Катарина Пассано тоже недоуменно наблюдала за прихотями Феличиано Чентурионе, едва ли не силой заставлявшего Лучию отведать кусочек крольчатины или съесть несколько ложек отменного майского меда. Сам Феличиано остался в покоях, ставших покоями Лучии, на ночь. Лучия поморщилась в темноте, ожидая, что граф все же возжелает её, но Феличиано, заботливо укутав её пуховым одеялом, осторожно лег рядом и обнял – сзади, так, чтобы под его горячей ладонью был её живот. Как ни странно, его рука не мешала ей, но успокаивала и согревала, дурнота постепенно прошла и Лучия вскоре уснула.
Слушая мерное дыхание беременной, Феличиано никак не мог осмыслить, уяснить и осознать сладостную перемену. Двенадцать долгих лет он мечтал о наследнике, обеспечивавшем преемственность и незыблемость рода Чентурионе, но ему было отказано в этом. Он не любил Франческу, свою первую жену, просто женился, подчиняясь воле отца, однако, хотел от нее детей. Но их ночи были бесплодны. Ни одна селянка по бесшабашной юности не понесла от него. Анджелина тоже не понесла, он, понимая уже, что ему не дано сотворить плод любви, бесновался. Крест бесплодия был на нём, на том, кому надлежало продлить свой род, а его семя не давало всхода. Отнята была и последняя надежда продлить имя семенем брата.
И вот теперь... Феличиано снова поморщился. Отродье убийц, людей без чести, ветвь ненавидимого клана, отрасль Реканелли... Он брезгливо презирал и ненавидел эту девку, а видя её слабость и смирение, раздражался до брезгливости. Впрочем, всё же – до брезгливости к себе, ибо ощущал, что творит непотребное, но ненависть клокотала в нём и слепила. Да, он был груб и жесток с девкой. Она возбуждала плоть, но сердце его оставалось ледяным. И вот ныне там, в проклятой утробе – его чадо, зачатое в ненависти и плотской похоти, похоти самой низкой и злобной? Феличиано вздохнул.
Он не любил чувствовать себя виноватым, а кто любит?
Впрочем, всё это были пустяки, ибо главное – оно, его дитя, его чадо, продолжение его рода было здесь, под его ладонью. Феличиано растерянно задумался – как же он забыл спросить Катарину о родах? Когда ей рожать? Ну, ничего – завтра узнает... Он с ней с Феррагосто, с Успения Богородицы, это середина августа. Когда это случилось? Чентурионе почувствовал, что не уснёт и, осторожно покинув спальню Лучии, побрёл вниз, надеясь встретить Катарину, но той нигде не было.
Чентурионе подошёл к храмовым дверям, отворил их. Внутри был прохладный полумрак, в узкие окна лился холодный лунный свет, лежал на полу белым лилейным крестом. Надгробие брата терялось в тёмном нефе. Ноги Феличиано подкосились, он рухнул на плиты пола.
'Господи! Прости и пощади меня, грешного! Прости мне дерзостную юность мою, прости все мерзкие помыслы мои, прости мне искушения и прегрешения мои, ибо преступал в гневе и раздражении, в гордыне и суетности заповеди Твои.
Ты простил меня? Сколько дней я проклинал час рождения моего – земли неплодородной, бесплодной смоковницы, ветви усыхающей? И Ты сжалился надо мной? Не искушаюсь ли я и ныне? От Тебя ли мне сия несказанная радость? Ты ли послал мне чадо, когда и молитвы мои о том смолкли? Как же это? Едва смирился я со смертью брата моего и концом рода моего – и вот утроба проклятого клана, погубившего мой род, плодоносит мне.
Что это? Искушение? Нет!! Спаси меня от такого искуса, ибо нет сил у меня обмануться в такой надежде... Это ли вразумление, о коем говорил мне Романо? Что должен понять, я кроме неизреченного милосердия Твоего ко мне? Ведь это...милость Твоя, нежданная и негаданная, да? Не отними! Здесь я господин, но кто я пред Тобою? Что я в своем ничтожестве могу дать Тебе? Чем возблагодарить? Жертва Богу – дух сокрушен, но мой дух в трепетном ликовании...
Но не отними от меня милость Твою, пребудь со мною, наставь, вразуми, просвети...'
Глава 26.
Мессир Ормани наконец убедился в том, что Треклятый Лис не является ни нечистой силой, ни привидением, ни розыгрышем челяди. Он увидел его своими глазами. Да, это был огромный лис чёрного цвета, с бурыми подпалинами боков, поджарый, наглый, разбойничьего вида. Главный ловчий подстерёг его на рассвете и обомлел. Вор легко вскарабкался по запертой двери курятника и проскочил в щель над дверью, откуда, переполошив кур, выскочил минуту спустя, держа в зубах петуха. Ормани обмер: зверь в три прыжка миновал двор, подпрыгнув, вскочил на бочку с дождевой водой, которая была прикрыта доской, откуда заскочил на крышу коровника, пробежал по ней ловчее кошки, сиганул на выступ крепостной стены, перемахнул через перила ограждения, огляделся и, промчавшись по стене, исчез, как понял Ормани, спустившись по примыкавшему к стене горному кряжу в соседний лесок.
Ормани торжествовал. Конечно, кто бы мог предположить, что животное способно проторить столь необычный путь, но теперь достаточно сдвинуть бочку к стене замка – и вор будет пойман. Северино похвалился Крочиато, что выследил Лиса, и теперь намерен изловить его, Энрико велел челяди убрать бочку.
Однако через два дня из курятника снова исчезла курица.
Ормани замер с открытым ртом посреди двора.
Лучия проснулась поздно. Раньше, к рассвету, когда погасал камин, она просыпалась, замерзая, но теперь пригрелась под пуховым одеялом и не слышала петушиных криков. Открыв глаза, удивлённо оглядела комнату, не понимая, не сон ли это? Но потом события вчерашнего вечера медленно всплыли в памяти. Чентурионе вчера узнал, что она затяжелела, но почему-то совсем не рассердился, а переселил её сюда.
Лучия понимала, что Феличиано Чентурионе, человек страшный, гневный и злой, ненавидит её и мстит ей за убийство её родней своего брата, и она нужна ему только для ублажения его похоти. Понимание, что теперь она станет непригодна для его развратных прихотей, пугало, Лучии казалось, что граф может в гневе убить её или снова запереть в подвал с крысами, и потому скрывала свою беременность от всех, но Катерина догадалась...
И вот, Феличиано Чентурионе нисколько не разгневался... Почему? Как же это?
Лучия поднялась, опустила ноги на пол, и на минуту зажмурилась: ноги утонули в теплом ковре. Комната была жарко натоплена, у камина лежали несколько вязанок дров. В каморке у неё была вязанка на неделю. Стоявший у стены сундук был распахнут, на крышке лежали роскошные платья. Лучия тихо подошла к ним. Ведь... ведь она может взять одно, правда? Ведь он сказал вчера... он сказал, что это все её... принадлежит ей. Ее платье протерлось до дыр. Лучия выбрала просторную синюю симару, раскрыла сундук с обувью. Все пары туфель там были велики ей, падали с ног, её же туфли совсем развалились, но пришлось всё равно надеть их. Тут внутренние двери распахнулись, появились служанки с кувшинами с горячей водой, торопливо наполнили ванну и убежали вниз. Ванна? Ей? Новые служанки бегали вокруг с полотенцами, принесли ароматное персидское мыло, привозимое генуэзскими купцами, кружащие голову благовония. Она четыре месяца до того купалась в бочке с дождевой водой, куда Катерина доливала два кувшина кипятка. Лучия погрузилась в благовонную ванну, точно в парное молоко, снова зажмурилась. Как сладко пахли вымытые волосы! Всё казалось сном.
Граф Чентурионе появился позже, к завтраку, сервированному слугами в покоях Лучии. С рассвета он узнал у Катарины, что девка уже на четвертом месяце, и в конце мая ей рожать. На лице его было вчерашнее выражение – ласковой доброты, необычайно его красившее. Лучия впервые видела Феличиано Чентурионе при дневном солнечном свете, а не в полумраке, как обычно. Он имел светлую чистую кожу, большие карие глаза, высокий лоб и очень резкий, прямой и длинный нос, придававший лицу вид величавый и чуть высокомерный. Его округлый подбородок был рассечен небольшой впадиной, а волосы напоминали львиную гриву.
Сейчас, когда он, улыбнувшись, торопливо встал ей навстречу и осторожно усадил в кресло напротив себя, ничего пугающего в нём не было, это был галантный рыцарь и красивый мужчина. Но Лучия знала его сущность и только боязливо следила за ним глазами. Он же сам наполнил ее бокал яблочным сидром, наложил на блюдо лучшие куски. Лучию постоянно в последние недели мутило от тех объедков, что Катарина приносила для неё с кухни, а теперь запах и аромат лучших яств неожиданно закружил голову. Она почувствовала почти волчий голод и вцепилась зубами в кусочек мяса молодой косули. Руки её затряслись, в глазах потемнело от затопившего ее наслаждения – она не ела мяса долгих четыре месяца.
Чентурионе увидел, что она странно побледнела, испуганно и озабоченно спросил, что с ней? Лучия, боясь вызвать чем-то его раздражение, робко улыбнулась и тихо пробормотала, что мясо очень вкусное.
– Но почему ты так побледнела? Почему руки трясутся?
Она пожала плечами и сказала, что просто давно не ела мяса.
Феличиано вдруг резко дернулся, встал, бесцельно прошёлся по комнате и остановился. Он почти не мог дышать от приступа дурной неловкости. Господи, угораздило же спросить! Торопливо подошёл к камину и, чтобы скрыть замешательство, подбросил в огонь пару поленьев. Чентурионе стало мучительно стыдно – до тошноты, потом его накрыла волна злости. Он сам распорядился выдавать девке только арестантский паёк, но сейчас от мысли, что его младенец в её утробе четыре месяца голодал, его проморозило, он затрясся истеричной дрожью.
Но винить было некого.
Мерзавец, дал он себе веское определение, потом смирил дыхание, снова сел к столу. Теперь он тоже при солнечном свете разглядел Лучию Реканелли, отметил круги под глазами, мертвенную худобу, просвечивающуюся кожу на скулах. Девчонка очень хотела есть, но старалась откусывать мясо маленькими кусочками и с жадным наслаждением жевала. Чентурионе снова вскочил и торопливо выскочил в коридор. Его душили стыд и ярость, навернувшиеся слезами на глазах и проступившие спёртым дыханием. Мразь, тварь, гадина... Как ты мог? Он ненавидел себя. Нервно, разъяренным львом метался по коридору, в ярости бил кулаком по каменной кладке и выл. Подонок... 'Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой предо мною...Прости меня, Господи, я стократно возмещу содеянное мною в гневе и безумии сердца моего... Помилуй мя...'
Успокаивался медленно, ощущая, как судорожно клокочет в горле кровавый спазм и содрогается грудь.
Лучия не заметила волнения графа – она была поглощена едой. Стол был уставлен деликатесами, но кое-что, что она раньше в доме отца любила, теперь казалось ужасным. Но учуяв носом запах рыбы, она с жадностью подтянула к себе блюдо и набросилась на хвост лосося, потом съела, жмурясь от удовольствия, грибное рагу. Тут она неожиданно почувствовала, что снова хочет спать и, поднявшись, юркнула за полог кровати, свернулась калачиком и уснула.
Она не слышала, как слуги унесли посуду на кухню и не видела графа Чентурионе, смертельно бледного, заглянувшего за полог кровати и окинувшего ее, спящую, больным взглядом. Потом появился Мартино Претти и почтительно выслушал указания графа о фаршированной рыбе, свинине на косточке с овощами, жарком из красной дичи в глиняных горшочках и говяжьей вырезке по-царски в кисло-сладком соусе из слив и изюма, кои надлежало подать на обед. На ужин граф затребовал рагу из кролика, запеченный окорок с фаршированными морковью и печеными яблоками и форель с тыквенно-желудевыми драниками. Мед, фрукты, салаты. Все надлежало подать в эту же комнату.
Повар поклонился.
Чентурионе сгорбился на стуле у стола. Мысль, что из-за него его дитя недоедало, всё ещё душила чёрным гневом. Он никак не мог успокоиться, прийти в себя. Глядел на тихо спящую Лучию и трепетал. Сволочь, мерзавец. Арестантский паёк... Его снова затрясло. Он ещё попрекал её черешней! Чентурионе снова вскочил, сатанинская злость сотрясла его. Сорвать её было не на ком – виноват был сам. Он до крови закусил губу, выскочил в коридор, яростно расшиб кулак об стену. Господи!! Прости меня, мерзавца, что же я творил-то... 'А, что, если бы не ребёнок, ты бы этого не понял?' Этот тихий помысел пронёсся в нём и совсем изнурил. Гнев растаял, перетёк в вязкое бессилие.
Да, он оправдывал свою жестокость к девчонке жестокостью к нему самому, но вот – эта жестокость наотмашь снова била по нему, по самому главному, самому дорогому... 'А Я говорю вам – не воздавайте злом за зло...' Но он, горделивый и озлобленный негодяй, считал себя вправе плевать на заповеди Божьи... Мерзавец, мерзавец, мерзавец...
Едва Лучия проснулась, первое, что она увидела, были книги в дорогих переплетах, лежащие в изножии кровати. Граф Чентурионе сидел у камина и смотрел в пламя. Заметив, что она пробудилась, торопливо подошёл к постели, помог ей встать.
– Почему на тебе эти туфли? – обувь Лучии была сильно стоптана. – Я же сказал, что все, что в сундуках – твое.
Лучия робко взглянула на Феличиано Чентурионе и ответила, что обувь в сундуке велика ей и падает с ноги. Она боялась споткнуться. Он засуетился, выглянул в коридор, потребовал от слуги немедленно найти обувщика. Лучия не понимала его. Что с ним случилось? Почему он второй день не уходит от неё? Почему всё время улыбается?