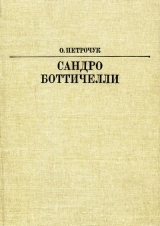
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Но чем могла прельстить дерзающий дух любознательных тосканцев Сикстинская капелла, названная именем первосвященника – яростного врага их прекрасной Флоренции, то и дело открыто с ней воевавшего и даже в дни перемирий не перестававшего тайно интриговать против нее? Тем хотя бы, что капелла создавалась преимущественно руками их земляков – столь непререкаемо высок флорентинский художественный престиж даже в глазах самых отъявленных недругов их города.
Сикстинскую капеллу, огромный продолговатый зал, крытый полуцилиндрическим сводом на парусах, проектировал флорентинский архитектор Джованни Дольчи, оформлял флорентинский скульптор Мино да Фьезоле в процессе строительства, длившегося с 1473 по 1481 г. А 27 октября того же года был подписан контракт с флорентинскими живописцами Сандро Боттичелли, Филиппино Липпи, Доменико Гирландайо и Козимо Росселли. Пьетро ди Кристофоро Вануччи, прозванный Перуджино, правда, был родом из Умбрии, но в свое время, посещая живописную «академию» Верроккио, многие годы работал во Флоренции. Он да Лука Синьорелли из Кортоны были исключениями в нынешней чисто тосканской боттеге.
Пьетро Перуджино, сильный, красивый и грубовато-размашистый в обращении, буйным своим нравом являл удивительный контраст собственной задумчивой живописи. Еще до Флоренции Пьетро работал с самым «четким намерением добиться превосходства» и сам, не дожидаясь посторонних похвал, решительно подписал под автопортретом: «Петр, превосходный перуджинский живописец», с добавлением латинского панегирика:
«Что утеряло искусство, вновь возродил он, рисуя,
То, чего не было в нем, заново он изобрел».
В Сикстинской капелле Пьетро выполнил шесть фресок, из которых сохранились только три. Их отличает налет приятной дремотности, из-за которой изящные ландшафты напоминают прелестный райский пруд, но с несколько застоявшейся водой.
Не менее ярким своеобразием отличался Лука д’Эджидио ди маэстро Вентура ди Синьорелли, также долго вращавшийся во Флоренции в кругу Верроккио и Поллайоло. Богобоязненный и благочестивый уроженец Кортоны был столь же скрытен и сурово сдержан в своих манерах, насколько перуджинец эмоционально распахнут. Зато сумрачным напряжением страстной энергии были полны росписи Синьорелли, в значительной степени взрастившие дарование Буонарроти. В отличие от лирических грез Перуджино и его школы, создавшей тип самых ангельски кротких и простодушных Мадонн, Синьорелли принадлежала иная честь – сотворения впечатляющих образов разнообразных исчадий ада. Ибо его неуклонно всю жизнь преследовали тревожные видения Данте и Страшного суда. Благообразный лицом и безупречно добродетельный тортонец, ярко эмоциональный в живописи, был лучшим учеником великого аналитика, прохладного Пьеро делла Франческа, и в сущности болен «бесовским» искушением и соблазнами, быть может, гораздо серьезнее и глубже, чем всюду выказывавший свое еретическое безбожие умбриец. Между тем первому из них пришлось завершать незаконченную работу второго – помимо двух собственных Синьорелли в Сикстинской капелле дописывал фреску «Передача ключей» Перуджино.
Синьорелли и умбриец Пинтуриккио, ученик Перуджино, равно как Пьеро ди Козимо с его учениками, приступили к росписи в 1482 г., а через год состоялось торжественное открытие всего цикла, и капелла явила миру как бы сжатый сборник художественных ценностей, которые подарила Риму Флоренция.
Римские фрески
С октября 1481 по март 1482 г. каждый из призванных живописцев выполнил в среднем по шесть фресок на темы из Ветхого и Нового завета. Ветхозаветные сюжеты, заданные самим папой, в которых следовало наглядно подтвердить историческую преемственность папской власти, были тщательно разработаны учеными теологами. Серия фресок слева от входа разворачивала историю жизни Моисея, справа – Христа, а нижний пояс был выполнен имитирующей росписью «под занавес». Между собою сюжетные фрески разделены выполненными гризайлью пилястрами с орнаментами под античные «гротески» недавно открытого в Риме Дома Нерона.
Сандро Боттичелли несомненно определял общий характер и декоративный строй всего Сикстинского цикла. «Идеологически» он влиял в тот период на работу своих земляков столь же сильно, сколь энергичный Перуджино оперативно-практически. Вследствие этого папа, по достоинству оценив не столько профессиональную искушенность Боттичелли, в которой смыслил весьма мало, сколько чисто флорентийское искусство дипломатического такта, в высшей мере ему присущее, – поручает Сандро все руководство работами, предпочитая его тонкую обходительность дерзкой самонадеянности Пьетро. В самом деле, в то время Боттичелли, еще не старый и общительный, несмотря на свою неистребимую страсть к подтруниванию, отлично умел укрощать в других преизбыток более опасных страстей и с проницательностью природного психолога угадывал чужие порывы, ухитрялся со всеми отлично ладить. «Вследствие этого среди многих соревнующихся, которые работали вместе с ним, – отмечает Вазари, – он приобрел известность и славу величайшую».
Как бы то ни было, он заставил всех повиноваться себе, следуя ведущей идее ансамбля, сплотив вокруг нее самые разные художнические величины.
Даже увлеченные перспективными поисками Гирландайо и Перуджино по характеру построения своих росписей стремятся не вырываться из общего строя, диктуемого Боттичелли.
Используя предыдущие достижения фресковой техники, Сандро как руководитель всего цикла объединяет в нем «систему панно», введенную еще Джотто, с «абстрактным небом» и мозаичной инкрустацией пола, подвижные массы стен своего «Святого Августина» с «мнимым пространством» нарисованных занавесей внизу, гризайльные россыпи в духе Кастаньо и архитектурно-скульптурный декор, в конечном счете решая пространство капеллы по-новому. Три ряда росписей, утяжеляемых снизу вверх, образуют своеобразную обратную тектонику, наподобие некоторых приемов архитектуры XX века, использующей точечные опоры, создающие наибольшее напряжение материала. Эта схема то ли египетской пирамиды, поставленной на острие, то ли готического храма, перевернутого и воткнутого шпилем в землю, будет затем принята к сведению и всесторонне развита Микеланджело. В своих последующих росписях Сикстинской капеллы Буонарроти учтет предшествующий опыт Боттичелли и разработает обратную тектонику композиции намеренно, не случайно, всецело – от огромной беспокойной массы потолка к «безопорным» касаниям с землей. Обнажив динамическую структуру цикла, Микеланджело совершит революцию во фресковой живописи, о которой еще не помышлял Боттичелли.
В первом из боттичеллевских сюжетов, называемом «Очистительным жертвоприношением», символизирующем исцеление грешной души верой, художник объединяет основную сцену с предписанным папой мотивом искушения Христа вдали, на втором плане. В центре фрески возносится торжественный фасад церкви Санто Спирито (Св. Духа), при которой первосвященником был учрежден госпиталь для прокаженных под тем же названием – следственно, проводя идеологическую параллель между Христом и Моисеем, олицетворяющими Новый и Ветхий завет, святейший отец не забывает восславить и собственную добродетель, без излишней скромности присоединяя себя к сонму величайших проповедников и пророков. Но импозантный фасад Санто Спирито, призванный связывать тему дьявольского искушения с темой очистительной жертвы в знак признания Христом Моисеева закона, равно как и алтарь, и бассейн с кровью жертвенных птиц на первом плане, объединяют все действия лишь номинально, как подобает сценической декорации. Хорошо срежиссированные мизансцены таким образом подменяют образно-смысловое единство, с такой непринужденностью обнаруженное, к примеру, в росписях Лемми.
На противоположной стене в «Юности Моисея», согласно папскому заданию, пророк представляется как прообраз Христа, в действии, развивающемся справа налево (в отличие от центричности предыдущей фрески), окончательно распадающемся на отдельные эпизоды. Композиция следует вертикалям деревьев и изгибам холмов, которые, в сущности, ритмически повторяют фигуры людей на первом плане. Сценическое размещение в эпизодах повествования определяют наклонные плоскости, которые служат подмостками для различных маленьких драм, подчеркивая заодно и полную децентрализацию композиции.
Поначалу весьма поэтичного вида молодой Моисей с мягкой волнистой бородкой от эпизода к эпизоду становится все более отрешенно суровым воплощением нерассуждающей энергии в сценах убийства египтянина, бегства и возвращения в Египет, вся вымышленная архитектура которого обозначена одиноким коринфским портиком. Персонажи в зависимости от характера и состояния их решаются то в резких, то в плавных ритмах, однако законодательно-карательная деятельность пророка, в сущности, привлекает Боттичелли столь же мало, как его мистические откровения.
Обходя в юности Моисея подводные камни не слишком приятного ему сюжета, художник наталкивается на еще большие неудобства в следующей фреске «Наказание восставших Левитов», где он волей-неволей принужден-таки встретиться с малосимпатичной ему карающей десницей неумолимого ветхозаветного бога. В самом деле, это наиболее динамичная, яркая по цвету, наиболее броская, но и наименее привлекательная из ватиканских фресок Сандро, в которой сделана попытка передачи чисто внешней динамики действия.
Расположение фрески напротив спокойно-торжественной «Передачи ключей» Перуджино намекает на обреченность посягающих на церковную иерархию еретиков, казнимых волею Моисея по молитве первосвященника Аарона – прообраза все того же папы Сикста. Таким образом сцена «Наказания непокорных» – предостережение всем инакомыслящим и подтверждение божественных установлений не столько Моисеевой, сколько папской власти. Действие этой фрески концентрировано в трех по-разному возбужденных группах людей.
Средняя сцена с участием главных персонажей, то есть Аарона, Моисея и восставших, происходит на фоне алтаря-скинии для испытания усомнившихся и древнеримской арки Константина. Так император Константин, первым сделавший христианство официальной религией, тоже призван в сторонники расправы над инакомыслящими, что подтверждает назидательно грозная надпись на аттике арки: «Никто не осмеливается брать на себя честь жертвоприношения, если он не призван богом, как Аарон». Античный памятник превращается в символ карающего закона, в аллегорию запретов, внутренне неприятных терпимому, снисходительному к собственным грехам и порокам ближних Боттичелли.
Незримая сила, малопонятная автору, поражает Корея, Дафана, Авирона в центре по властному мановению руки Моисея – здесь уже щуплого старца в поредевших седых локонах, иссохшего, маленького и недоброго. По этому зловещему сигналу проваливаются под землю вместе с женами и детьми недовольные слева от алтаря и предназначается в жертву огню негодующая толпа левитов, дерзнувших потребовать равенства с первосвященником. Если ритмика Моисея здесь и особенно в предыдущей фреске сравнима с единой вздымающейся волной, то восставших отличает цепочка прерывистых ритмов, которые словно наглядно воплощаются в язычках огня, уже охватившего местами взвихренные, спутанные волосы устрашаемых и гибнущих. Вся сцена казалась бы невыносимой в своей назидательности, если бы, как нам кажется, ее своенравный создатель нечаянно не оказался на стороне согрешивших жертв неумолимого пророка.
Герои фресок
В Риме маэстро зарабатывал больше, чем когда-либо, но деньги по своему обыкновению проматывал без счету – чаще из прихоти, чем по необходимости. Был Сандро также свидетелем нашумевшего римского карнавала 1482 г., на редкость грубого и даже жестокого, почти погромного по отношению к евреям и всем, кто жил или мыслил иначе, чем власть предержащие. В целом это вульгарно-пышное зрелище имело мало общего с непринужденным изяществом флорентинских праздников, в оформлении которых ему не раз приходилось участвовать и отзвук которых облагороженным нежностью эхом отозвался в его мифологических картинах. Откровенно площадной характер римского карнавала, поощряемого Сикстом IV, меньше всего напоминал страстные откровения карнавальных напевов Лоренцо. Все было здесь обнаженнее, примитивнее, резче, а необъяснимые вспышки варварства в бывшей «всемирной» столице латинян немало дивили и озадачивали Боттичелли.
Наскучив этим, Сандро отводит душу в побочных, неглавных сюжетах Сикстинских фресок. Такова сцена у колодца с дочерьми Иофора Мадиамского, и в ней особенно пленяющие на фоне суетных деяний пророка чарующе угловатые девочки-подростки с грациозным изгибом полудетских фигурок, с убранством бледно-льняных волос выглядят как сновидение, как стихотворный отзвук прекрасной Симонетты… Теологически ничего не значащие, проникают лирические девичьи образы в жесткие темы «большой политики» папства, что совершенно смещает все изображенное действие в иной, поэтический план. Авторской прихотью Боттичелли «Юность Моисея» преображается из богословской формулы в сугубо лирическое переживание любовной встречи молодого пророка с его будущей невестой, сопровождаемое смутным сном о некоторых неприятных и страшноватых событиях. Этот непредвиденный подтекст еще подчеркивается поэтической тонкостью пейзажного фона, сказочно мягкой проникновенностью колорита, золотистая нежность которого находится в противоречии с изображенными вокруг жестокостями Моисея, зато обладает успокоительными свойствами, подобающими ностальгическим воспоминаниям юности, отражая не столько грозную биографию пророка, сколько приятно грезящее воображение своевольного автора.
Это самый заметный пример, но и в других фресках среди композиционной невнятицы, а порою риторики целого словно отдельными островками врываются то чье-то лицо, озаренное светом проницающей мысли, то жест грациозный, исполненный безыскусной и тонкой правдивости – чаще среди безымянных статистов, чем среди общеизвестных участников действа. Реальные, подчас даже вульгарные, как римский карнавал, физиономии современников и рядом – сама волшебная фантазия, воплощенная то в ребенке с гроздью винограда, словно выхваченном из какого-то иного, свободно-античного «языческого» сюжета, то в стройной «нимфе» с осанкой древней богини, несущей играючи лишенную всякой реальной тяжести вязанку хвороста и с такой знакомой летяще-танцующей походкой.
Вынужденный к подробному рассказу, чуждому его творческому существу, Боттичелли так и не сумел добиться в Сикстинской капелле образного единства. Зато именно в этом несобранном целом, рассыпающемся, дробящемся на фрагменты, особенно полно раскрылось своеобразие Сандро как портретиста. В этом плане даже его явное равнодушие к специфическим проблемам монументальной живописи воспринимается по-иному. Головы многих, то суровые и задумчивые, то безмятежно мечтательные, то полные энергии и силы, выказывают всю пытливость интереса художника к разнообразным проявлениям жизни души. Начиная с немногих молодых лиц, смягченно продолжающих поэтизацию «Волхвов», кончая физиономиями всех слишком известных «непотов» – племянников Сикста IV – в «Исцелении прокаженного».
Это прежде всего папские любимцы, возведенные им в сан кардиналов Пьетро Риарио и Джулиано делла Ровере, впоследствии сам ставший папой под именем Юлия II – увы, поныне не выяснено точно, которого из двух изображает весьма внушительная фигура осанистого прелата с тяжелым и энергичным лицом. Будущему первосвященнику делла Ровере Сикст IV еще в 1474 г. «подарил» флорентийскую крепость Читта да Кастелло, принадлежавшую до того кондотьеру, служившему Лоренцо Великолепному, что послужило одной из причин начала вражды архипастыря с Медичи. Именно жадность ко всякой движимости и недвижимости, равно как преизбыток родственной заботливости в понтифике привел и к кровавой трагедии Пацци, и к затяжной войне Флоренции с Римом. Рыцари на час, они были в силе, пока длилось кратковременное правление их престарелого сюзерена. Вынужденные обстоятельства заставляли их сохранять хорошую мину при самой дурной игре, о чем свидетельствуют их портреты в Сикстинских фресках Боттичелли, где высокопоставленные господа так или иначе отличаются если не беспорочностью, то определенным благообразием. Позируя, они держат себя светски-непринужденно, как подобает хорошим актерам. Лишь ускользающий взгляд их таит в себе нечто иное, тревожащее…
Так, сделав в Сикстинской капелле ряд отступлений в решении композиций и пространства, Боттичелли показал принципиально новое решение человеческих образов. Внешне типажную дифференциацию выразительных лиц современников с неизменным успехом выявлял Гирландайо. Но такого разнообразия внутреннего духовного мира, какое дал в римских росписях Боттичелли, искусство Италии еще не знало. В сравнении с изысканной простотой росписей виллы Лемми или «Рождения Венеры» Сикстинский цикл Сандро не лишен известной манерности. Однако иначе и быть не могло: у Боттичелли «манерны» обычно не чистые создания его непосредственного вдохновения, но те, что даются через преодоление себя, через напряжение, неловкость и скуку.
Сикстинские росписи манерны налетом художнической дипломатии, невозможностью быть искренним до конца. Рассудочные построения искусственных теологических сюжетов, как правило, пробуждали в художнике живописную литературность – не лучшее свойство его избалованного в те дни дарования. И тем не менее за оригинальность изобразительного замысла, правдивость фигур, живость рассказа и поэтичность обобщений современники Сандро оценили его римскую стенопись выше работы всех остальных. Это был не экзамен на творческую зрелость, как «Св. Августин», это было утверждение славы лучшего из лучших на сегодняшний день. Во Флоренцию он возвращается триумфатором…
Апофеоз мирской власти
Художественный стиль Боттичелли после сикстинского опыта в его самое цветущее десятилетие 1482–1492 характеризуется усилением движения, причем живописные массы упрощаются, а рисунок становится шире, подчеркивая все более существенное. Исчезает самодовлеющая орнаментальность, освобождаются дальние планы, открывая все более широкие горизонты. Пейзажи, в которых листва и вода все большее место уступают скалам, становятся вследствие этого проще, суровей и строже. Пространство как бы разрастается, и излюбленная ритмическая динамика линий акцентируется мастером все более нервно.
В этой манере Боттичелли исполнил картину «Паллада и Кентавр» по заказу Джованни ди Пьерфранческо Медичи для виллы Кастелло, где уже находились «Весна» и «Рождение Венеры». Возможно, что в данном случае за именем владельца Кастелло скрывался сам Великолепный. Известно, что Паллада – Минерва была любимой богиней диктатора, а кольца с пирамидальным алмазом, составляющие узор ее платья в картине, считались одной из эмблем рода Медичи. Еще в 1475 г. изображенная Сандро воинственная «Минерва Армата», вооруженная, осеняла военные забавы медичейской джостры. Ныне он пишет «Минерву пацифика», то есть мирную, без шлема, меча и щита, зато с оливковой ветвью, вооруженную лишь атрибутами строгой добродетели да алебардой в качестве символа силы.
В картине сквозит то же ощущение импозантности, что в сценах холодной жестокости Моисея, поскольку она была призвана служить апофеозом светской власти, как Моисей – власти духовной. Она должна была увенчивать последние достижения политической стратегии Лоренцо в качестве аллегории морального и политического его торжества над папой и папским заговором во Флоренции, Неаполе и Риме. Малейшая деталь в картине предназначалась служить этой цели, вплоть до кораблика вдали – олицетворения выхода в море, о котором мечтал Великолепный для Флоренции, не имеющей собственных портов. Поэтому сцена разворачивается на фоне моря, выражая надежду, что Флоренция станет морскою державой, хотя с 1480 г. она была вынуждена вообще прекратить строительство галер. В «Палладе и Кентавре» символика «Доброго правления» гораздо конкретнее, чем в утонченном ви́дении «Весны».
Навязчивость аллегории сказывается не только в ее атрибутике – в самом характере изображения, где фигуры, изолированные от пейзажного фона, выдвинуты вперед как прямые носители авторской идеи, согласно которой богиня мудрости в прямом и переносном смысле изображается выше укрощенного Кентавра, олицетворяющего Раздор. В отличие от победительницы побежденный помещен не на фоне ясного неба, а как бы во впадине хмурой скалы, чем еще больше способствует ее безусловному превосходству. Предполагается, что это моральное превосходство высшего цивилизованного разума над стихийными силами дикой природы.
В согласии со столь благоразумной задачей картину отличает редкая уравновешенность цветового и линейного строя, но без той поэтичности, которая свойственна гармонии фресок Лемми. Правда, гордая голова Минервы клонится набок словно бы с лирической задумчивостью привычных боттичеллевских героинь, но гордость явно превозмогает в ее осанке застенчивость, и самый облик ее уже менее привычен. Паллада – наиболее зрелая, холодная и спокойная из героинь того поэта незрелости и весенней зелени, каким является Боттичелли. Оттого заостренная угловатость неуравновешенной фигуры побежденного Кентавра разбивается о непреклонность спокойствия добродетельной богини. А в борьбе их болезненно соприкоснувшихся воль запечатлелась не столько «кентавромахия», сколько «психомахия».
В знакомых чертах Кентавра отражается лик «страдающего Моисея» – персонажа, который у Боттичелли прежде еще не страдал. Но вследствие неожиданного смещения акцентов бывший пророк в новой роли обретает то сопереживание своего создателя, которого лишена гордая победительница.
По обыкновению автор остается и здесь при своем собственном мнении, которое, соприкасаясь в определенной степени с приговором власть предержащих, все же значительно отличается от него. Поэтому в торжественной атмосфере самой тенденциозной из боттичеллевских картин, в сущности, куда больше полускрытой грусти, нежели в призрачно нежной меланхолии «Весны». Тогда ее автор еще верил в осуществимость Золотого века, ныне он пытается по-своему поддержать его пошатнувшееся здание.
Большая политика
Этапы большой политики, чьим орудием косвенно послужило произведение Сандро, – ряд блистательных исторических ступеней, составляющий, можно сказать, целую лестницу головокружительного восхождения Медичи к высотам общеитальянского «искусства управлять».
И самым замечательным из дипломатических демаршей Лоренцо Великолепного по праву считается капитуляционная поездка во враждебный, бывший в сговоре с Сикстом IV Неаполь, поныне удивляющая сочетанием дипломатического такта, тонкой хитрости и отваги.
События развивались с последовательностью авантюрного романа. 24 ноября 1479 г. с заключением зимнего трехмесячного перемирия с папой во Флоренции поднялось внутреннее брожение. Город роптал, устав от войны, и втайне подумывал даже, как бы избавиться от той общеизвестной ее причины, какою являлась и личность и власть Великолепного. Единственным затруднением в этом предприятии отцам города представлялось в те смутные дни, «в чьи объятия броситься – папы или Неаполитанского короля» (Макиавелли). Видя все это, Лоренцо заверил колеблющуюся Синьорию, что готов лично сдаться грозному королю Фердинанду, дабы устранить таким образом первоисточник раздора и восстановить столь желаемый мир. На это Синьория, словно устыдившись, назначила его своим послом и облекла полномочиями для заключения со строптивым монархом договора о дружбе. Так в качестве официального лица республики с декабря 1479 г. Лоренцо выезжает в Неаполь.
В конце декабря Медичи прибывает во враждебный Неаполь, где принят весьма изумившимся городом «с почетом и интересом», поскольку его персона и ее значение послужили внешним поводом целой войны, в которой, по словам Макиавелли, «величие врагов Лоренцо лишь содействовало его собственному величию». Лоренцо меж тем, не теряя времени, начинает внушать королю идеи полезности мира для укрепления шаткого положения всей Италии и невыгоды и опасности продолжения войны, пока упрямый Ферранте не начал «подумывать о том, как бы заручиться дружбой этого человека, вместо того, чтобы иметь его врагом». Впрочем, укрощенный и обольщенный король, желая хотя бы отчасти проникнуть в загадку его намерений, под разными предлогами удерживал у себя приятного гостя около четырех месяцев – с декабря по март следующего года.
Однако «рассудительность и разумение Лоренцо оказались сильнее, чем мощь его противников». В тончайшем подтексте переговоров Великолепный сумел убедить неограниченного монарха, что медичейское единоличное правление во Флоренции гораздо выгоднее изменчивой в настроениях демократической республики большинства. Успокоенный этой здравой идеей, подобревший Ферранте отпустил наконец новообретенного союзника, «осыпав благодеяниями», «с бесчисленными изъявлениями дружеских чувств».
Через две недели по возвращении Великолепного во Флоренцию – 25 марта 1480 г, – обнародовано соглашение о мире со взаимными обязательствами сторон по сохранению целостности обоих государств. Желанный мир был восстановлен, и Медичи ходил триумфатором, незамедлительно использовав свой триумф для сокращения Синьории за счет неугодных ему лиц, доведя ее численность до Совета Семидесяти, который составился преимущественно из преданных лично Лоренцо людей. С его учреждением окончательно похоронена номинальная флорентийская свобода, зато городу возвращены недавно отнятые крепости. Антифлорентинская и антимедичейская коалиция врагов внешних и внутренних трещит по швам и распадается сама собой.
Договор, впрочем, вызвал недовольство ненадежных союзников миланцев и венецианцев, но более всех был потрясен папа Сикст IV, неожиданно очутившийся в одиночестве. Первосвященник так и не смог оправиться после своего политического фиаско, будучи не в силах вынести торжества своего заклятого врага. Сикст IV умер через пять дней после заключения мира с Флоренцией 11 августа 1484 г., как говорили, исключительно от огорчения, причиненного этим событием. Отходя в мир иной, архипастырь «оставил в состоянии мира Италию, в которой при жизни только и делал, что устраивал войны» – по заключению Макиавелли. Таков был далеко зашедший финал затянувшейся эпопеи, начатой «кровавою мессой» Пацци.
В Риме поспешно собранный конклав кардиналов после скандального торга избрал нового папу в лице кардинала Мальфетты Джованбаттиста Чибо, который был ставленником кардинала Джованни, сына Неаполитанского короля, и брата Лодовико Моро Асканио Сфорца, иначе – плодом дружеского союза Неаполя и Милана. При избрании нового первосвященника, наименованного Иннокентием VIII, остались неподкупленными только пять кардиналов, в том числе энергичный Джулиано делла Ровере, один из немногих предпочитавших принципы деньгам.
Медичи во Флоренции, поначалу выразив негодование столь нечестным избранием, вскоре решил извлечь из него все возможные выгоды, дабы, не повторяя ошибки с Сикстом, расположить к себе нового папу. И очень скоро преуспел в этом, выдав в 1487 г. одну из своих дочерей Маддалену замуж за Франческетто Чибо, более чем сомнительного «племянника» святого отца. Впрочем, Иннокентий VIII стал первым из архипастырей, открыто признававших своих, не подобающих обетам пастырского безбрачия, детей. Непотизм таким образом перерастает у Иннокентия VIII в откровенное чадолюбие.
Обожающий своего Франческетто папа ответил на любезность Лоренцо возведением его четырнадцатилетнего сына Джованни в кардинальское достоинство, которого напрасно дожидался от его предшественника покойный красавец Джулиано. Лоренцо ожидал многих милостей для своего новоиспеченного прелата, для начала получившего аббатство во Фьезоле, а также быстрого возвышения зятя.
За время своего понтификата с 1484 по 1492 г. новообретенный тиароносный ценитель его многочисленных дарований окончательно ликвидировал все последствия антифлорентинской войны.
И не один Иннокентий VIII постоянно во всем спрашивал советов Великолепного. Единодержавный монарх, король Франции Людовик XI, проницательный и осторожный, называет его «своим дорогим братом», обращаясь на равных к некоронованному государю. Сразу же после заговора Пацци французский король направил во Флоренцию своего посла Филиппа де Коммина, выразив таким образом перед всею Европой свое уважение и сочувствие Медичи. Венгерский король Матиаш Корвин, плененный яркостью личности и тонкой дипломатией Великолепного, не гнушался лично служить посредником в запутанных переговорах между Флоренцией и папой. Турецкий султан Мухаммед II, выдавший Медичи убийцу брата, из Константинополя не раз посылал ему дары, со вниманием прислушивался ко всем его мнениям. Воистину Лоренцо сделался «государем, удивлявшим весь цивилизованный мир» как раз в то время, когда по всей Европе Италия слыла законодательницей наук и искусств, когда распространилась повсеместно мода на итальянский язык и на все вообще итальянское. А медичейская Флоренция, истинное сердце этой Италии, стала таким образом ведущим центром всей европейской культуры.
В 1487 г. Медичи после короткой войны удается отвоевать у прижимистых генуэзцев давно желанную ему крепость Сарцану, после чего, согласно утешительному заключению Макиавелли, флорентинцы уже, как в сказке, «жили в величайшем благополучии… до самой кончины Лоренцо». Держа в своих властных руках все политические нити, Медичи в конце концов опутал всю страну тонкой сетью явных и тайных дипломатических соглашений. Заключая и расторгая наступательные и оборонительные союзы, не щадя ни трудов, ни собственного самолюбия, убеждая, унижаясь, угрожая и льстя многочисленным маленьким деспотам, неприметно делая их послушными марионетками собственной воли, Великолепному удалось сколотить в Италии систему политического равновесия, еще не удававшуюся до него никому.
Годы наибольших успехов политики Медичи совпадают с периодом наивысших триумфов Сандро Боттичелли, который творит свою «большую политику» в искусстве так же гибко, энергично и смело, как Лоренцо на исторической арене. В незабвенный период неограниченной полноты власти и чувств Боттичелли фактически создает параллельно три группы вещей, как три типа своих откровений: открыто «языческие», светски-мифологические картины, религиозные сюжеты с Мадоннами и священные картины, воплощающие собой так называемые «откровения Востока», запечатленные в библейских ветхозаветных циклах Сикстинской капеллы. Подобно размаху Великолепного, широта Боттичелли в ту эпоху с легкостью охватывает все три разнородных потока, однако в смятении Августина, жестокостях Моисея и ледяном торжестве медичейской Паллады подспудно нарастает горечь новых сомнений, родившихся из трагедии Пацци, которая исподволь подтачивает надежность и радость его мира.








