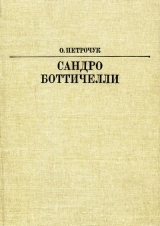
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
И все же всего притягательней во Флоренции для юного Боттичелли были творения ее живописцев, исполненные всепокоряющей жизненной силы. Растворяясь и теряясь в них, переполненный многообразием всех потрясавших его впечатлений, Сандро, то тихий и сосредоточенный, то внезапно взрывающийся капризами или бурным весельем, уже дерзко помышляет в мечтах создать нечто свое, способное стать вровень с этим. Он ощущает себя совершенно под стать глубоким контрастам этого города.
«Хотя он с легкостью изучал все, что ему хотелось, – повествует Вазари, – он тем не менее никогда не успокаивался, и его не удовлетворяло никакое обучение ни чтению, ни письму, ни арифметике». Но далее, как и следовало ожидать, мы узнаем, что Сандро «был человек бойкий и только рисованием и занимался, увлекся и живописью и решил заняться и ею». Так с ранних лет в эпоху разнообразного универсализма он обнаруживает себя человеком одного влечения, одной-единственной захватывающей страсти. «И когда открыл он душу свою отцу, – продолжает Вазари, – тот, зная, куда у него повернуты мозги, отвел его к фра Филиппо из обители Кармине, превосходнейшему тогда живописцу, и договорился с ним, чтобы он обучал Сандро, как тот и сам того желал».
Художники занимали в то время промежуточное положение между младшими – средневековыми ремесленными цехами и старшими – обуржуазившимися – шерстяников и банкиров. В отличие от университетов и школ, этих центров схоластической отвлеченной учености, изучавших гуманитарные и точные науки по преимуществу теоретически, мастерские ваятелей и живописцев предоставляли широкие возможности для экспериментального постижения живой природы. Неразрывность художественных теорий с повседневной практикой искусства придавала мастерам Возрождения универсальность знаний и широту интересов, удивлявшую все последующие поколения.
Живописец XV века знает всю технологию и первоначальную «кухню» своего ремесла как архитектор – работу строителя, а инженер нередко буквально своими руками проводит чисто техническую часть работы, что не мешает любому из них на досуге предаваться самым возвышенно-философским размышлениям о предназначении своего искусства, не говоря уже о чтении и писании разнообразных научно-теоретических трактатов. Так, старший современник Боттичелли Леон Баттиста Альберти (1404–1472), будучи по призванию архитектором, еще свободнее ощущал себя в теоретической области, где стремился охватить очень многое – от сюжетов картин до политики и морали. В своих трактатах по вопросам искусства в живой и строгой литературной форме он обобщил весь художественно-технический опыт профессионалов, накопленный до него древними и современниками.
Все более тесное соединение осмысления с деянием, мастерства искусства с наукой – более всего с математикой – привело к окончательному выделению искусства из ремесла, ко все большей свободе художников в творчестве и в жизни. Именно духовно раскрепощенная личность творца – живописца, ваятеля, зодчего, породившая высшие художественные достижения, способствовала и тому, что над старшими городскими цехами – выше банкиров, шерстяников и юристов – в конечном счете возвысились художники, дотоле стоявшие на более низкой социальной ступени. Благодаря этому в XV веке ученик художника мог самостоятельно переходить из одной мастерской в другую, как полноценная творческая личность, а не как подневольный слуга, а мастер столь же свободно выбирать для себя заказы. Это сулило неведомые еще перспективы таким только вступающим в жизнь, как Сандро Боттичелли.
Боттега Липпи и «академия» Верроккио
Нравы художественных мастерских были вольными и демократичными. Многие подростки-ученики с самого начала не только трут краски и постигают азы технологии, но зачастую становятся любимыми моделями своих наставников. Художники упражняются в рисовании друг с друга, пока, уже в конце столетия, не появляются профессиональные натурщики. Случалось, конечно, что кое-кого поколачивали за шалость или провинность, но даже это проделывалось, скорее, патриархально, по-семейному, ничем не напоминая административный подход.
«Семейственная» вольница мастерской, разумеется, сильно рознилась своей несомненной наклонностью к буйству от тихой богобоязненной атмосферы, к которой привык подросток Сандро в родительском доме. Зато дружелюбие и щедрость вольнодумной и шумной боттеги обычно не знали границ. В легенды художнического мира вошла корзинка для добровольных взносов на общее и единичное пользование, подвешенная к потолку в скульптурной мастерской Донателло, который сам, по словам Вазари, «никогда не придавал никакой цены деньгам». Даже весьма сребролюбивый биограф в данном исключительном случае приписывает столь безоглядное бескорыстие не порокам, но душевным «доблестям Донато».
Особенно колоритную фигуру в плане буйного и вместе самого безобидного для окружающих вольнолюбия представлял добродушный и щедрый учитель Боттичелли фра Филиппо Липпи. По достоверным сведениям, «фра Филиппо очень любил веселых людей и сам всегда жил в свое удовольствие». Монах-кармелит, открыто и явно для всех пренебрегший монашескими обязанностями, приверженный всем мирским соблазнам, буквально излучал жизнерадостность. Его весьма бурная и занимательная, как авантюрный роман, биография послужила обильным источником печатных новелл и изустных преданий.
Фра Филиппо, сын мясника Томмазо ди Липпо, родившийся в 1406 г. во Флоренции, потеряв в двухлетнем возрасте отца, до восьми лет кое-как воспитывался попечением тетки, которая, будучи не в силах содержать его по собственной бедности и по чрезмерной резвости племянника, сбыла его с рук в флорентинский монастырь дель Кармине. Так в 1421 г. Филиппо в силу житейской необходимости волей-неволей стал монахом. Бойкий, общительный, не признававший малейшей узды дисциплины, отнюдь не склонный к созерцанию и размышлению, он «с ранних лет явил себя столь же ловким и находчивым в ручном труде, сколь тупым и плохо восприимчивым к изучению наук, почему он никогда не испытал желания приложить к ним свой талант и с ними сдружиться», а потому вместо чтения и зубрежки, «вместо учения занимался не чем иным, как только пачкал всякими уродцами свои и чужие книги». Последнее неизбежно повлекло обучение живописи, и шаловливого монашка откомандировали в мастерскую благочестивого и кроткого живописца фра Анджелико.
Одну из жизненных легенд фра Филиппо излагает новеллист Маттео Банделло, утверждая, что слышал ее в Милане от самого Леонардо да Винчи, который поведал историю Липпи специально в подтверждение того, что «в своем превосходстве редкостные таланты подобны небожителям, а не вьючным ослам». Это крылатое изречение приписывалось «Отцу отечества» Козимо Медичи, который, будучи сам непритязательным и придерживаясь весьма строгих нравственных правил, тем не менее от пристрастия к обаятельному живописцу если не поощрял открыто до вседозволенности, то с благодушием покрывал целый ряд сумасбродных его похождений.
И самое нашумевшее, самое романтическое из них – похищение из монастыря в Прато хорошенькой юной монахини Лукреции Бути.
Тогда, в 1456 г., Фра Филиппо не пожелал разлучаться с возлюбленной, однако с монашеским званием тоже – «дабы не лишать себя связанной с этим свободы». Хотя влиятельные церковные лица не раз предлагали снять с него духовный сан, он «не захотел связать себя узами брака», предпочитая «располагать собою и своими склонностями так, как ему вздумается».
Плодами этого романа фра Филиппо явились дочь и сын Филиппино, унаследовавший профессию отца. Только в 1461 г. с особого разрешения папы Пия II кармелит обвенчался с бывшей монахиней.
Нерадивый инок и приятный живописец был торжественно погребен в 1469 г. в Сполето, в великолепной гробнице из белого и красного мрамора, в церкви, расписанной им самим. Богобоязненные сполетцы чтили захоронение великого грешника наподобие местной реликвии и даже отказали сыну покойного, просившему от имени Медичи перевезти останки отца на родину, мотивируя свой отказ тем, что во Флоренции и без того довольно достопримечательностей. Филиппино Липпи позволили только высечь на отцовской гробнице латинскую эпитафию сочинения отменного поэта Анджело Полициано:
«Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный,
Дивная прелесть моей кисти – у всех на устах.
Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски,
Набожных души умел – голосом бога смутить.
Даже природа сама, на мои заглядевшись созданья,
Принуждена меня звать мастером, равным себе».
Делая скидку на погребальное красноречие тех времен, которое требовало непременно превосходной степени в оценке заслуг усопшего, следует все же признать большие достоинства фра Филиппо как живописца – звучную красоту его красок, естественную жизненность образов в сочетании со светлою их поэтичностью. У Липпи меньше сказочной изобретательности, чем у Гоццоли, зато нет и его утомительного перечисления житейских подробностей.
Общеизвестному сумасбродству учителя несомненно пришлось по душе скрытое сумасбродство ученика – фра Филиппо не мог не постигнуть хотя бы отчасти того, чего не сумели разгадать родственники Сандро, что приводило в такое недоумение его отца. Художник становится для душевно одинокого подростка первым истинным духовным отцом – отцом по святому призванию к живописи, по вольнолюбию, по искусству.
Тем не менее, скоро познав секреты мастерства Липпи, по отъезде учителя на работу в Сполето (откуда тот уже не вернется) в 1467–1468 гг. Боттичелли начинает посещать мастерскую иной, уже более интеллектуальной направленности. Боттега Андреа Верроккио походила не столько на художническую вольницу, сколько на серьезную художественную школу, на маленькую академию, на научно-экспериментальную лабораторию. Искусство Андреа и его многочисленных учеников готовилось к миссии самой ответственной на данном этапе – концентрировать в себе все важнейшие достижения художественной практики под контролем научной мысли, почти в полном согласии со строгим идеалом Леон-Батиста Альберти.
Сам Андреа Верроккио в яркости личности далеко уступал фра Филиппо Липпи, зато был одареннейшим педагогом. Тонко угадывая особенности развития каждого, не оказывая ни малейшего давления, Верроккио тактично и осторожно направлял индивидуальность учеников. В его «академии» царила удивительная «одновременность разных возрастов» и дарований, направлений и мнений в самом широком смысле. Здесь жития Христа, Богоматери и святых с непринужденностью переносятся в современную обстановку, а Рождество или Успение, да и всякое священное чудо показывают как реальное общественное событие уже без карнавала Гоццоли и вне компромиссного небесно-земного решения, всегда отличавшего Липпи. Правда, искусству, проводимому в жизнь спокойной трезвостью Верроккио, не требуется уже и высокая этическая страсть, которая придавала нечто общечеловеческое произведениям Мазаччо. Здесь царит рассудительная логика сегодняшнего дня. Но неизвестно еще, в каком направлении повернет всю эту трезвую ясность прихотливое своенравие таких учеников неутомимого экспериментатора, как Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.
Пробыв у Верроккио чем-то вроде вольнослушателя примерно до 1469 г., в 1470-м Боттичелли уже работает самостоятельно.
Учителя и предшественники
Ни Верроккио, ни Липпи не были первооткрывателями раннего Возрождения. Оно началось с особой «подлинности и вещественности», которые внесли в искусство росписи Мазаччо, скульптура Донателло и смелость архитектурных решений Филиппо Брунеллески.
Фра Филиппо мог рассказывать Боттичелли о Томмазо Кассаи, сыне нотариуса из сан Джованни, ставшем известным под именем Мазаччо (1401–1428), который был всего на пять лет старше жизнерадостного кармелита. Фресковый цикл Мазаччо в церкви дель Кармине по заказу богатого шелкодела и политического деятеля Феличе Бранкаччи в 1427–1428 гг. сделался истинным манифестом нового искусства.
Герои Мазаччо твердо стоят на ногах и движутся во фресковом пространстве с невиданной ранее естественностью и свободой, поскольку глубина пейзажа сознательно подчеркнута перспективой и мощно вылепленным объемом самих фигур. Воссозданные воображением несравненного мастера «первосущественного» образы апостолов остались свидетельством не только овладения видимым миром, но и начала познания тайного мира сокровенных человеческих побуждений. Не напрасно капелла Бранкаччи становится школой для всех последующих живописцев, не исключая Сандро Боттичелли.
Когда Мазаччо постигла преждевременная смерть на двадцать седьмом году жизни, поэты сравнивали его с погасшим солнцем, вслед за которым и звезды уже не сумеют светить. Заодно с юным гением отпевали и живопись:
«Так, поразив одного, Апеллес поразил неисчетных…
С этим погибшим, увы! Гибнет прекрасное все».
Звезды, однако, не вовсе погасли, а лишь раздробили свое сияние, распространяя свои лучи более вширь, нежели в глубину. Последующие художники, переняв у Мазаччо, развивали отдельные стороны живого его многогранного мира. Андреа дель Кастаньо – страстную выразительность образов, Антонио Поллайоло – остроту формы и композиции, фра Анджелико – одухотворенную поэзию. Но Боттичелли сильнее всего привлекала в Мазаччо не эпическая его сторона, а зачатки психологической глубины, которую обошли в нем другие.
Очень возможно, что Сандро, родившийся пятнадцать лет спустя после смерти Мазаччо, присутствовал на похоронах значительно пережившего его сверстника Донателло. Возможно также, что еще раньше ученик фра Филиппо видел работу скульптора над бронзовыми рельефами, изображающими трагические сцены Распятия. В них беспокойный бег тонкоструящихся линий чем-то напоминал нервную вязь декоративных орнаментов ювелира, но получал трактовку сугубо психологическую. Боттичелли запомнит для будущей живописи эти линии, начертанные словно бы не резцом, а светом. Воистину «железными» должны были быть руки ваятеля, удержавшие в строгих и связанных между собою границах выплеснутые в мир хаотические волны исполненных скорби и страсти движений.
Великий Донателло в необычайной широте своего скульптурного диапазона поднял из небытия множество стилей – от величавого спокойствия почти античного своего «Благовещения», от возвышенной красоты «Святого Георгия» и «Юдифи» до потрясающих душу неприкрашенным реализмом «Марии Магдалины» или Аввакума – «Цукконе», которым обычно он клялся вместо имени господа бога. С оживляющей мощью, достойной мифического Пигмалиона, он увлеченно воскресил перед миром не прекрасную Галатею, а одухотворенно-уродливого старца с умной тыквообразной головой, сам загипнотизированно повторяя при этом: «Говори же, говори, чтоб ты лопнул!» В подобных типах, демократически грубых, возвышенная проповедь республиканских идеалов, которым скульптор был весьма привержен, сочеталась с раскрытием сугубо индивидуальных черт. И во всех его творениях ощущалась постоянная духовная жажда, бьющая ключом жизненная энергия – от декоративного буйства игриво хохочущих, резво танцующих младенцев – нутти, украшающих собою церковную кафедру в Прато, до экспрессивного динамизма поздних оплакиваний Христа, словно предваряющих трагические сдвиги искусства будущих кризисных эпох. Подобно наследию Мазаччо, из бездонного многообразия Донателло каждый черпает то, что ему ближе. Его ученик Микелоццо, помогавший Гиберти в создании знаменитых «райских» дверей, счастливо соединивший в себе таланты ваятеля и зодчего, положил начало чисто ренессансному типу надгробных памятников. Надгробие Леонардо Бруни, возведенное в Санта Кроче в год рождения Боттичелли, вместо средневековой покорности смерти запечатлело стойкость противостояния выдающегося гуманиста. А по соседству с его величавой портретной строгостью обаятельный Дезидерио Сеттиньяно культивировал в том же жанре виртуозную обработку мрамора, украшая другую гробницу фигурами нежных ангелов. Этот рано умерший тончайший лирик оставил Флоренции множество поэтически обобщенных детских и девичьих изображений, словно окутанных задумчивой дымкой.
Антонио, младший брат выдающегося архитектора Бернардо Росселлино, наряду с очень мужественными портретами в манере сурового реализма, из которых особенно известен бюст гуманиста Маттео Пальмиери, отдал дань и интимной прелести в целой серии весьма изящных рельефов с Мадоннами, не уступающих в дымчатой живописности Дезидерио. И незаурядный зодчий, ставший в скульптуре последователем Антонио Росселлино, – Бенедетто да Майано, проявив себя чутким декоратором в рельефах кафедры Санта Кроче, также отличается даром наблюдательного портретиста.
Так для Сандро Боттичелли рядом с гениальными догадками, смелыми попытками Донателло и Мазаччо заглянуть не только по эту, но и по ту сторону видимого мира пролегает область, принадлежащая промежуточной группе одаренных художников, по-своему разработавших откровения зачинателей кватроченто. Из живописцев это прежде всего неповторимый своей почти брутальною мощью Андреа дель Кастаньо, мастер вечно неспокойный, возбуждающий и возбудимый, чья разбойничьего типа физиономия давала щедрым на сенсации биографам вроде Вазари повод подозревать за ним черную совесть, обремененную грузом тайных преступлений. И в самом деле, почти насилием над восприятием зрителя видится мрачное мужество и неистовое напряжение его не признающей деликатности компромиссов, не знающей нежности полутонов почти жестокой манеры, как нельзя более подходящей для портретов вызывающе величественных полководцев или трагического реквиема «Снятия со креста».
Полной противоположностью этому воителю от живописи был нежно-мечтательный фра Анджелико, живописец-монах, укрывавшийся от мирских бурь в «райских садах» своей поэтической фантазии. Если в трактовке Кастаньо даже юношеские лица старообразны, настолько они искажены, потрясенные страстями до самого существа, то старцев фра Анджелико отличает от его юношей только наличие седых бород. В остальном это образы «человечества до грехопадения», царство невинности и вечно юной, безмятежной красоты. Однако «Снятие со креста» фра Анджелико, которое он, по свидетельству биографа, писал, так вживаясь в сюжет, что проливал то и дело слезы, удивляет отсутствием настоящего трагизма, в котором так силен Кастаньо. Для монаха-художника, до самой смерти сохранившего в себе частицы ребяческого неведения в способности видеть только хорошее, трагедия «истории» заранее перевоплотилась в праздник религии.
Но именно под влиянием этого поэта от живописи у питомца его фра Филиппо суровое величие героических образов Мазаччо, Донателло и Кастаньо сменяется подходом более жанровым и лирическим, утрачивает монументальность формы и более всего – цельность выражения высоких гражданских, общественных идеалов. Вместо этого – все большее погружение в интимность, все большее любование скромной поэзией быта. Фра Филиппо Липпи становится провозвестником и певцом «поэтического жанризма» в религиозной живописи.
Впрочем, аналитичный Верроккио был таким же учеником фра Анджелико, как Гоццоли и Липпи. Подобно Альберти и Брунеллески, его отличала разносторонность занятий и интересов – Андреа славился не только как живописец и скульптор, но и как выдающийся ювелир, геометр, музыкант. Не напрасно в то время у Верроккио если не учился, то часто собирался весь цвет флорентинского искусства. Когда художники Флоренции разделяются как бы на «лирическое» и «аналитическое» направления, Верроккио своей суховатой живописью во многом предвосхищает сугубо научный подход Леонардо да Винчи.
В обучении у Верроккио широко применялось копирование с рисунков и картонов богатой коллекции Медичи, где имелись работы Мазаччо, Учелло, фра Анджелико и Липпи. Со времени появления во Флоренции масляной живописи, введенной в 1449 г. нидерландцем Рогиром ван дер Вейденом, в боттеге Верроккио производятся постоянные эксперименты над новыми материалами, грунтами, лаками. Занимались у него и рисованием сложных драпировок, которые обычно бывали «срисованы с прилежанием» и «закончены с терпением». У Боттичелли, однако, было не слишком много прилежания для подобных кропотливых занятий с тщательным копированием малейшей складочки и еще меньше терпения, поскольку пылкое воображение его постоянно своевольничало, опережая натуру.
Рисунками с животных увлекался влюбленный во всякую живность обаятельный бедняк Паоло Учелло, за эту наклонность получивший свое прозвище, означающее «Птица». Декоративно розовые и голубые кони в знаменитых «Битвах» Учелло исполнены, при всей их сказочности, с полным знанием их анатомии и типичных повадок. В отличие от умиротворяющих сказок фра Анджелико и Беноццо Гоццоли Паоло Учелло показал себя сказочником беспокойным. Ночами с упорством и самозабвением подвижника он бредит, как о возлюбленной, о перспективе, уподобляя эту сухую материю какой-то волшебной грезе: «О, что за сладчайшая вещь перспектива!»
В мастерской фра Филиппо Боттичелли получил недостаточную подготовку в этой области, поскольку монах вообще не много заботился о следовании строго логическому методу в выборе средств. Он почти не учитывал расстояния, с которого зритель будет смотреть его фрески, отчего они временами выглядят так, словно художник «писал, уткнувшись носом в свое произведение», писал для себя одного. Этот недостаток учителя на раннем этапе унаследует Боттичелли, однако скоро освободится от него в общении с Верроккио и Антонио Поллайоло, придя к более полному пониманию художественного целого. Не слишком охотно Сандро все же овладевает культивируемой этими мастерами линейно-геометрической перспективой.
В перспективе и светотени, излюбленных средствах воссоздания объективной реальности, художники упражняются уже около пятидесяти лет. Для Пьеро делла Франческа, истинного поэта объема и пространства, они служат заветно-магическим средством сотворения прекрасного, но обобщенно-реального, а не сказочно-декоративного, как мир Учелло.
В заботе о «видимом человеке» и «видимом мире» первооткрыватели кватроченто постигают отдельные откровения и мира духовного. Однако свести многочисленные случайно рассыпанные догадки в этой области в единую своеобразно-лирическую систему предстояло представителю более младшего поколения – Сандро Боттичелли.
Первые Мадонны
В 1472 г. имя Боттичелли впервые появляется в «Красной книге» общества живописцев – объединения св. Луки гор. Флоренции – в связи с уплатой им взносов. Эта же книга свидетельствует, что Филиппино, сын фра Филиппо Липпи, работал в мастерской Сандро. И эту шумную молодую боттегу, вечно полную работающих и неработающих более или менее безалаберных посетителей, знакомых, родичей, приятелей, почитателей, ценителей и просто зевак, Вазари, в отличие от сугубо деловой и глубокомысленной «академии» Верроккио, именует со скрытым порицанием «Академией Праздных людей».
Подобно фра Филиппо, Боттичелли ищет и находит себя поначалу в образах Мадонн, исполненных женственной грации и внутреннего света. Обучение у двух совершенно различных источников своеобразнейшим образом преломляется в них.
Первые профильные Мадонны Сандро исходят из типа, излюбленного учителем. Известнейшая Мадонна с младенцем и двумя ангелами Липпи воистину кусок подлинной жизни, почти разрушающий картинную плоскость и раму. Не напрасно реальное птичье крыло белобрысого сорванца в роли ангела выставляется из картины, топорщится прямо на зрителя и, утрачивая из-за этого всякий религиозно-мистический смысл, выглядит словно деталь карнавального розыгрыша.
В своей Мадонне для Воспитательного дома, написанной по следам Мадонны Липпи, Боттичелли одухотворяет, облагораживая внешне, а внутренне усложняя простонародный детский типаж фра Филиппо, делая его более обобщающе собирательным. Девочка-жена Липпи очень старается выглядеть благочестивой, девочка-царица Сандро ничуть не нуждается в том, чтобы, подобно этой наивной горожаночке, отводить душу незамысловатой болтовнею со зрителем. Она замкнута и малоконтактна.
Заодно Боттичелли вносит свои коррективы в решение многих деталей. Молодой мастер превращает современное модное платьице героини фра Филиппо во вневременное одеяние, и притом удлиняет все ее тело так, что сводит на нет впечатление тяжести младенца на ее коленях, весьма занимавшее фра Филиппо. Картина заполнена фигурами почти вплотную друг к другу, и тем не менее им не слишком тесно, поскольку реальностью плоти героев Сандро всецело жертвует глубине и достоверности характеров.
Не пожелал начинающий мастер удовлетвориться и строго логической фиксацией внешнего видимого мира, почти документальной, почти протокольной, в которой наставлял его Верроккио, которая с такой наивной откровенностью проглядывала даже в подобной яблоку крепкой округлости щек его непритязательно миловидных Мадонн. Как простой и здоровый гедонизм фра Филиппо, так и суховатый аналитизм Верроккио у Боттичелли перерастает в нечто качественно более сложное.
Тень неопределенной грусти, неведомая женским головкам Верроккио, лежит на выпуклом лбу «Мадонны во славе» «верроккиевского» типа, сквозит в мягком наклоне ее головы. Отныне покончено и с озорниками, излюбленными фра Филиппо. В нежно-неловком мальчугане «Глории» ощущается новая осмысленность, до Боттичелли еще небывалая, и намечается даже оттенок недетской печали. Игра и серьезность смешались причудливо в сыне и матери, подобно тому как то и другое мешалось подчас в переменчивом, как весенняя погода, характере их молодого автора.
Сандро не колорист по призванию, тем не менее уже в первых Мадоннах тонко пользуется выразительностью цветового пятна, развивая по-своему унаследованную еще от живописцев икон эмоциональную, отчасти даже «идеологическую» роль цвета. Видимая гармония дополнительных «чистых» красок у Боттичелли идет от легендарной окраски четырех главнейших природных элементов – красного (огонь), голубого (воздух), зеленого (вода) и серого (земля).
Не в пример упрямым последователям Верроккио Боттичелли пользуется светотенью только как моделирующим приемом и решительно отвергает глубокие тени – первое средство верроккиевских «академиков» в передаче телесности и пространства. В картинах Сандро ровный холодноватый свет выделяет не то, что должно быть освещенным в реальности, но то, что автор считает нужным выделить и подчеркнуть. Тогда как участки менее значимые для смысла составляют своеобразные паузы и тени, заполненные то краем свисающей или подхваченной ветром одежды, то волнами волос, то ювелирной игрой драгоценной каймы покрывала, что в свою очередь стирает излишнюю для авторской идеи телесность фигур. Тут и там кружевное плетение золотых орнаментов, лишенных статики, полных внутреннего напряжения и словно дышащих, вполголоса вторит тончайшей нервной ткани самих грациозно-трепетных образов.
Законченные контуры боттичеллевское истолкование образа обретает в полной мистической созерцательности «Мадонне Евхаристии». Липпиевский сюжет непритязательной игры подростка-ангела с младенцем Иисусом Боттичелли полностью преображает в символический мотив. Крылатый худенький мальчик протягивает крошке Христу блюдо с колосьями и виноградом, обозначающими таинство причастия – Евхаристии – символ будущих страданий маленького богочеловека.
Не напрасно до времени умудренное личико ангела несет на себе горечь раннего всеведения, и плавно, почти неуловимо возникая на полудетских его губах, впервые рождается особенная улыбка, почти скептичная при несомненной доброте его обращения к малютке Христу. Да и Мария не просто счастливая мать. Сдержанная, она тем не менее полна скрытого беспокойства, как и все в этой тихой, с виду такой вполне уравновешенной сцене.
Многозначительное собеседование настроений для Боттичелли гораздо важнее любого реально-непосредственного прикосновения, любого контакта.
Тем не менее в ранних Мадоннах Сандро нет ни повышенной религиозности, ни излишней экзальтации. В них искусство художника, оставаясь все еще чувственным по форме, в области содержания вырывается за рамки непосредственных ощущений, столь близких сердцу его учителей, и устремляется в поиск воплощающей индивидуальную духовность красоты.
Начало исканий
В конце января 1474 г. Сандро Боттичелли отправляется в Пизу, намереваясь осмотреть восемь фресок для пизанского кладбища, недавно законченных плодовитым декоратором Беноццо Гоццоли, втайне имея в виду превзойти последнего, добившись у пизанцев большого заказа. Чтобы показать им свое мастерство, он берется с июля работать над фреской «Успение Богоматери» капеллы дель Инкороната в Пизанском соборе. Однако заказчикам, больше привычным к старой декоративной манере непритязательного рассказчика Беноццо, по-видимому, не по вкусу пришлись интеллектуальные новшества молодого флорентинца. Все кончилось взаимным неудовольствием. В конце сентября Боттичелли, в досаде бросив незавершенную роспись, не удовлетворившую и его самого, покинул негостеприимный город, чтобы никогда более в него не возвращаться. Это был первый и довольно чувствительный удар, нанесенный обидчивому самолюбию молодого идущего в гору мастера.
Еще до конца года он успевает исполнить во Флоренции «Святого Себастьяна» – произведение, завоевавшее большой успех. Среди многих вопросов, занимавших его в то время, картина решала проблему движения, насущно стоявшую на очереди во второй половине XV века.
Очень возможно, что, числясь еще подмастерьем у Липпи, Сандро посещал интенсивно работавшую мастерскую братьев Поллайоло, где в творениях гравера, живописца и скульптора Антонио нашел такую законченность деталей, точность рисунка и гармоническую уравновешенность целого, которой недоставало фра Филиппо. В несомненной связи с поиском Поллайоло в области механики движений стремление Сандро в «Святом Себастьяне» дать свой вариант разрешения этой задачи.
Одним из первых с пытливостью ученого интересуясь строением человеческого тела, Антонио, по словам Вазари, «снимал кожу со многих людей, чтобы под ней разглядеть их анатомию», то есть систематически изучал анатомию на трупах. Гипсовый слепок его прославленного барельефа «Битва голых» употребляется в те дни многими художниками во Флоренции в качестве наглядного пособия наряду с античными.
Даже бездеятельно стоящие фигуры не бывали спокойны у этого фанатика активного движения. Таков его святой Себастьян в окружении поражающих его лучников. В картине Поллайоло, сыгравшей не последнюю роль в создании аналогичного сюжета Сандро, этот герой выглядит бледно в сравнении с остротою физического напряжения, богато представленного разнообразными позами свирепых его мучителей.








