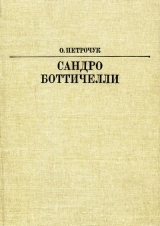
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Но особенно удаются нашему любителю курьезов одушевленные блуждающие огни, которые, как диковинные кусты, взметнувшись, вздымаются вверх. Как у Данте, так и у Боттичелли это обозначает горение мысли. Человек, воплотившийся, подобно Савонароле, в огонь, – самая близкая художнику тема метаморфоз и самый простой – а потому и совершенно законченный – способ изображения в виде пламенного цветка. В гибких ритмах музыкально-прозрачных и страстно-подвижных звучаний своих маленьких костров Сандро запечатлел излияние огненного духа одержимых искателей и пророков, подобных дантовскому Одиссею-Улиссу.
Правда, в боттичеллевском Аду герои, особо любимые Данте – от Фаринаты до Уголино, – ничем не выделяются среди сонма других, безлико страдающих душ. Но зато иллюстратор еще усиливает мотивы сочувствия терзаемым грешникам. Там, где даже у автора поэмы ощущается холодок равнодушия, у художника возникает новое сострадание, является тема всепрощающей любви и доброты всеобъемлющей – и тогда Данте в рисунках, охваченный жалостью, участливо устремляется ко многим наказанным. Алигьери в боттичеллевских иллюстрациях, подобно Вергилиеву Энею, свершает этический подвиг – спасая свою душу, стремится духовно спасти человечество.
При переходе к Чистилищу контрастная светотень и пластика адских видений сменяется ясностью дня, скрадывающей резкость всех очертаний, и самый рисунок Боттичелли смягчается вместе с возрастанием мелодичности дантовского стиха. Чистилище характеризуется расширением пространства, но еще важнее в нем – пространственность души, лирическое углубление в более человечные чувства. Сложно разработанный пейзажный фон Ада здесь фактически заменяет звенящая пустота – ритмы становятся значительно свободнее, собранные в клубки и пучки тела словно рассыпаются, вытягиваясь в цепочки и вереницы неуклонно движущихся в одном направлении людей. Непрерывный путь взыскующих высшего совершенства тяжел и тернист, зато в нем художнику всецело предоставляется возможность вариаций «чистого» искусства в певучих линиях, дающих вибрацию то горестно стонущих, то нежно звенящих ритмов.
Утомительно бесконечны извивы дороги, виляющей в гору среди мертвых кристаллов камней, но некий цветущий сад манит искателей там, на вершине. Сад этот – Дантов Земной Рай, не подвластный ни зимам, ни буре, – давно знаком, давно обжит воображением Боттичелли – тот же самый, где царила его «Вечная Весна».
Но на пути к ней целые дебри дремучего огненного леса вырастают впереди. Извиваются перед поэтами пламенеющие вихри, сплетаясь, словно в ритмическом танце, образуют целую стену огня. Тем не менее вслед за отважными душами искателей и Данте неустрашимо кидается и входит в него. Живой очистительный огонь живее душ, им охваченных, живее самой жизни. Вернее, для жаждущих очищения он и есть сама жизнь – опаляющая, но захватывающая – оттого они так к нему тянутся. Особенно запоминаются двое, через пламя протянувшие друг другу руки, полные трогательной поддержки. Здесь сострадание уже намечается как страсть, которая так вспыхивает и разливается в «Клевете» или «Оплакиваниях».
Пройдя через горнило очистительного огня, поэты падают в изнеможении, но затем уже им открывается лес иной – прохладно-весенний мир живых и юных деревьев, стройных, еще почти безлиственных тростинок ранней весны. Тот лес заслонял пути, эта прозрачная рощица со своею «землей, дышащей цветами и травой», открывает сияющую и многообещающе веселую бесконечность впереди, между хрупкими колонками молоденьких тонких стволов.
Оттуда перед изумленными, но ждущими чуда поэтами является девушка, с детскою непосредственностью гибко склоняясь, самозабвенно рвущая еще скудные весенние цветочки; она же с царственной грацией приветствует странников нескончаемо плавным взмахом продолговатой руки. Это Мательда, нимфа священной рощи, дриада, приравненная к образу библейской Лии. После отчаяния и мрака Ада, сменившегося меланхолическим томлением Чистилища, с нею приходит к путникам луч чистой радости, и в ее предощущении весенний пейзаж сливается с женской фигуркой в единое певучее целое. В преддверии Земного Рая, где обитает прекрасная Мательда, природа не фон, а «действующее лицо». Летящий шаг полувоздушного создания предвещает, как апофеоз, скорое явление «Небесной возлюбленной» автора Беатриче.
У Боттичелли, в отличие от Данте, Беатриче от своего появления и до конца остается владычицей всего. Все сплетается в экстатическом хороводе безмерно ликующей и немного тревожной «Осанны» с появлением колесницы владычицы, везомой грифоном в сопровождении серьезных юных ангелов и почти детски ликующих старцев. В рисунке, подобном апокалипсическим видениям, иллюстратор оживляет незабвенные флорентинские праздники мая, а три юные добродетели заставляет со знакомым изяществом Граций кружиться в космически нескончаемом рондо. Лишь одна Беатриче – первопричина всего видения – сохраняет величественное спокойствие – легкая, нежная, царственная, но одинокая. Однако Алигьери, узнавая богиню своей души, потрясенно опускается на колени.
Последний полет
Беатриче властно берет в свои руки дальнейший путь поэта. На рисунке Боттичелли этот момент выглядит как переход от земных восхождений к полету – Беатриче посредница между двумя мирами – это сама любовь, приподнимая, отрывает Данте от земли, увлекая в воздушные выси. И вот уже оба они между двух миров, схематически обозначенных горизонтальным кругом земли и вертикальным кругом неба в схеме рисунка, где умозрительная космография сочетается с самым живым человеческим чувством. Возносясь в райские сферы, и Беатриче и Данте помнят о земле – прощальный шелест листвы ее нежно-прозрачных деревьев провожает улетающих. Наибольшая схематичность «Рая» у Данте, страдающая утопичностью всякого идеала, неожиданно предоставляет художнику пространство для новой свободы решений.
В Райском цикле вслед за автором Боттичелли отказался от всякого подобия земного пейзажа – вот когда более всего пригодилось «парение» его фигур, порою мешавшее им на земле. В космическом пространстве оно никому не покажется аффектированным, неестественным или «жеманным». В Райском цикле получает свое окончательное выражение светоносность и лучезарность, даже светоизлучение, извлекаемое Боттичелли из белизны простого листа. Боттичеллевский «Рай» – весь вибрация сквозной, заполненной светом беспредельности, в которой единственные герои – Данте и Беатриче – две почти философские абстракции, идеальные олицетворения понятий, оживленные волшебством боттичеллевских линий, оставшись наедине, ведут диалог одновременно интимный и космический, полный порыва и радости, смущения и веры.
В двадцать третьей песни «Рая» Данте видит себя в центре круга – в центре мироздания, чтобы уразуметь архитектонику вселенной, которая есть и архитектоника его всеохватной поэмы. Круг – самый емкий, самый лаконический образ нескончаемого. С первой по тридцатую песнь боттичеллевские Беатриче и Данте, разнообразно варьируясь в гармонии круга, знаменуют духовную безграничность человека и нерасторжимый союз двух сердец.
И в этом Боттичелли идет еще дальше поэта по пути обобщений – и мощь божества, и ступени святости он сводит воедино в подвижных и нервных чертах одного-единственного лица – вдохновенного лица Беатриче. Обрисовать образ Беатриче чрезвычайно трудно – так как отвлеченная божественная мудрость в ней слита с живыми чертами женщины. Красота ее светлеет, поднимаясь все выше в высотах Рая, но Боттичелли понял главное: то, что этой отвлеченной и неземной красоте сообщают отзвук жизни и человечности душевные движения, настолько порой сокровенные, что поэт, энергичный и решительный во многих случаях жизни, здесь проявляет в описании трогательную недоговоренность:
«Я взгляд возвел к той, чьи уста звучали
Так ласково; как нежен был в тот миг
Священный взор – молчат мои скрижали».
Но Сандро, истый певец и ценитель глубинно-интимного, более всего возлюбил у Данте стыдливый язык умолчаний – и, подхватывая его с полунамека, сделал почти законом, с непринужденностью заполняя застенчивые пробелы.
Не меньшее значение, чем действие взгляда, в трактовке Боттичелли имеет волшебная магия движений. Именно с поднятой ввысь гибкой руки Беатриче начинается полет всего тела – она предрешает его направление. Художник шел к этому от общей окрыленности в «Весне» через крылатую чету Зефиров в «Рождении Венеры», придя наконец к передаче полета вообще без крыльев. Свободно парящая в высочайших сферах духа, Беатриче учит летать еще неловкого спутника, и он научается. От Песни к Песни полет его становится все более непринужденным и смелым. Неотрывно глядя в глаза своей владычице, Данте возносится с нею в сферу Луны со скоростью света, предельность которой приближает это движение к состоянию покоя и неподвижности. Человек познает безграничность своих возможностей, весь проникаясь ясным пониманием их. Свободно следуя за полетом философской мысли поэта, Боттичелли удается вместе с тем отразить в символической, но живой и трепетной форме все сложные перипетии взаимоотношений человеческой любви.
Постепенно круг влюбленных становится только малою частью, вливаясь в еще больший круг мироздания – в область одушевленных небесных огней, центром которых служит солнцеподобная небесная роза. Их круг по-земному плоский в сравнении с этими многомерными сферами высших небес. Оба стоят в нем, закинув головы, плечом к плечу, ставшие наконец равными в своем восторге, – здесь они почти сравнялись в росте!
«О радость! О восторг невыразимый!
О жизнь, где все – любовь и все – покой!»
Минута священного молчания перед лицом самой вечности. Над головами влюбленных кружение сфер огня. Они приближаются, и восторг двоих переходит в смятенный экстаз. Боттичелли так и не изображает ни предка поэта Каччагвиду, ни Катона Утического, ни даже св. Петра – никого конкретно! Зато он делает зримой всеобъемлюще поэтическую музыку небесных сфер.
Сияет во всеоружии небесное воинство – родящее свет, порожденное светом боттичеллева листа, передающего даже и то, как в «Осанне» вздымаются юные ангельские голоса. Цепь волшебных преображений замыкается с исчезновением Небесной возлюбленной; но улыбка ее доносится до поэта подобно волне света. Так для Боттичелли высочайший свет искусства в свечении его Эмпирея сливается с сиянием всепоглощающей любви.
От «Ада» к «Раю» все менее иллюстративными становятся иллюстрации Сандро, все более непринужденно свободными. Художник, дерзающий по стопам Алигьери открывать для грядущих веков новые бездны и особенно – новые выси, больше всего приближается к первоисточнику, занявшись, казалось бы, чистым самовыражением. Впервые в европейской культуре возникает тщательное, но лирически свободное художественное переложение на язык другого искусства. Боттичеллевский рисованный цикл – первая поэзия, иллюстрированная с полным осознанием ее поэтической специфики. Путь к ней пролегает от рассказчика-кватрочентиста к достижениям чистой графики и пластики, от изображения тела и впечатления глаза к высотам чистого чувства, индивидуального сознания и духа.
Поступь «Железного века»
Однако в реальной жизни Боттичелли совершил обратный выводам Данте и своих иллюстраций путь – от шаткого «рая» медичейской культуры через «чистилище» савонароловской революции к «аду» одиночества последних лет.
Последними живописными работами Сандро считаются циклы небольших панно, величиной и продолговатым форматом напоминающих крышки для свадебных сундуков – кассоне. Два панно «История Виргинии» и «История Лукреции» были исполнены для комнаты в загородном доме флорентийского златоуста Гвидантонио Веспуччи. В любых обстоятельствах гладкоречивый и при любом правительстве неизменно процветающий законник приобрел этот дом в марте 1499 г. и заказал Сандро и Пьеро ди Козимо «картины в ореховых рамах, в виде бордюра и шпалер». Занимательный мифологический цикл декоративного выдумщика Пьеро, переполненный фавнами, вакханалиями и путти, противостоял трагической серьезности боттичеллевских «историй».
Странные маленькие панно дома Веспуччи во многих чертах обнаруживают несомненное сходство с гораздо более крупной композицией «Клеветы», однако в их «античных» мотивах вместо целостного еще эстетического гуманизма последней, скорей, ощущается дух современного религиозного бунта. Движение смятенно-стремительно развивается вдоль доски, разбиваясь на ряд эпизодов-картинок, в виде отдельных маленьких ритмических смерчей. Обе легендарные «истории» напоминают театрализованные представления, когда в наглядных действиях изображались этапы всемирного владычества Рима в древности, и, как всегда у Боттичелли, театрально условный характер ничуть не снижает их напряженного драматизма. Оба сюжета фактически вариации на одну и ту же тему – о трагической женской судьбе.
Старая легенда о юной Виргинии заимствована у древнеримских историков Тита Ливия и Валерия Максима. Древнеримские «добродетели» Сандро отражает в мечущихся фигурках персонажей первого плана, что не мешает ему поместить на рельефах объединяющей все действие арки скульптурные изображения средневековых героев. В драматическом конфликте, где живое волнение человека, как в «Покинутой», наталкивается на давящее величие архитектуры, автор, с особенным расчетом сталкивая, сопрягает и сравнивает современность и древность.
Убийство невинной Виргинии ее собственным непреклонно добродетельным отцом привыкли рассматривать как суровую моральную необходимость. Боттичелли со свойственным ему духом сомнения пересматривает этот вывод с точки зрения своих новых нравственно-этических позиций. Совместима ли с утверждением добродетели жестокость? Боттичелли, успевший хорошо узнать этому цену – от казни Торнабуони до костра Савонаролы и бесчинств «компаньяччи», которые все ведь тоже неизменно оправдывались гражданским долгом и государственной пользой, – пытается опровергнуть зверство «железного века» примерами легендарных античных историй. И более всего одинокий художник восстает в них против современных вариантов «цезаризма», проецируя в «древние сцены» недавние воспоминания о преступлениях «нового Цезаря». Согласно историку Паоло Джовио, французский король Людовик XII, считавший Борджа семьей преступников, тем не менее отозвался о пресловутом «прекраснейшем обмане» герцога Валентино как о «деянии, достойном римлянина». Для Сандро Боттичелли такая оценка соответствует поруганию истины.
В «Истории Лукреции» внешняя изломанность жестов и внутренний надлом образов еще заметнее, чем в «Сценах из жизни Виргинии». Как в нелюбимом самим Боттичелли сюжете фрески «Наказание восставших» в Сикстинской капелле, здесь соблюдено трехчастное деление, в центре которого в качестве символа неколебимости римского могущества высится та же арка императора Константина, но в самой картине решение сцен гораздо более спутанно и невнятно. Намеренно избегая сикстинской достоверности, художник создает совершенно особый, странный, неязыческий и нехристианский мир, сверх всякой меры переполненный пафосом трагической безнадежности.
Особой трагичностью с печатью обреченности отмечена болезненно хрупкая красота светловолосой героини, поникшей с первой же встречи с насильником Тарквинием, чей хищный орлиный профиль противопоставлен ее нежности и безволию, а одержимость запретною страстью – ее чистоте.
Автор ее, кажется, полностью отчаялся в излюбленной идее своей молодости – идее об удивительном «всесилии» женственной слабости. Прелестная слабость растоптана – показывает он в согласии с трогательно простым текстом Овидия:
«…ни сил у нее, ни голоса в горле
Нет никакого, и все мысли смешались в уме.
Но задрожала она, как дрожит позабытая в хлеве
Крошка-овечка, коль к ней страшный склоняется волк».
Такою, только скорее сломленной, нежели просто склоненной, Лукреция предстает после своего невольного греха перед удивленной группой родственников – мужчин. Трое из них, по-разному к ней наклоняясь, бережно, почти робко пытаются поддержать ее неуклонно падающую фигурку. Четвертый, неукротимо гражданственный Брут, вздымает распростертые руки над всею печальною группой, словно призывая небо в свидетели вопиющей несправедливости совершенного злодеяния, напоминая фигуру негодующего «свидетеля», венчающую сцены «Оплакиваний Христа».
«Рана открыта ее. И Брут, созывая квиритов,
Громко кричит обо всех гнусных поступках царя.
Что ж, победитель, ты рад? Тебя победа погубит:
Ведь за одну только ночь царство погибло твое!»
Но Сандро в финале своей версии расходится с Овидием, сознательно не показывая акта осуществленной мести злодею Тарквинию. Для художника все обрывается со смертью его жертвы, и никакое возмездие оскорбителю не возвратит к жизни напрасно загубленную красоту. Безжалостное все поправшее беззаконие, равно как безжалостный «римский» закон, с равной жестокостью давят беспомощных и невинных.
В почти кричащей открытости цвета, в жесткости всех очертаний обе картины отличает какой-то почти металлический привкус. В них словно бы слышится бряцание металла, но не тот победный звон римского оружия, который воспел в своих воистину «железных» «Триумфах» влюбленный в римские древности Андреа Мантенья, а печальный, зловещий лязг и скрежет. Это все, что осталось у Боттичелли от древнеримских гражданственных «добродетелей».
Придерживаясь ныне избранной линии, он возвращается к живописным приемам минувших времен, вплоть до эпохи кристально ясного и невинного фра Анджелико. Но Боттичелли изначально лишен удивительной цельности Анджелико, и оттого разрывает со многим, недавно еще любимым, окончательно отрекаясь от реалистических завоеваний своей молодости, от усвоенных некогда законов и методов постижения видимой действительности, то есть от перспективы, от могущества светотени, передающей пластичность вещей. Всем новациям младших своих современников бывший новатор противопоставляет одно – упрямое архаизирование, но архаизирует Боттичелли не из удовольствия «чистой» архаики – из-за принципиально иных идеологических задач.
Как далеко зашло печальное преображение художника, свидетельствует резко изменившееся соотношение героя и среды в его поздних вещах. Связь обрывается – теперь давящая непроницаемость неподвижных архитектурных кубов открыто противостоит возбужденному исступлению, жару жестикуляции бесприютных фигурок людей. Идейно-психологическая нагрузка всецело ложится на них, но в силу все возрастающего «самоумаления» боттичеллевских персонажей они все чаще объединяются в группы, образующие порою столь же сложный линейный арабеск, как прежде отдельная фигура, но даже в целой группе их меньше весомости, нежели в прежней отдельной фигуре. Неудивительно, что Сандро Боттичелли с некоторых пор не замечают – ибо что за масштаб представляют крошки – герои картинок – кассоне в сравнении хотя бы с «Гигантом» победоносного Буонарроти?
Незамеченные «Чудеса»
В разгар художнической баталии двух флорентинских «гигантов» Леонардо и Микеланджело Боттичелли пишет серию миниатюрных картин на сюжеты из жизни святого Зиновия – четыре деревянные панели для украшения больших церковных ларей. Томимый вопросами совести и морали, Сандро создает в своем житии святого концепцию о человеке, как о пылинке, носимой ветром.
Флорентинский епископ Зиновий жил в IV веке, но Боттичелли переносит его в современную Флоренцию и деяния святого превращает в почти обычные уличные сценки. Все они решаются на фоне архитектуры конца XV века в духе Джулиано да Сангалло. Как жизнеописания древнеримских языческих героинь украшали скульптуры христианских героев, так языческая орнаментика вторгается в житие христианского святого – пилястры украшены «гротесками» в подражание орнаментальным росписям, найденным на развалинах древнеримских вилл.
Характерно повсюду преобладание голых камней в пейзаже сугубо урбанистическом. С наступлением тяжкой зимы его жизни окружающая среда становится для художника все холодней. Пейзажи серии поражают особой отстраненностью от живого и жизни. Изображенные в ней в холодных и светлых красках дома кажутся необитаемыми. Улицы, безжизненно чистые, словно выметенные, совершенно пустынные, уводят в до жути бесприютную глубь, своею мертвенной пустотой приводя на память недавние страшные времена эпидемий. В странном свете предсмертной «архаики» Боттичелли жизнь постигается, разворачивается и предстает как сцепление внезапных случайностей и роковых катастроф. Ощущение тотальной катастрофичности, сокрушающей жизни людей, бедности их, смертей и несчастий в маленьких этих панно перевешивает даже удивление хрупкому чуду епископских увещаний и исцелений.
В эпизодах гибели и воскрешении маленького мальчика центральный мотив композиционно сродни «Поклонению волхвов», но фантастически и трагически преображенному: масса коленопреклоненных мужчин перед женщиной с младенцем – но ребенок мертв, а женщина плачет. Тема приветствия младенцу и матери сплетается с противоположным мотивом оплакивания погибшего сына. Незабываем продолжающий один из ведущих мотивов «Пьета» контраст полыхающих и подвижно живых волос матери с мертво повисшими, как его неподвижные руки, светлыми прядками сына. Не напрасно заключительным эпизодом этой картины является сцена смерти самого святого, которая как бы удваивает собою преобладающий мотив оплакивания, в многочисленных жестах подчеркивая по-простонародному безоглядные всплески чувств. Это метания, ни к чему не ведущие, как у больного в бреду, не облегчающие, но утомляющие, не остановимые, кажется, уже ничем, кроме полного забытья смерти. Цветовые пятна во всех панно резко контрастируют между собой, как в средневековых миниатюрах. В рисунке – полное пренебрежение реалистическими завоеваниями тосканской школы. Тем не менее в согласии с уже установленной традицией Возрождения рисунок квадратиков пола задает ритм некоторым сценам. Если в смятенном «Благовещении» он был относительно спокоен, то в «Истории Зиновия» даже этот ритм обретает драматическую динамику.
«Чудеса св. Зиновия» – попытки воскресить в живописи простонародный и неистовый, поэтический и при всей одухотворенности до боли человеческий, земной жар возвышенных проповедей феррарского пророка.
В свое время мужественный юный гений Мазаччо выказал в своих фресках захватывающее сочувствие нищим страдальцам, «труждающимся и обремененным», но было оно жизнеутверждающим, исполненным силы и света даже в изображениях самых убогих калек. Сандро, сам ставший одним из них, в своем поминутном обращении к ним, заполняющим в ожидании чудесных исцелений жизненный путь его св. Зиновия, утверждается лишь в безнадежности.
Смерть Филиппино Липпи
В январе 1501 г. популярный живописец Филиппино Липпи рекомендован для росписей аудиенц-зала палаццо Пубблико в Прато, где некогда была похищена его мать. В 1503 г., через два года после того, как вся Флоренция восхищалась картоном Леонардо да Винчи к «Святой Анне», флорентинские братья – сервиты ввиду отъезда последнего вторично обратились с просьбой об образе для главного алтаря церкви Аннунциаты к безотказному Филиппино, который некогда отступился от него в пользу гордого винчианца. Давно ли младший Липпи вместе с учителем участвовал в комиссии по установке микеланджеловского «Давида»? Однако едва написав половину одной из двух полагавшихся досок заказа сервитов – верхнюю часть «Снятия со креста», тихий сын шумливого фра Филиппо 18 апреля 1504 г. для всех неожиданно «отошел из сей жизни в жизнь иную». Болезнь, налетевшая стремительно и внезапно, унесла его в несколько дней.
О лучшем ученике Боттичелли проницательный агент Лодовико Моро, некогда назвавший Сандро «художником исключительным», выразился, что «его произведения имеют более мягкий характер, но не думаю, чтобы были очень сильны художественно». Дитя незаконной любви жизнерадостного фра Филиппо, рано потерявший отца, он в двенадцать лет становится названым сыном Боттичелли. Оттого, может быть, Филиппино вырос иным, не в пример избалованному Сандро без капризов и склонным ко всяческому прилежанию, к тихой семейной жизни. Слава пришла к нему рано – в двадцать семь лет, однако не сделала его счастливым. Его послушливой гибкости не хватает крепости Боттичелли, не сумевшего оградить своего излишне покладистого приемыша от душевной травмы – пресловутого клейма «незаконнорожденности».
Впрочем, Вазари, подводя жизненный итог младшего Липпи, милостиво констатировал, что Филиппино «загладил пятно (каково бы оно ни было), унаследованное им от отца… не только превосходством своего искусства… но и жизнью скромной и приличной и сверх всего приветливостью и учтивостью». И поскольку «после кончины такого мужа мир лишился всех своих добродетелей», то похороны Филиппино были весьма торжественные, даже пышные. «В тот день закрылись все мастерские на виа деи Серви, как иной раз делают на княжеских похоронах». Весь город, казалось, провожал любимого ученика Боттичелли, чтобы похоронить во флорентинской церкви Сан Микеле Бисдомине.
Как выглядел Филиппино при жизни? В чем-то почти двойник Боттичелли со своим привлекательным, тонким и болезненным лицом, однако робко мечтательный взор его автопортрета весьма контрастирует с тоже мечтательным, но вызывающе гордым выражением в автопортрете учителя. Младший Липпи в искусстве и жизни являет почти поразительный пример податливости влияниям.
Уже в начале своей карьеры он с легкостью усвоил художественную манеру Мазаччо, равно как приемы фра Филиппо и Боттичелли, чем надолго запутал последующих историков живописи, оставив множество работ, по стилю с трудом отличаемых от Мазаччо, отца или Сандро. Продолжая в капелле Бранкаччи незавершенные фрески Мазаччо, он прилежно соблюдает нарушенное предшественником единство времени и места действия, невольно стремясь его уравновесить, пригладить, упорядочить. Облики всех персонажей у Липпи индивидуальнее и конкретнее, но и мельче, банальней, житейски обыденней. В результате трагические апостолы Мазаччо, выигрывая в интимности, в приближении к современности, приобретают несвойственную им приземленность.
У Филиппино нет и лирической непосредственности отца, а отцовская жизнерадостность изначально уничтожена неизменной меланхоличностью его мировидения; тем более нет в нем духовного поиска Боттичелли. Поэтому, пытаясь работать уже в собственной оригинальной манере, он доводит до крайней степени внешнего изыска «античность» и религиозный экстаз своего учителя. Особенно в поздний период творчества в работах Филиппино прогрессирует пристрастие к живописным излишествам, сливающее еще готические отголоски с приметами того, что много позднее получит название манерничанья, «маньеризма».
Правда, Липпи знает античные памятники досконально, как антиквар или археолог, как никогда их не знал Боттичелли, переосмысливая, преображавший их, придавая им новые измерения и глубины в соответствии со своими эстетическими или идеологическими задачами. Его воспитанник относится к «антикам» иначе, как добросовестный театральный декоратор, желая с их помощью придать изображению эффектную внешнюю зрелищность. Превосходя учителя в ракурсах и сложности перспективных построений, он создает в своих картинах и фресках виртуозные, но перегруженные и конструктивно бессмысленные сооружения – истинные предтечи театральных кулис. Наивная, но живая детская сказка кватроченто, как бы состарившись, агонизирует в сценических эффектах этой невеселой оперы.
Соответственно выглядят и ее персонажи – обилие развевающихся волос и взволнованных драпировок, разнообразные причуды в женских прическах Боттичелли у Филиппино становятся общим местом, равно как весьма изящная, но с легким привкусом тривиальности миловидность его белокурых женских типов, облегченно варьирующих труднопостижимый типаж Боттичелли. Он вновь придает пытливым и мужественным ангелам Сандро чувствительные черты переряженных девочек. Сверх всякой меры, до самой болезненной тонкости заразившись боттичеллевской чувствительностью, ученик не наследовал его гордого интеллекта. Неподражательная «странность» Боттичелли, доведя Филиппино до окончательного рабства в почитании и следовании, привела его творчество на грань катастрофы, уведя далеко в сторону от главных художественных исканий эпохи.
Но для основного виновника скрытой трагедии тихого Липпи со смертью его начинается агония, растянувшаяся на годы. Прошлых друзей Сандро разметали политические бури. Единомышленники, сверстники его молодости, свидетели давних гордых побед – все ушли в небытие. Он один пережил их всех, еще не будучи древним старцем – у тогдашних людей, не берегших себя, при чрезмерной жизненной насыщенности был короткий век.
И последним ушел Филиппино, запутавшийся не столько в жизни, сколько в собственных темных фантазиях, Филиппино – доступное, послушное, но такое короткое эхо Сандро Боттичелли. Возлюбленный сын его духа, ставший наглядно утрированным выражением его собственного духовно-нравственного и художнического тупика. Со смертью кроткого Липпи едва ли не обрывается последняя нить, связывавшая Боттичелли с окружающей жизнью.
«Причащение Иеронима»
Годами он ждет приближения собственного конца и даже порою пытается поэтизировать его – в картинах, подобных «Причащению святого Иеронима», где с необычайной интимностью решается тема смерти. Вещь эта находилась в доме Франческо дель Пульезе, ревностного последователя Савонаролы, где висела рядом со «Страшным судом», с ребячески безмятежным «Раем» любимца Савонаролы фра Анджелико.
Соседство отнюдь не случайное, поскольку в «Причащении», прилежно следуя в сюжете давним уже пожеланиям фра Джироламо, Боттичелли еще раз пытается достичь невинности общеизвестного праведника от живописи, однако напрасно – его отходящий старец, крепкий, но сокрушенный болезнью, как и почтительно окружающая его испуганная свита, исполнены не солнечно-просветленного экстаза фра Анджелико, но сумрачно-гордой суровости умудренного познания.
От изысканных Граций приходит Боттичелли под конец к поразительной простоте почти обыденного жеста умирающего в «Причащении Иеронима». Удивительная непритязательность всех персонажей этой простой картины полна скрытого напряжения. Суровая нежность, подмеченная автором в тихой торжественности последнего обряда, сливается здесь со скорбью предсмертного приобщения божеству.
Но небо не раскрывается больше, дабы послать не то чтобы сонмы крылатых спасителей – даже единственный золотой луч, протянутый некогда сомневающемуся Августину, как соломинка утопающему, как последний знак божественной благосклонности навстречу гаснущему взору больного старика. Вся символика заключается в его белой одежде да в убогой циновке – символе нищеты, говорящем о принципиальном воспевании евангельской бедности.








