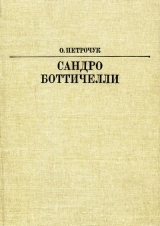
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Все это тем не менее не помешало Буонарроти за несколько недель до изгнания Медичи в октябре 1494 г. поспешно уехать в Болонью, а затем в Венецию – «ввиду близости его этому роду», как утверждает биограф. Но больше чем от опасностей народного бунта или репрессий, грозивших ему как последнему любимому протеже покойного Медичи, больше даже, чем из боязни чужеземного французского оружия (а Буонарроти был далеко не робкого десятка), бежал он от неотразимого, до болезненности потрясавшего его душу влияния Савонаролы.
Летом 1496 г. художник уже в Риме, где создает свою первую юношескую «Пьету», на которой впервые гордо обозначил свою подпись. «Пьета», исполненная почти савонароловской простоты, характеризуется введением приемов развернутого психологизма с самым небольшим оттенком кватрочентистской описательности. Но в том-то и заключается парадоксальность положения молодого мастера – чтобы свободно творить, хотя бы даже в савонароловском ключе, ему необходимо находиться вдали от Савонаролы, дабы обрести необходимую самостоятельность духа.
Ни один из тосканских артистов так или иначе не остался безучастным к учению и личности фра Джироламо, за исключением, может быть, Леонардо да Винчи. В то время как многие большие таланты вроде Кронака всецело предались новому разгулу савонароловских бескорыстных, но иссушающих душу и умерщвляющих тело страстей, некоторые из них, подобно Микеланджело, бежали из Флоренции, инстинктивно охраняя себя. Боттичелли остался.
Французы во Флоренции. Трагедия гуманистов
21 сентября 1494 г. Савонарола, произносивший проповедь о всемирном потопе, окинув взглядом церковь, воскликнул: «Се наведу воды на землю!» – так, как это умел только он один, подобно удару грома. Всю толпу прихожан его охватил несказанный ужас, и именно в этот момент Мирандола, по его собственному свидетельству, ощутил, что волосы его встали дыбом и он весь похолодел в предчувствии несчастий еще невиданных. И они не замедлили обрушиться – именно в эти дни и часы перешла через Альпы французская армия, которой Флоренция не знала, как сопротивляться, поскольку национальные войска ее были слабы, а наемные – продажны.
Впрочем, с французами на этот раз обошлось относительно счастливо – благодаря непреодолимому влиянию проповедей Савонаролы, внезапно, но всецело овладевшему их слабоумным и богомольным королем. Пьеро Каппони – правая рука демократической (и теократической) республики, так же как душа ее – Савонарола – Пьеро Каппони также постарался, чтобы по возможности отвести опасность, действуя где дипломатической хитростью, где демонстрацией, а где угрозой. Хитроумный и ловкий адвокат Гвидантонио Веспуччи и неподкупный республиканец Франческо Валори, со дня победы революции прозванный «Флорентинским Катоном», небезуспешно помогали ему в переговорах в городе. Да и все осмелевшие за период народовластия горожане смотрят на вошедшего во Флоренцию неприятеля не только без страха, но даже с некоторой пренебрежительной фамильярностью. И едва только Карл VIII попытался пригрозить флорентинским эмиссарам, что, дескать, вынужден будет прибегнуть к оружию… Каппони ответил за всех один: «А мы зазвоним в наши колокола!»
Республика сумела мобилизовать все свои силы и средства так, что вынудила обленившееся в бездействии воинство французов пройти через город, почти не причинив ему вреда. Двадцать восьмого ноября в три часа дня неудавшийся полководец Карл VIII сравнительно тихо и явно бесславно покинул Флоренцию. Тотчас во всех флорентинских церквах начались благодарственные молебны, и было о чем: их фра Джироламо, безоружный, буквально прогнал из города до зубов вооруженного чужеземца, сделав недавнего агрессора кротким, как овечка – по крайней мере в отношении флорентинцев. Король как-то сразу ощутил себя в полной изоляции, утратив не только явных союзников, но даже скрытых сторонников. Дальнейшее отступление французской армии из Италии странным образом походило на бегство, хотя никто не преследовал ее. Но ее повелитель вздохнул с облегчением, только оставив позади пределы страны, где похоронил лучшие из честолюбивых надежд.
А во Флоренции, счастливо избежавшей набатного звона, снова и снова победно звонили праздничные колокола. Однако некоторым из ее граждан так и не довелось видеть новое торжество республики – для них до конца остаются в силе только пугающие пророчества Савонаролы…
Так 24 сентября тоскливо и бесславно уходит из жизни Анджело Полициано, некогда блестящий певец земных радостей, юности и любви. Не многие помнят теперь чарующие его, музыкально звучащие строки, зато во множество голосов безобидного и покладистого поэта обвиняют во всех пороках, и главной неискупимой его виной считают интимную дружбу с покойным Великолепным, слишком двусмысленно сложную для восприятия нынешних флорентинцев, занявшихся активным усовершенствованием чужой и собственной нравственности.
Проклятия, брань и презрение проводили в могилу ближайшего друга Лоренцо Медичи, несмотря на его предсмертное запоздалое покаяние, в котором он изъявил желание быть похороненным в одежде доминиканского монаха, подобно высокоученому Мирандоле и непременно рядом с ним в стенах Сан Марко. Златокудрый граф Джованни Пико деи Конти делла Мирандола – само воплощение нежности и деликатности – умер еще раньше – в самый день вступления во Флоренцию французских «варваров», не выдержав внушенного ему новым наставником и другом Савонаролой ощущения неотвратимо надвигающейся катастрофы.
Еще задолго до «очистительных» костров Савонаролы в очередном припадке меланхолической хандры он собственноручно уничтожил свои любовные песни на народном языке, сохранив только свои латинские трактаты.
В отличие от заклейменного всеобщим презрением Полициано Пико многие почитали и любили, но конец того и другого напомнил флорентинцам о последних часах и трагически несостоявшейся исповеди общего покровителя обоих Лоренцо Медичи.
Так безнадежно уходит в прошлое в лице одареннейших своих членов знаменитая Платоновская Академия. Немудрено, если сам главный ее вдохновитель – любитель покоя, музыки, астрологии и житейских удобств почтенный Марсилио Фичино ныне объявляет учение Савонаролы величайшим из всех когда-либо бывших. Так бесконечно печально завершается эпопея «праздных людей», близких по-своему душе маэстро Сандро Боттичелли.
Но умершие поэты, стершие под давлением более сильной личности свою индивидуальность, как выяснилось впоследствии, находились в более выгодном положении, чем живописец Боттичелли. Оба они просто, когда приспело время, перейдя на положение беспомощных детей, переложили все бремя своей духовной ответственности на крепкие плечи сурового нового друга. Сандро, никогда не вызывавший публично на бой целого мира, как Мирандола, принужден полагаться единственно на одного себя. Вечно колеблющийся, в угрожающий час изнеженный с виду художник оказывается в своем существе устойчивее многих.
Впрочем, Боттичелли обладает гибкостью лианы, которая, по видимости, не может существовать без опоры на более мощное растение. Тонкая, хрупкая с виду, но жизнестойкая и в основе крепкая, она не ломается и не рвется. Налетевшая буря крушит и подчас даже вырывает с корнем прямостоящие могучие деревья, но гибко-извилистые плети плюща она только сбрасывает на землю. И, не успеет гроза отшуметь, как слегка отлежавшийся после катастрофы стебель уже ищет настойчиво – и находит себе – новый ствол, новую надежную опору, чтобы, обвившись вокруг нее, снова и после новых падений подняться, упрямо карабкаясь к самому небу. Извилистое труднее сломить, чем прямое, и сила подчас выдыхается раньше, чем гибкость. Такова основа творческой личности Сандро Боттичелли – внешне податливого, зависимого от многих влияний, внутренне – в первооснове, в ядре своего существа – не зависимого ни от кого.
Обезглавленный Аполлон
Фра Джироламо не знал полумер, когда ощущал «отечество в опасности». В церкви, с кафедры, с крестом в руке, он всенародно предлагал предавать смерти тех, кто захочет восстановить во Флоренции тиранию, кто втайне желает возвращения Медичи. Сторонники их весьма оживились с уходом французов, и Савонарола заявляет по этому поводу: «С этими людьми нужно поступать так же, как римляне поступили с теми, которые задумали было восстановить власть Тарквиния».
Результатом подобных его настояний явилось постановление от октября 1495 г., где Пьеро Медичи объявлен бунтовщиком, стоящим вне закона, которого всякому дозволялось убить безнаказанно, причем убивший получит награду в 4000 флоринов золотом. И за голову Джованни Медичи, благоразумного братца-кардинала, также обещана немалая премия в 2000 флоринов. Заранее назначены специальные чиновники по управлению остающимся после них имуществом, доходы с которого поступают отныне исключительно в пользу республики.
Виновник постановлений меж тем в эмиграции в Риме, кое-как убивая тоскливое время изгнания, коротал свои дни в мелком самодурстве и дешевом разврате. Но изредка, отрываясь от сумрачных увеселений, в которых безуспешно пытался утопить свою тоску, Пьеро не забывал с неудовлетворенным и алчущим утоления злорадством тешить себя подготовкой списков с именами самых ненавистных бунтовщиков – своего рода встречный иск на вердикты мятежной республики. Виновников бунта, а также иных, произвольно причисленных к ним, предполагалось всех до единого истребить и, конфисковав в пользу разорившихся Медичи их имения, до основания срыть их дома. При этом даже рассудительный кардинал Джованни, не желая отстать от безрассудного брата, в свою очередь грозился, что смертные казни 1478 г. (удачно запечатленные Боттичелли в уничтоженных нынешней революцией фресках) покажутся детскою шуткой в сравнении с будущей местью наследников Медичи.
А тут как раз в новой Синьории во Флоренции на март и апрель 1497 г. гонфалоньером избирается семидесятипятилетний Бернардо дель Неро, весьма выдающийся по уму представитель партии «серых», искренне желавших возвращения Медичи. «Серые» тотчас направляют гонца с радостным известием к своим изгнанникам в Рим, где Пьеро Медичи незамедлительно принимается строчить послания родичам и союзникам, выпрашивая людей, оружия и денег. Папа и венецианцы с готовностью откликаются, миланский деспот выжидательно молчит. Зато из Флоренции молодые приверженцы Медичи, возбуждая в Инфортунато его даром растраченный пыл, слали послов и письма с фантастическими уверениями, что при первом же появлении сына Лоренцо весь город поднимется за него, перейдет на его, Пьеро, сторону.
Однако, когда наконец Пьеро раскачался для решительных действий, срок промедичейской Синьории подошел к концу, и опечаленный дель Неро шлет в Рим благоразумный совет пока воздержаться от выступления. Но Пьеро Медичи именно в этот неподходящий момент загорелся – он больше не желает тянуть в ожидании «подходящего случая». 27 апреля Инфортунато с тысячей тремястами наемников уже под стенами Флоренции.
С рассветом приблизившись к воротам города, Пьеро, к величайшему своему удивлению, находит их запертыми. Остановившись в растерянности, он целый день с недоумением ждет, когда же город восстанет в его поддержку, в то время как население предместья потешалось над ним и его воинством. И Пьеро, не выдержав ожидания и насмешек, отступил, словно бежал. После этого конфуза он навсегда потерял надежду на реставрацию своей власти, почувствовав, что счастье, которым он только что хвастал, а поймать не сумел, навсегда оставило его.
Во Флоренции инцидент с Пьеро вызвал последствия в виде брожения и некоторых беспорядков, поскольку в Синьории обнаружили себя тайные сторонники Медичи и оттого обнажились взаимная ненависть и подозрительность, обострившие скрытую дотоле вражду между партиями. Наиболее рассудительные стремились по возможности примириться, дабы избежать ненужного кровопролития. С этою целью в тот же тревожный день поспешно избрана новая Синьория, и на новый Совет Восьми возложена обязанность неотступно следить за всеми действиями Пьеро Медичи. «Флорентийскому Катону» Франческо Валори, ставшему членом этого исполнительного органа, поручено расследование медичейского заговора.
От имени верховной власти республики последовало предписание явиться скомпрометированным гражданам из «черного списка». Некоторые из них успели бежать, но пять человек, известнейших в городе, привлечены к суду и признаны виновными в заговоре и государственной измене. Эти пятеро принуждены отвечать за собственную вину – и за намерения своих ускользнувших от ответа единомышленников.
Из них недавний гонфалоньер, престарелый Бернардо дель Неро, обвиняется в том, что, зная о заговоре, не открыл его в свое время властям. Среди подсудимых также человек, который по-особому дорог Сандро Боттичелли, – один из немногих избранных, кого он некогда вознес своим искусством до сияющих вершин, включив в сонм своих олимпийских богов. Лоренцо Торнабуони, кузен Великолепного, любимец муз, чью свадьбу с очаровательной Джованной Альбицци художник воспел в росписях Лемми… Ныне Джованны давно нет в живых, а ее овдовевший супруг заключен под стражу как изменник отечеству.
В результате чрезвычайного заседания – так называемой «Практики» Синьории совместно с Большим Советом – пятеро граждан, по своему положению и влиянию считавшиеся в числе самых первых лиц республики, 21 августа осуждены на смертную казнь с конфискацией всего имущества. Особенно настаивал на смертном приговоре принципиальнейший из демократов Франческо Валори.
Страсти накаляются до предела. Призывом к действию над судилищем незримо витают непримиримые слова их разгневанного пророка: «Ты, который не стесняешься с самим Христом, хочешь стесняться с простыми гражданами? Наказывай, я тебе говорю. Режь им голову. Кто бы ни был виновник, хотя бы он был главой семьи, режь ему голову!» И главный обвинитель Валори, убеждая колеблющихся, угрожая и бранясь, собственноручно обносит ящиком для голосования все собрание, заявив: «Пусть вершится правосудие – иначе произойдут беспорядки!» В результате выносится следующее постановление: «Выслушав мнение и доклад магистратов, Сената и других граждан, требующих наказания, и приняв во внимание, что от промедления может возникнуть явный бунт и опасность, мы повелеваем господам Восьми без промедления, в эту самую ночь предать смерти пять граждан, осужденных в заседании настоящей Практики».
Затем привели осужденных, закованных в цепи и босых. Однако их рубище ни у кого не вызвало жалости, тем более что держались они гордо, в вине своей не покаялись, и, даже узнав приговор, ни один из пяти не просил о пощаде. В сопровождении вооруженной стражи их отводят во дворец Барджелло, где на краткий срок оставляют наедине с духовником для последней исповеди и причастия. Тем временем Валори, ставший на эту ночь как бы полновластным наместником города, расставил вокруг Палаццо до трехсот солдат на случай попытки нападения со стороны многочисленных друзей и родни весьма влиятельных смертников.
Несмотря на поздний час, в городе никто не спал. К месту казни во множестве стекался взволнованный народ, так что, говоря языком современника, двор Барджелло казался как бы адской пещерой. Приходили республиканцы из народной партии, одержимые жаждой мести, вооруженные с ног до головы. Бок о бок стоявшие с ними знатные горожане молча дрожали, боясь выказать скорбь или выдать свое сочувствие приговоренным. Беспорядочная какофония звуков – брань и нестройный гул голосов, лязг оружия – не стихали, но все возрастали вплоть до двух часов ночи.
Вдруг наступает зловещая тишина, в которой слышалось только негромкое позванивание кандалов, – и один за другим предстали перед толпой осужденные в сопровождении магистрата юстиции и исповедника. И Сандро Боттичелли мог видеть недавнего своего героя – законодателя самой изысканной моды, воплощение элегантной простоты и непринужденного изящества, – мог видеть Лоренцо Торнабуони в цепях и рубище, босиком и в пыли. Но даже оковы, грубо сдавившие хрупкие запястья, не в силах изменить до боли знакомой сдержанно-горделивой осанки. Босые ноги почти с прежнею легкостью ступают по затоптанным и холодным каменным плитам двора, словно не признавая оков. Любимейший ученик Фичино не изменяет себе, как изменил учитель, не отрекается от своих убеждений даже в преддверии позорного конца. В ночь с 21 на 22 августа пятеро обезглавлены с негласного дозволения духовного диктатора; тела были милостиво выданы близким для похорон и оплакивания.
А Синьория, слегка покривив душой, наутро писала в Рим: «Весь город единодушно высказался против этих вероломных и отцеубийственных граждан: даже родственники их желали казни. Теперь есть надежда, что мы будем пользоваться некоторое время спасительным покоем, ибо народ одушевлен желанием искоренять в зародыше всякую подобную сорную траву. Да смилостивится господь над их душами: предав отечество, они имеют в этом великую нужду». После казни Торнабуони и Неро Синьория на протяжении трех месяцев состояла только из «пьяньони». Но казнь пятерых оказалась как бы высшею точкой власти Савонаролы, которая после кровавой жертвы «спокойствию» республики незаметно идет на убыль.
Видимо, не напрасно беспощадная молва упорно твердила, что именно Савонарола является виновником отказа в апелляции по делу Торнабуони и остальных, несмотря даже на то, что он первым настаивал на введении закона о праве апелляции по политическим приговорам. Это потому, что гораздо сильнее его гуманных нововведений в воображение граждан запало савонароловское беспощадное: «Режь ему голову, кем бы он ни был».
И наконец даже внешне прохладный и стоявший вне всяких партий живописец Сандро Боттичелли вспыхивает возмущением, когда, по его мнению, уже перейдена тонкая грань, превышены полномочия, за которыми духовная власть Савонаролы над людьми переходит в фактическую. Выученик скептической дипломатии Медичи, он мог усмехаться презрительно, свысока, когда неразумные жгли на костре любимых его обнаженных богинь. Мог даже относительно спокойно принять малодушие, душевные муки и покаянную смерть недавних друзей – «академиков». Но когда обезглавили его «Аполлонова заместителя», мера его долготерпения переполнилась.
Так или иначе, но только маститый живописец, родственник ставшего рьяным «плаксой» Симоне Филипепи, однажды резко отказывается подписать очередную петицию в пользу Савонаролы, которую предлагал ему богомольный брат.
Лик окружающего мира катастрофически переменился. Окончательное осмысление событий принадлежит художнику, и он, содрогаясь от смешанных чувств изумления и ужаса, сострадания и гнева, оставляет за собою последнее слово.
Глава III
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Несчастный, покинутый всеми, оскорбивший небо и землю, куда я пойду? К кому обращусь? К кому прибегну? Кто сжалится надо мною? На небо я не смею поднять глаз моих, ибо я согрешил против него. На земле нет для меня прибежища, ибо здесь я являюсь предметом соблазна… Братия и дети мои отвернулись от меня. Утроба моя возненавидела меня.
Савонарола
Мистерия «Клеветы»
Все дурные предчувствия Сандро разрешаются взрывом в его «Клевете». Одни исследователи творчества Боттичелли относят эту картину к счастливому времени «Весны» и «Венеры», другие к значительно более позднему – переломным для художника и Флоренции девяностым годам, когда окончательно развеялись его любимые мифы. Подобно «Рождению Венеры», «Клевета» тесно связана с именем легендарного Апеллеса, слывшего в те времена богом-покровителем тосканских живописцев. Только трагически переменился за это время взгляд Боттичелли на мир.
Картина была подарена самим художником одному из его приятелей, эрудиту Антонио Сеньи. Предназначив свой дар для ученого-гуманиста, словно подводя некий важный для себя и других итог, автор постарался вложить в композицию все свои технические, художественные и гуманитарные познания. Фабио Сеньи украсил ее стихотворной латинской сентенцией:
«Чтоб не могли оскорбить клеветой владыки земные,
Малая эта доска памятью служит всегда.
Точно такую поднес Апеллес владыке Египта —
Дара достоин был царь, дар был достоин царя».
Картина таким образом – последнее у Сандро крупное произведение светской тематики, источник которого точно известен: описание Апеллесова сюжета, сделанное Лукианом в трактате «О клевете». Лукиан повествует о том, как некий Антифил, завистливый соперник, оклеветал перед правителем Птолемеем Апеллеса, обвинив его в заговоре против царя. Апеллесу с трудом удалось доказать свою невиновность, и тогда в назидание своим судьям он написал картину, в которой в ряде живых персонажей изобразил всю историю незаслуженно оклеветанного. Это произведение, рожденное в древности жизненной драмой, ренессансный его толкователь Леон-Баттиста Альберти за давностью времени приводит уже в качестве красивого вымысла, «который нам мил сам по себе».
Боттичелли воспроизводит в своем варианте всех, кого перечислили и Лукиан и Альберти, но оставляет за собою свободу в окончательном общем решении и создании ни на что не похожих характеров. В них он возвращает рассказу утраченное за «милым вымыслом» Альберти ощущение животрепещущей сиюминутности. В результате, оставляя позади описания обоих первоисточников, создатель новой «Клеветы» творит уже свою собственную трагическую легенду, то и дело разрывая предписанную ими сюжетную канву так, как сам он считает нужным. Очищенный до жесткой ясности ритмический строй «Клеветы» всецело дает почувствовать человека как игрушку стихийности природы, судьбы и более всего – собственных страстей.
Насущный для этической революции, для теократической республики Савонаролы вопрос о нравственности Боттичелли воплощает в полемически заостренных не христианских – «языческих» образах. Почти в духе проповеди духовного диктатора от 11 октября 1495 г.: «Жизнь человека на земле, братие, есть постоянная борьба… Он должен преодолевать все, что препятствует свободе его духа. Он борется с миром, с плотью, с демонскими искушениями – нет ему ни минуты покоя».
Архитектурная обстановка являет собою целый своеобразною жизнью живущий музей, какого не представляли себе ни Лукиан, ни Альберти. В золоченых рельефах подножия разукрашенного трона, где современность причудливо спутана с древностью, смешение вавилонское священноцерковных и светских «языческих» сюжетов, в которых узнаются слегка преображенные реплики картин, вышедших в последние годы из мастерской художника: легенда о Настаджо дельи Онести по сюжету любовной новеллы Боккаччо, Кентавромахия и сюжеты Овидиевых «Метаморфоз» – Аполлон и Дафна, Вакх и Ариадна – и семейство Кентавров согласно описанию Лукиана. В нишах возвышаются скульптуры героев, неведомых ни Апеллесу, ни Птолемею: Юдифь с головой Олоферна, Давид, святые апостолы и пророки.
В застылости выглядывающих из своих ниш скульптур на фоне невозмутимо бесчувственной стены намечается некое взволнованное соучастие в трагическом спектакле, что разворачивается весьма сценично вдоль рамы. Подобно живым свидетелям, статуи как бы обсуждают происходящее и каждую минуту, мнится, готовы, сорвавшись со своих пьедесталов, активно включиться в конфликт.
Тиранический судья, царящий на своем троне, украшен ослиными ушами профана Мидаса – неправедного судьи в искусстве. Этот отрицательный персонаж довольно благообразен, в чем лишний раз сказывается открытая Сандро человеческая неоднозначность. Но вопрошающий голос деспота теряется в настойчивых возгласах двух ядовитых созданий, олицетворяющих Невежество и Подозрение. Есть нечто почти змеиное в радужных переливах одежд, в нервически длинном и прихотливо подвижном изгибе спины одной из коварных наушниц властителя, в узком, как лезвие, изжелта-бескровном лице другой.
Недоуменно простертый указующий перст владыки встречается в воздухе с незнающей в обвиняющем осуждении сомнений твердой рукой одержимого отшельника – Зависти. Этот наставник Клеветы безжалостно обвиняет невинного. Компактное взаимодействие всех четырех фигур переходит в гораздо более сложный, насыщенный по остроте, трепещущий арабеск центра.
Сама Клевета – самое юное здесь существо и, в противоположность Зависти, в бело-голубом, почти царственном одеянии выглядит истинной сказочной принцессой. Но это полувоздушное, такое невинное с виду дитя с факелом в левой руке правою цепко ухватило за волосы несправедливо обвиненного и с небрежным высокомерием беспощадно влечет его на расправу в окружении не менее прелестных помощниц, обозначающих в свою очередь Коварство и Обман. Обе всячески возвеличивают неправедность своей госпожи: Коварство украшает жемчужною нитью ее пышные волосы, Обман осыпает ее цветами.
Хотя художник, сам вечно колеблющийся, как огонь, и, подобно воде, текучий, не может не сочувствовать угнетенной Справедливости, все же в картине особенной силы достигает прежде невиданный у него образ женщины-оборотня с двойственною натурой очаровательницы и змеи, с неуловимою сущностью хамелеона, то и дело меняющего окраску.
Инфернальное очарование миловидных обольстительниц «Клеветы» напоминает об особой популярности в конце XV века всего «сатанинского», популярности, породившей в германских странах демонические видения Босха, Шонгауэра и Брейгеля, а в Италии – особое неистребимое влечение причудников, подобных Леонардо да Винчи, к изображению огнедышащих драконов, паукообразных машин, звероподобных воинов и злобных уродов. И Боттичелли не напрасно приписывали многочисленные рисунки с изображением различных плясок смерти и шабашей ведьм. Впрочем, для Сандро «демонология», инфернальное начало странным образом обозначили мучительный поворот в нем от язычества к христианству, для которого милые его сердцу богини античности – всего лишь бесовские исчадия Vanitas.
Робкая Справедливость – единственное существо в картине, которое всецело разделяет страдания неправедно осужденного, сочувствует ему. Однако она-то как раз и беспомощней всех. Тронутая увяданием красота этой исхудалой обиженной женщины – только слабая искорка прежнего, юного и земного великолепия боттичеллевских Венер. В «Клевете» два взаимосвязанных общею обнаженностью и угнетенностью героя не только удручающе пассивны, в отличие от всепроникающей динамической активности прислужников зла, но вдобавок еще и оторваны в композиции друг от друга. Между ними трагически говорящий пространственный разрыв, который мрачная фигура старухи Совести ничуть не скрадывает, но подчеркивает до надрывной пронзительности резкостью угловатого силуэта, темным пятном неприглядно тяжелых одежд, зияющим почти провалом в картине.
Редкое даже для Боттичелли разнообразие до мельчайших тонкостей разработанной гаммы настроений фигур и напряженных интервалов между ними, не оставляя без эмоциональной нагрузки, в сущности, ни одного куска картины, делает зримой всю полифонию звучащих в картине взволнованных голосов.
«Клевета» знаменует не только последнее, до ярости непривычное утверждение былых привязанностей, любви и гнева Сандро Боттичелли, но и начало его тяжкого отречения от прежде любимых тем и образов, словно неожиданный шаг от эстетики «Весны» с ее «садом любви» к отрицающей мирские радости этике Савонаролы.
Поэтому в прощальном своем обращении к античности Боттичелли удаляется дальше, чем где бы то ни было, от объективности, трезвой гармонии и равновесия древних. Драматическим пафосом «Клеветы» замыкается для искусства Сандро период, связанный с языческой мифологией, и намечается путь совершенно иному, более откровенно исповедальному и обнаженно трагичному направлению его творчества.
Самовольное следствие
Жертвой предательской клеветы волею судеб станет не кто иной, как казавшийся всемогущим фра Джироламо Савонарола. «Они кричат, что я не пророк, а делают все, чтобы пророчества мои оправдались». Сам он давно предвидел такую участь, не раз утверждая, что маловерные и малодушные сделают с ним «то же, что братья сделали с Иосифом, продав его купцам египетским».
И вот уже в письме, оснащенном вместо аргументов обильною бранью, «великолепные» члены очередной Синьории и нового Совета Десяти докладывают архипастырю в Рим: «Мы нашли этого монаха, или, чтобы не называть его ни монахом, ни человеком, эту подлую тварь, исполненную самых гнусных пороков. Его ученик фра Доменико осмеливался бога призывать в свидетели слов и учения своего учителя, заявляя, что он скорее предпочтет, чтобы его повесили, чтобы прах его был рассеян по ветру, выкинут под дождь, нежели признает их ложность. И мы, осуждая его на смертную казнь, устроили так, чтобы прорицания его оправдались во всех частях… Эти монахи имели конец, достойный зловредных их соблазнов».
Среди писавших это были не только старые враги проповедника, но и те, кто совсем недавно верил в него и слушал его как бога. В полном соответствии со стилем этого верноподданнического послания молодые последователи правящего Совета, бывшего в то время Советом Десяти, совершили еще одно шутовское и страшное действо. В ночь под Рождество 1498 г. группа шалопаев, прозванных в городе «компаньяччи», загнала во Флорентинский собор Санта Мария дель Фьоре одряхлевшую старую лошадь и ударами палок на самом пороге забила ее до смерти. Это бессмысленное зверство было проделано в знак особого надругательства над памятью фра Джироламо Савонаролы.
Кто такие «компаньяччи»? Наиболее оголтелые члены антисавонароловской партии, не напрасно получившие наименование «озлобленных». И еще – недавние приятели известного живописца Сандро Боттичелли. Хотя сам он никогда не принадлежал к тем, кто топчет поверженного противника – напротив, всякий побежденный вызывал в нем живое участие. А если к тому же в своем унижении он проявлял непоколебимость и мужество, Сандро не мог не почувствовать того, что Данте назвал «содроганием сердца», которое – он это знал – влечет за собою всю неизбежность духовного кризиса.
Перелом, намечавшийся в нем с конца восьмидесятых годов, ныне вступает в свою кульминацию. С некоторых пор Сандро Боттичелли уже не способен выпрямиться в прямом и переносном смысле. С некоторых пор он тяжко болен.
В самой болезни Сандро было нечто почти символическое. Однажды и раз навсегда старчески скрюченная спина выглядела словно придавленной незримым камнем, который в Дантовом «Чистилище» обречены вечно таскать на себе неисправимые гордецы. Как бы в назидание за прежнее чувство превосходства живописец уже при жизни сполна получает авансом то, что поэт предназначил себе самому только в загробном мире. И вот он уже не ходит привычной летящей походкой, а еле таскается на своих костылях. Было ли это неизбежной расплатой за беспорядочно проведенную молодость, за медичейскую неумеренность чувственных радостей? Несомненно, но еще справедливей другое. Свет его жизни затмился, ибо возмутилась ясность духа некогда бессменного и блестящего учителя новейшего «искусства любви».








