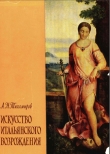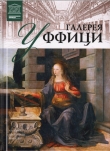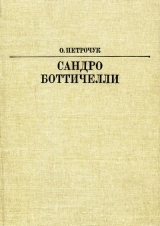
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
О. ПЕТРОЧУК
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ
Есть существа с таким надменным взглядом,
Что созерцают солнце напрямик;
Другие же от света прячут лик
И тянутся к вечеровым отрадам
И третьи есть, отравленные ядом
Любви к огню, и пыл их так велик,
Что платят жизнью за желанный миг.
Судьба дала мне место с ними рядом!
Петрарка (Пер. А. Эфроса)
ВВЕДЕНИЕ

Автопортрет Боттичелли. Фреска Сикстинской капеллы. Рим, 1481–1482.
В свете литературных, исторических, философских ассоциаций Сандро Боттичелли возникает то классиком, то романтиком, то эпикурейцем, то мистиком, то психологом, то формалистом. В нем находили мужество и женственность, сказочность и реальность. Так или иначе, Боттичелли не был художником, определяющим рубежи искусства своей эпохи – скорее, он был уклонением от ее основного пути.
Но именно всеми отмеченное непостоянство натуры живописца сделало его творчество для нас воплощением всего аромата, всей весенней свежести раннего итальянского Возрождения, обетованной землею которого по праву считают Флоренцию – город, где Сандро Боттичелли родился и умер, всецело прочувствовав и пережив тот период, когда Европа готовилась к обновлению своей культуры. Во Флоренции второй половины XV века острее, чем где бы то ни было, ощущалась напряженность тогдашней жизни. А Сандро Боттичелли как никто другой был плотью от плоти этого города, этой жизни.
Судьба живописца сполна испытала воздействие бурь напряженной эпохи. Его тонко-прозрачное искусство, то безмятежное, то смятенное, впитавшее в себя множество современных художнику противоречий, – причудливое, пронзительное, но внутренне чрезвычайно правдивое отражение самых глубинных ее веяний. Правда, для времени биографий, сверх всякой меры наполненных приключениями, жизненная история Сандро Боттичелли выглядит весьма небогатой, прочерчиваясь на общем ярко событийном фоне Ренессанса как бы пунктиром, светит, скорее, чужим, отраженным светом, однако духовная ее насыщенность сполна заменяет недостаток житейских перипетий. История души художника является вместе с тем и историей его искусства. И это преобладание внутренней жизни над внешнею формой ее выражения – первое качество, которое делает наследие Боттичелли удивительно близким особенностям современного восприятия.
Эта книга – попытка рассказа о жизни и характере творца, необычайно насыщенных психологически, в неразрывной связи, в разнообразнейших сопряжениях его со многими историческими событиями и лицами, в их близости или чуждости ему.
История, поэзия и философия, сыгравшие немалую роль в становлении и развитии художнического облика Боттичелли, при подобном подходе служат уже не фоном, а живою действенной средой, в которой и герой – лицо живое, по-своему активное.
Среда, породившая необычайно острые социальные и духовные контрасты шедевров искусства и невероятных жестокостей, хищничества и подвига, святости и греха, утонченностей красоты и уродства. Эпоха гениальных артистов и великих авантюристов, зачастую сочетавших в одном лице то и другое, подобно Лоренцо Медичи. В отличие от них Сандро Боттичелли был художником по преимуществу, но, не имея в себе авантюрной складки, тем не менее был способен понять натуры совершенно ему противоположные. Они занимали художника, как все вообще неповторимо особенное. Этот интерес, это любопытство сделали Боттичелли одним из первых в Европе художников, дерзнувших вглядеться в душу отдельного человека и открывших в ней своего рода новый материк.
Такая постановка «проблемы Боттичелли» дает основание наметить вопрос, столь занимавший XIX, а за ним и XX столетия – «художник и общество» – в одной из самых ранних его стадий. Это поможет выяснить истоки того особого места и той симпатии, которую произведения Сандро Боттичелли вызывают в наши дни, истоки того эстетически-психологического феномена, который делает художника нестареюще важным и необходимым для нас.
Часть первая
СОТВОРЕНИЕ ВЕСЕННЕГО МИРА
Я видел, как из моря вдалеке
Светило поднималось, озаряя
Морской простор от края и до края
И золотом сверкая на песке.
Я видел, как на утреннем цветке
Роса играла – россыпь золотая,
И роза, словно изнутри пылая,
Рождалась на колючем стебельке.
И видел я, с весенним встав рассветом,
Как склон травою первою порос
И как вокруг листва зазеленела.
И видел я красавицу с букетом
Едва успевших распуститься роз —
И все в то утро перед ней бледнело.
Маттео Боярдо (Пер. Е. Солоновича)
Глава I
АКАДЕМИЯ ПРАЗДНЫХ ЛЮДЕЙ
И кем ты вскормлен? – Юностью живою
И окруженной верными рабами:
Изяществом, тщеславьем, красотою.
А чем ты жив? – Прекрасными глазами.
Сильна ли смерть иль старость над тобою?
– Нет! В миге вновь рождаюсь дни за днями.
Серафино Аквилано (Пер. Ю. Верховского)
Золотой плащ
В 1475 году Боттичелли слегка приоткрыл неповторимое свое лицо в «Поклонении волхвов». Картина была заказана менялой Джованни ди Дзаноби дель Лама и в качестве алтарного образа предназначалась для церкви Санта Мария Новелла. Композиция словно бы заключает в себе два разных мира – легенду поклонения евангельских волхвов новорожденному младенцу Христу и групповой портрет правящей верхушки города Флоренции. Уже давно, а особенно с первой половины XV века, портреты современников – наиболее состоятельных или доблестных граждан, членов уважаемых буржуазно-патрицианских семей – довольно смело включались в традиционные религиозные сюжеты. Но те были маленькими одинокими островками в море церковной живописи, тогда как в картине Боттичелли портретные образы приобретают ведущее значение.
Благообразного облика старец – глава правящей фамилии, бережно целующий ножку младенца Иисуса, не столько переживает, сколько весьма импозантно разыгрывает религиозное рвение. Это Козимо Медичи, некогда мудро заметивший: «Достаточно одеть человека как следует, чтобы сделать из него уже порядочного гражданина». И, словно бы следуя этому пожеланию, лукавому, но благому, художник облекает своих героев в полуфантастические-полусовременные нарядные одежды. Но даже это суетное пристрастие служит первой ступенькой великой цели – индивидуализации личности. Во Флоренции XV века каждый горожанин, обладавший хоть сколько-нибудь сносными материальными возможностями и толикой фантазии, самоутверждается, сам для себя изобретая даже моду.
В сцене весьма куртуазного «Поклонения», где вымышленные персонажи искусно перемешаны с реальными, и реальным в различной степени приданы отдельные вымышленно-сказочные черты. Всем, кроме одного. Этот единственный – сам автор, согласно этикету тогдашних живописцев, занимающий в картине скромное место «живой подписи». Он играет вполне определенную роль, сугубо необходимую во всех тогдашних театральных представлениях, – роль Пролога или Зазывалы. Он – представитель зрителей на сцене, комментатор и свидетель чуда. Но, вопреки установленным обычаям, фигура Сандро – Пролога совсем лишена откровенности жеста и все же призывает к сопереживанию не менее настоятельно, чем самые настойчивые из указующих перстов. Художник один изо всех окутан золотистым плащом, который своею живою игрой усиливает тонкий блеск его рыжеватых кудрей. Не напрасно он делает собственный облик средоточием разнообразных оттенков своего любимого золота, которое уделяет другим скупыми дозами только в отделке, в деталях одежды. Благодаря этому отодвинутый к самому краю картины автор не исчезает для зрителя. Он выглядит юношей, хотя ему здесь уже более тридцати лет. Впрочем, первое впечатление юношеской легкости в художнике спорит со сложностью лица, очень зрелого по своему выражению. В нем доселе не частое в портретной живописи скопление противоречий, где строго замкнутая гордыня соседствует с невольной открытостью впечатлительной души.
Эта зыбко-загадочная душа живописца поистине «с молниеносной силой бьет из глаз» (по выражению Платона), ибо лучистые светло-янтарные глаза Боттичелли запоминаются сильнее всего. Глаза Боттичелли, и нежные и презрительные в утомленно приспущенных веках, негреющим светом своим проницают любого зрителя, но сами, с необъяснимою робостью избегая прямого контакта, ускользают от окончательных ответов.
А что не доскажут глаза, может выдать его не менее выразительный рот, в сложности своих прямых и изогнутых очертаний изначально несущий скорую готовность к улыбке и плачу, к раздражению и сарказму. Извилистая верхняя губа капризным изгибом ложится на нижнюю, прямую и твердую, изобличая всю двойственность характера Сандро.
Оттого, что Боттичелли способен свободно существовать «отдельно в толпе», он сумел с чрезвычайным умом и тактом выделить себя среди многих, нимало не погрешив против скромности своего положения художественного «историографа», прибегнув единственно к помощи золотого плаща, к градациям в звучании и тоне. Но автор «Поклонения волхвов» не мог не знать, что царственно-золотой плащ, согласно древнему преданию, некогда принадлежал самому «отцу богов» Юпитеру.
«Пятый элемент»
По словам его первого биографа Джорджо Вазари, Сандро Боттичелли обладал приятным, легкомысленным, но вместе и «странным» характером. Состояние души Сандро еще в отрочестве было – fantastico, stravagante, bizarro (фантастическое, экстравагантное, странное) – вечно нервозное, в чем-то почти эксцентричное.
Впрочем, в своем изменчивом многообразии живописец был истинным сыном Флоренции. Папа Римский Бонифаций VIII утверждал, что флорентинцы представляют собой пятый, совершенно особенный природный элемент (латин. quintessentia) помимо четырех известных основных – земли, воды, воздуха и огня. По мнению биографа Боттичелли, подобный характер весьма опасен, поскольку «во всех вещах следует держаться определенной середины, избегая крайностей, обычно вредоносных». Опасные крайности – именно то, за что Вазари, типичный представитель «золотой середины», порицает многих художников, и не в последнюю очередь – Сандро Боттичелли.
Его живопись так же странна, как причуды его характера, как непостоянная судьба. Поэтому «странность» становится лейтмотивом первой, да и всех последующих его биографий. Начать с того, что даже прозвание «Боттичелло» (что означает «бочоночек») принадлежало вначале не живописцу Алессандро, а его старшему брату, биржевому маклеру Джованни Филипепи. Этот последний после смерти отца становится главою семьи, Сандро же был на его попечении с малых лет, отчего забавная кличка подвижного толстяка навсегда закрепилась за изысканным щеголем – младшим братом.
До этого гениальный живописец Томмазо Кассаи вошел в историю под пренебрежительным прозвищем «Мазаччо» (кличкой неряшливых и рассеянных детей), заставив забыть о первоначальном смысле, очистив и обессмертив его своим творчеством. Но кличка Мазаччо по крайней мере отражала житейски-обывательский взгляд на необычность характера именно этого человека, тогда как прозвище Боттичелли казалось абсурдным – не имея ничего общего ни с наружностью, ни с характером его носителя, оно ему совершенно не шло.
Живописец Алессандро Филипепи заслужил у современников репутацию завзятого шутника, поскольку «нередко любил подшутить над своими учениками и друзьями». Хотя Вазари находит в этом определенную «приятность», обычные «шалости» Сандро не назовешь ни безобидными, ни особо приятными. Таков житейский анекдот о трениях его с соседом – ткачом, мешавшим работе художника шумом своих станков. Тогда потерявший терпение Сандро на свою более высокую стену взгромоздил огромнейший камень «чуть не с воз размером», при малейшем сотрясении грозивший проломить крышу не слишком роскошного жилища ремесленника. Бедняга, разумеется, запросил мировую, на что ему было отвечено его собственными словами: «У себя дома я делаю все, что мне нравится», после чего, потешившись всласть испугом соседа, Сандро убрал свой каверзный камень. Эта бурлескная история, достойная пера Боккаччо, – один из многих довольно ядовитых и вместе грубовато-простонародных фарсов, приписанных в свое время молвою Боттичелли. Возможно, следствием одного из них была судебная тяжба живописца с другим соседом – сапожником, закончившаяся 8 февраля 1498 г. обещанием сторон «взаимно воздерживаться от ссор». Вряд ли художник был человеком, удобным в повседневном быту.
Каскад не слишком невинных эксцессов, затеваемых им в разное время, находится словно в намеренном противоречии, в капризном контрасте с напряженной серьезностью его тонкого лица, запечатленного в автопортрете, с овеянным меланхолией и духовностью содержанием его картин, перенасыщенных изощренной сложностью ассоциаций и напрочь лишенных какой бы то ни было «забавности» или «занятности».
Оттого-то в окружении веселой компании таких же, как сам он, повес и кутил внутренне зачастую он чужд им, внутренне одинок. Циническая шутливость мистификатора как панцирем облекала незащищенность мечтательного, непрактического восприятия. И сокрытие это недурно ему удалось – если судить по ранним биографическим данным.
Были еще немаловажные причины для этого. В житейской практике Сандро Боттичелли не только для всех явный сластолюбец и ветрогон, но тайный, подчас даже расчетливый честолюбец. Как тут не вспомнить надменно-самолюбивую складку его маленького упрямого рта? И как было не сделаться ловцом удачи в близкой ему по стремлениям среде, в родственной авантюрно-артистической сфере, где вседневно кипели честолюбивые страсти? И Сандро, как многие, энергично пробивался наверх, во что бы то ни стало намереваясь сделаться счастливым обладателем золотого «юпитерова» плаща.
В этом отношении у Боттичелли, как у Пьетро Аретино, воистину «душа короля». «Зачем… без оглядки расходовать деньги тому, кто ограничен в средствах?» – спрашивает сам себя Аретино и отвечает: «Затем, что королевские души тратят деньги без удержу, не знают ограничений, когда речь идет о роскошестве». Легенда Вазари донесла до нас сведения о фантастически непомерном транжирстве и щедрости Боттичелли, но главная истина в том, что подобную индивидуальность чрезвычайно трудно подвести под одно какое-то определение. Это все равно что пытаться насильно спрямить вечно волнистые линии его картин.
Но прав неотразимый выскочка, авантюрист и кондотьер пера Аретино: «Счастливы те блаженные духом, которые в своем безумии приятны себе и другим». Так несомненно умел быть счастливым и пылкий воображением живописец Сандро.
Карнавал волхвов
В годы младенчества Боттичелли – около середины XV века – в Германии изобретено книгопечатание. К. Маркс не напрасно считает применение пороха, компаса и появление печатных книг предпосылками нового буржуазного способа производства. Рамки старого неизменного европейского круга земель безгранично расширены посредством великих географических открытий; в соответствии с этим происходит и небывалое расширение кругозора – главные тенденции времени.
С начала XV века в Италии конгломерат отдельных самостоятельных городов-государств, как некогда в античной Греции, служит наибольшей индивидуальной свободе всех и каждого, наибольшему расцвету культуры и искусства.
До этого флорентинские магнаты производства, торговли, банковского дела отвоевывают позицию за позицией у исторически обреченных представителей феодализма. Первая победа их в городе закреплена еще в 1293 г., когда республиканским «Установлением справедливости» феодалы лишаются политических прав. Торговые операции флорентинских купцов ведутся не только в Европе, не достигают отдаленных по тем временам углов Азии и Африки. В 1343–1345 гг. грандиозное банкротство старейших флорентинских банков Барди и Перуцци печально отозвалось на экономике всей Европы. Тогда-то выходит на авансцену истории банковский дом Медичи и продвигается к власти с удивительной последовательностью.
В следующем веке проницательный и дальновидный Козимо Медичи (1389–1464) становится истинным основателем политической власти во Флоренции. Получивший от сограждан почетное наименование «Отца отечества» вполне в древнеримском духе, он унаследовал от предков их исключительное умение лавировать и выигрывать с наименьшими потерями, с наибольшим эффектом выходя из самых рискованных политических ситуаций. Не занимая никаких официальных постов, он сделал финансовые обороты в деловые связи фамилии орудием истинно дипломатическим. Благодушный и цепкий «первый гражданин» цветущей республики совершил первый шаг к тому особому положению «некоронованного монарха», которое суждено будет развить и упрочить энергии его потомков.
Свое мягкое, но властное правление Козимо постарался украсить и меценатскими милостями. По-купечески прижимистый во многом, он время от времени щедро тратился на строительство дворцов и церквей, на заказы и покровительство многим талантливым зодчим, ваятелям и живописцам. По свидетельству историков, Козимо не только восстановил, но построил «от самого основания» церковь и монастырь Сан Марко, которым суждено будет сыграть значительную роль в последующих исторических событиях, в обильном множестве торжественных или роковых кульминаций и развязок.
Ваятель Донателло, живописцы Андреа дель Кастаньо, фра Анджелико и Беноццо Гоццоли в разное время пользовались покровительством Козимо, а затем его сына Пьеро. Впрочем, служа общественности и искусству, «Отец отечества» не забывал и себя. Он возвел многочисленные дома и виллы во Флоренции и за городом и даже простер свою щедрость вплоть до Иерусалима, где основал убежище для пилигримов собственного имени.
Знаменитое палаццо Медичи на виа Ларга во Флоренции начато архитектором Микелоццо в 1444 г. Интерьер домовой церкви Сан Лоренцо создается гениальным Брунеллески между 1419 и 1469 гг.
Но более всего повлиял на весь силуэт города новый купол флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, возведенный по проекту того же Филиппо Брунеллески. Нет преувеличения в гордой метафоре посвященных серу Филиппо стихов Джованни Баттиста Строцци:
«Кладя на камень камень, так
Из круга в круг, я сводом ввысь метнулся,
Покуда, возносясь за шагом шаг,
С небесной твердью не соприкоснулся».
Классическая строгость и ясность очертаний восьмиугольного барабана с величавым куполом, перебивая дробные конусы старых феодальных башен, властно воцарившись над ними и над морем домов, разом превратила Флоренцию в город нового типа, любезный душам всех дерзких мечтателей.
Успешное правление Козимо старшего обеспечило его наследнику, болезненному и тугодумному Пьеро, почти механическое продолжение начатого предприимчивым отцом. Правитель, немощный телом и духом, по бесцветности характера не заслуживший у современников и потомства иного прозвища, чем «Подагрик» (Готтозо), он управляет Флоренцией с 1464 г. Впрочем, даже этот вялый человек, подобно всем представителям своего рода, питал наследственное пристрастие к устройству театральных представлений и всяческих пышно-роскошных зрелищ, в чем весьма преуспел, привив и согражданам страсть к карнавалам – увеселениям в равной степени «детским и грандиозным».
Тогда и в живописи чисто карнавальная тематика воцаряется наряду с игрою в «священные истории», тем более что со второй половины века портретные образы активно теснят персонажей священных легенд. Дерзкие эти портреты образуют как бы промежуточное связующее звено между реальностью и воображаемым миром, который одновременно служит ей украшением и этической нормой.
О подобном «карнавальном» эффекте помышлял и не слишком глубокий живописец Беноццо ди Лезе ди Сандро, прозванный Гоццоли (1420–1497), любимый художник старого Козимо, изображая на стене капеллы медичейского палаццо нарядно-красочное «прибытие волхвов в Вифлеем, с большим количеством людей, лошадей и всего прочего». Капелла, предназначенная для супруги правящего Подагрика Лукреции Торнабуони, стала первым по-настоящему ренессансным интерьером. Фреска Гоццоли роскошным ковром, подобно декоративной шпалере, опоясывает собою все стены, поражая богатством орнамента не только в одеждах волхвов и сбруе коней, но даже в фигурах и лицах.
Создавая свое царство вечного праздника, пейзажным фоном которому служит известная вилла Медичи в Каффаджуоло, Беноццо с завидной непринужденностью переплетает достоверность и вымысел. Само собой разумеется, в кортеже его волхвов маловато душеспасительного, зато более чем достаточно кудряво-украшательского, развлекательно-увеселительного.
Эффектная театральность, порою даже не без примеси откровенной бутафории, зачастую становилась действительным качеством, присущим манерам и образу действий многих подчас серьезнейших деятелей тогдашней политики, науки и церкви. Что уж говорить о художниках и поэтах, которые чувствовали себя призванными самою природой для создания всяческих зрелищ, уничтожающих обыденность? Именно поэтому внешняя сторона жизни во многом доводится в то время до самого непревзойденного изящества – внешность заботит больше, нежели действительное удобство и комфорт. Вся эта изысканность составляет нечто вроде блестящей оправы к самым темным, самым трагическим и кровавым страницам истории кватроченто.
В подобных условиях не только каждый художник, но любой кондотьер или патриций, идеолог или политик, проповедник или магистрат моментами ощущают себя актерами, обязанными как можно эффектнее явиться или удалиться с исторической сцены. Иначе не только карнавальные действа являются воображаемыми сколками с реальности, но и сама действительная жизнь подвергается определенному сильному воздействию «карнавальности».
Так, в декоративном действе фресковой партитуры Гоццоли участвует между прочим и самый настоящий монарх. Гость Флоренции, византийский император Иоанн Палеолог с легкостью вписывается в сказочную пьесу в своих подлинных царских одеждах, реально-экзотических еще более, чем сочиненная экзотика костюмов других персонажей. Облаченный во все черное с золотом, погруженный в глубокую задумчивость, исполненный утонченно-печального обаяния угасающей культуры, этот пришелец с доподлинного Востока служит примечательным контрастом бело-золотой заносчивой фигурке старшего сына Пьеро Готтозо, мальчишки Лоренцо.
Траурный император, в отличие от окруженного здесь и там толпою сподвижников отпрыска Медичи, выглядит одиноким, отрешенным от мира во фреске, где его тысячелетняя корона существует на равных с воображаемыми бутафорскими, игрушечными диадемами шаловливых детей.
Беноццо, живописец немного наивный, а впрочем, достаточно «себе на уме», уже сделал до срока подарок «младенцу» Лоренцо, наделив не слишком красивого подростка не только ангельски-золотыми кудрями, но всеми атрибутами увенчанного владыки. Начатая мальчишеская игра вдруг словно бы оборачивалась реальностью, а простоватый художник – почти пророком. Сказочные мальчики и девочки, увлеченно играющие в волхвов, породистые собаки и кони, красивая, сильная юность. Таково исполненное радужных и волнующих обещаний отрочество тех, кого в полном расцвете зрелой молодости запечатлел Боттичелли в действе своих «Волхвов».
Что-то подарят волхвы Флоренции?
Между двух миров
Сандро Боттичелли с легкостью перенимает всю грациозную игру роскошной свиты Медичи, этой новоявленной аристократии духа и кошелька. Истинный артист вживается на лету в их непринужденную любезность и снобизм так, словно сам рожден среди избранных.
Между тем происхождение его было самое скромное. Кватрочентистские художники обычно выходцы из более простонародной среды, нежели ученые-гуманисты: чаще всего из семей ремесленников. Редкие исключения, такие, как дворянские фамилии Микеланджело и Альберти, лишь оттеняют общее правило. Происхождение Леонардо да Винчи, сына нотариуса, не в счет, так как он был незаконным сыном, «бастардом».
Алессандро ди Мариано ди Ванни ди Амедео Филипепи (таково настоящее полное имя Боттичелли) родился во Флоренции в семье кожевника Мариано ди Джованни в 1444 или 1445 г. Отсутствие привилегий, предоставляемых рождением, с юности заставляло подобных людей полагаться исключительно на самих себя, рассчитывать только на собственное дарование и энергию. Впрочем, семейство кожевника было довольно состоятельным, и в детстве нищета отнюдь не грозила Сандро. Тем более что, помимо оборотистого маклера Джованни, другой его старший брат, Антонио, владел весьма прибыльным ремеслом ювелира.
Семья проживала неподалеку от церкви Оньисанти (Всех святых), и окна родительского дома выходили на церковное кладбище, где суждено было упокоиться многим из этого рода. Красноречивое это соседство весьма способствовало благочестивому воспитанию наследников Филипепи в самом простонародно-религиозном духе. Это первое из влияний, породившее причины, впоследствии вечно мешавшие Сандро Боттичелли определить окончательно свое место между традиционно-благочестивой плебейской семьей, в которой он родился и жил, и вольнодумным патрицианским кругом, в котором он столь часто бывал и для которого много работал.
Так изначально закладываются основы и народности, и аристократизма его двойственного искусства.
Учился ли Сандро в детстве на ювелира или нет, профессия брата так или иначе не могла не повлиять на его жадно открытую всем впечатлениям душу. Не случайно рисунок Боттичелли по временам напоминает чисто ювелирный узор металлической нити, блестящую золотую насечку, не говоря уже о ничем не искоренимом пристрастии не только к золотому узорочью в деталях картин, но к употреблению золота в живописи вообще. Но «ювелирность» Боттичелли имеет и другую, более серьезную подоплеку: необычайное внимание к выразительным деталям от украшения поверхностей постепенно распространилось, отозвавшись на его трактовке внутреннего мира, для которого «мелочи» впоследствии стали решающей величиной.
Эфемерная хрупкость его натуры уже в детские годы не укрылась даже от его не слишком проницательного отца. «Моему сыну Сандро сейчас тринадцать лет; он учится читать, мальчик он болезненный» – гласит озабоченно-нежная при всей лаконичности запись в кадастре Мариано Филипепи, относящаяся к 1458 г., ставшая первым в истории документальным упоминанием о будущем прославленном живописце. Менее нежный к своему герою Вазари называет малолетнего Сандро попросту «взбалмошной головой».
В самом деле, этот странный мальчуган должен был доставлять своим близким немалые опасения не об одном своем здоровье, поскольку «болезненность» Сандро относится не столько к физической хрупкости, сколько к чрезвычайной тонкости его нервной организации, к чреватому неожиданностями нраву. Мечтательный и капризный, избалованный отцовский любимчик, он выглядел чем-то чужеродным в собственной семье. Сандро отличался немалой начитанностью, изрядным литературным образованием, слишком внушительным для сына простого ремесленника.
Вдумчивый мальчик рано постиг язык безмолвных камней, застывшую музыку дивной архитектуры Флоренции.
Если мощная укрупненная пластика купола Брунеллески поражала концентрацией величия и силы, то двухэтажный фасад его Оспедале дельи Инноченти (Воспитательного дома) – первой общественной постройки Возрождения – привлекал изяществом и ясно обозримой гармонией основного мотива полуциркульных арок на стройных колоннах. Ваятель Андреа из семьи делла Роббиа, подарившей Флоренции три поколения несравненных керамистов, подчеркнул ощущение приветливого радушия Оспедале, украсив его фасад деликатно расцвеченными медальонами с трогательно живыми изображениями спеленутых младенцев. В них молодая коммуна Флоренции сулила свою долю радости даже безвестным подкидышам города. Белоснежные на лазурном фоне майоликовые рельефы Андреа и его великого дяди Луки, полные нежных Мадонн и веселых ангелов, сияли со стен и многих церковных зданий.
Подобным же чудом казались Сандро и бронзовые двери Флорентийского баптистерия, заслужившие у современников восторженное название «райских», изготовленные Лоренцо Гиберти в творческом соревновании с другими крупнейшими мастерами. На украшавшие их изящные многофигурные рельефы, пронизанные грацией и сдержанной динамикой, мастер с непостижимым терпением потратил двадцать лет жизни. Сам Филиппо Брунеллески, успешно подвизавшийся на поприще скульптуры, признал себя побежденным поэзией и правдой создания Гиберти.
Но в архитектуре сер Филиппо при жизни остался непревзойденным. Полное разрешение его новаторские конструктивные принципы нашли в центрической гармонии легкой купольной капеллы Пацци, где инициатива зодчего не была скована, как во Флорентийском соборе, необходимостью увенчать новым куполом старое здание. И наконец, Брунеллески разработал тип будущих общественных построек в едином замкнутом ансамбле палаццо Питти, простыми, но сильными средствами добившись впечатляющей мощи в его выразительном строгом фасаде. Освоив античную ордерную систему в качестве школы нового архитектурного мышления, Брунеллески произвел на ее основе синтетическую переработку всей средневековой итальянской архитектуры.
Успешно начатое Брунеллески закрепил Микелоццо ди Бартоломео в палаццо и капелле Медичи и трехнефном зале монастыря Сан Марко с широкими, как у Оспедале, колоннадами, куда Козимо Старший поместил крупнейшую по тем временам библиотеку. Заслугой Микелоццо является развитие образцов не только городского дворца-палаццо, но и загородной виллы, поскольку именно он придал ренессансные формы виллам Медичи во Фьезоле, Каффаджуоло и Кареджи.
Архитектор и ваятель Бернардо Росселлино, воплощая в жизнь стройный замысел Леон-Баттиста Альберти, вводит в фасад палаццо Ручеллаи все основные элементы античной ордерной архитектуры. В дни отрочества Боттичелли по проекту Альберти начата перелицовка фасада типично средневековой базилики церкви Санта Мария Новелла в духе нового понимания декора – и ордерные членения образуют своеобразный компромисс с полихромной мраморной инкрустацией XII–XIII веков. Но принцип двухъярусного фасада с увенчивающим фронтоном впоследствии станет основой многих церковных построек зрелого Возрождения и даже шагнет в последующую эпоху барокко.
А в годы зрелости Боттичелли его сверстник Бенедетто да Майано завершит тип раннеренессансного дворцового здания с внутренней галереей в величественном палаццо Строцци, которое в качестве новшества украсит богато профилированным карнизом, чья пышность будет эффектно контрастировать с уже привычной суровой простотою стен, а внутренний двор, утрачивая еще недавно интимный характер, станет одной из парадных частей дворца. В строительстве этого палаццо участвуют также Симоне дель Поллайоло по прозвищу Кронака и Джулиано да Сангалло.
Последнему суждено сделаться самым ярким выразителем нового в архитектуре второй половины XV столетия. Обобщив открытия школ Брунеллески и Альберти в сакристии церкви Санто Спирито (возведенной совместно с Кронака), Джулиано да Сангалло создаст совершенную по пропорциям композицию целостного и гармоничного стиля. А возведенная им вилла Медичи в Поджо-а-Кайано (1480–1485) своим грандиозным размахом не только подведет определенный итог в создании этого вида построек, но преобразит его из относительно интимной усадьбы торгового магната в дворцовую резиденцию вельможи, ставшую типичной уже для XVI века.