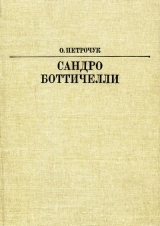
Текст книги "Сандро Боттичелли"
Автор книги: Ольга Петрочук
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Необоримое противоречие заключалось уже в сопоставлении внутренней независимости духа знаменитого поэта Пульчи с его истинным положением привилегированного шута в доме Медичи. Даже сама его вольнодумная поэма изготовлялась по заказу матери Лоренцо и декламировалась автором по частям – каждая песня по мере ее изготовления в очередном застолье Великолепного, вперемешку с обильными возлияниями. Сатирическая злость ядовитой усмешки поэта над миром отражала и весь цинизм осознания им своего зависимого положения, всю горечь «чужого хлеба».
И все же поэзия берет на себя роль конечного осмысления мира, смело отнимая его у самой философии. В этом именно качестве Данте обнаруживает за поэзией право самой открывать неизведанные тайны жизни, намечая на будущее пути высокого призвания для всей мировой литературы. И наконец в XV веке она окончательно утверждается как высшая из наук, свободно использующая любую из них, милостиво освящая их все высочайшим своим вдохновением.
Но для Боттичелли его философией и поэзией становится живопись, не только потому, что обладает свойством всепроникающего лиризма, но и потому, что позволяет в свою очередь поставить поэтическое откровение уже не стихов, а картин превыше всех познавательных наук.
Прекрасная генуэзка
Луиджи Пульчи смеялся над пережитками рыцарства и все-таки, несмотря на насмешки, рыцарский дух оставался для его современников предметом нешуточного увлечения. Насмешники втайне вздыхали об эффектности ушедших времен, и взрослые люди пресерьезно, как дети, играли в героев рыцарских романов. Известно, что Медичи предавались турнирам со всею страстью выскочек незнатного происхождения, утверждающих себя в аристократизме.
Первый турнир братьев Лоренцо и Джулиано состоялся еще в эпоху «Волхвов» Гоццоли в 1469 г., последний – 28 января 1475-го. Именно эта «джостра», происходившая перед церковью на Пьяцца Санта Кроче в честь эфемерной лиги Флоренции, папы Сикста IV и Милана, оставила весьма глубокий след в воспоминаниях, искусстве и поэзии тех дней. Двадцать четыре участника действа поражали народ не столько отвагой и физической мощью, сколько внешней статью и феерической роскошью своего оформления. В 1469 г. юные «волхвы» потрясли воображение толпы не только бриллиантами на собственных шлемах, но еще изумрудными звездами, украшавшими лбы благородных коней. Флорентинцы надолго запомнили ослепительный наряд всеобщего любимца Джулиано из серебряной парчи, разукрашенный жемчугом и рубинами. На краткий миг мир показался подобным волшебному сновидению, ибо вместо грязи и крови войны великолепные всадники блистали чисто спортивным искусством изящного несмертельного фехтования и эффектной вольтижировки.
Джостра-апофеоз царственных братьев послужила одним из обстоятельств, направивших воображение Боттичелли к мифологической и аллегорической живописи. Перед каждым из участников турнира находился оруженосец со знаменем из восточного шелка, украшенным геральдическими эмблемами и символическими фигурами. Эти парадные штандарты создавались в крупнейших художественных мастерских Флоренции, чаще всего у Верроккио. И Сандро Боттичелли сам изготовил для последней джостры великолепное знамя с фигурой Афины Паллады. В смутном облике языческой богини многие различили тогда черты сегодняшней женщины – возлюбленной младшего Медичи.
На медичейском штандарте перед облаченной в белое Минервой, вооруженной копьем и щитом с головой Медузы, сияло изображение солнца. Солнце символизировало жар любви и будущую славу Джулиано после предстоящего турнира, поскольку «благородная любовь» является лучшим стимулом к славе, а присутствие в композиции Амура намекало на то, что солнце ответной страсти наконец-то зажжется и в душе дамы сердца героя. Каждый из атрибутов в отдельности напоминал об античности, но сочетание их больше говорило о рыцарском романе, нежели о древнегреческой мифологии. Впрочем, это полностью отвечало предназначению парадного рыцарского штандарта.
Не в пример энергичному старшему брату Джулиано Медичи не много отдавался делам государства, не занимался искусством, не сочинял поэм. Зато, наделенный необычайно счастливой наружностью, он сам с ранних лет сделался как бы предметом искусства. Перипетии его любовных романов были излюбленными предметами обсуждения всей эстетически восприимчивой Флоренции. Если Лоренцо являлся неограниченным повелителем своего двора, то Джулиано был лучшим его украшением. Прозванный «Принцем Юности» задумчивый темнокудрый красавец, готовивший себя в сановники церкви, но не помышлявший о монашеском образе жизни, с легкой руки Анджело Полициано многим казался живым воплощением поэзии.
Поэтому в Полициановых «Стансах», посвященных последней джостре, образ героя – прекрасного охотника Юлия – навевает воспоминания о юном Ипполите Еврипида и Нарциссе Овидия. Подобно этим античным героям, юноша, пренебрегающий любовью, подвергается мести разгневанного Амура. Пустившись в погоню за чудесной ланью, отважный ловец сам попадает в сети прекрасной нимфы и слышит суровый вердикт божества: «Женщина держит в руках ключи от всех твоих желаний, несчастный». Отказ от любви, согласно Анджело Полициано, почитается преступлением перед самой природой.
Генуэзка Симонетта Каттанео, жена Марко Веспуччи, с шестнадцати лет жившая во Флоренции, стала Прекрасною Дамой Принца Юности Джулиано и героиней полициановской «Джостры». Некоторые считали тогда, что именно Генуя есть легендарный Порто ди Венере античности, а значит, как раз на ее берегу вышла из моря новорожденная богиня любви.
По-видимому, Симонетту отличала большая одухотворенность, неотделимая от несколько хрупкой болезненности. Подобно «Юдифи» или «Стойкости» Сандро, синьора Веспуччи была взрослою женщиной, в наружности которой длительно сохранялись черты подростка. И, подобно им, ей были свойственны особенности, незнакомые красоте предшествующих времен:
«Возьми она сейчас кифару в руки —
И станет новой Талией она,
Возьми копье – Минервой, а при луке
Диане бы была равна».
(Пер. Е. Солоновича)
Щедрость похвал поэта не только выказывает в героине удивительные свойства Протея, но говорит об ее несомненной интеллектуальности. Зыбкая неустойчивость романтического лицедейства, многоликая переходность – то, что привлекало Боттичелли больше всего в образе полициановской «нимфы». Легконогая девушка-лань Полициано намечает истинно боттичеллевский тип не только прекрасной, но разносторонней и мыслящей женщины.
Однако недолго Симонетта радовала своим обаянием Флоренцию. Прекрасная генуэзка умерла двадцати трех лет 26 апреля 1476 г. Весь город оплакивал возлюбленную Принца Юности, предмет бескорыстного обожания тосканских художников и поэтов. Но трагически ранняя смерть, окружив образ дамы сердца «прекрасного Медичиса» дополнительным меланхолическим ореолом, вызвала к жизни мощный поток самой чистейшей, высокой элегической поэзии.
На Сандро Боттичелли трагическая развязка любви Джулиано повлияла не меньше, чем смерть Беатриче на Данте. И зажгла его новым творческим огнем. И в скорбный год траура по генуэзке и в последующие художник, подобно Алигьери, «дабы ослабить силу своих страданий», много пишет ее изображения, окончательно претворяя Симонетту из жизни в образ искусства, в идеал, словно надеясь «сказать о ней то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине».
И прежде всего это будет противоположностью фреске Доменико Гирландайо в Оньисанти, запечатлевшей с обычной приятной бездумностью хорошенькое женское личико посреди деловитых мужчин влиятельного дома Веспуччи. Это будет иным, чем прославленный портрет Симонетты кисти Пьеро ди Козимо – трогательная слабость обнаженной груди, простодушная наивность во взгляде и драгоценное украшение на темени, подчеркнувшее гордую вертикаль тонкой шеи, готовой, однако, склониться от слабости подобно тростинке под ветром. В создании большого причудника Пьеро замечается близкое Боттичелли стремление проникнуться лирическим строем нежного образа, ушедшей поэзией юной, но отлетевшей жизни. Однако у Пьеро отсутствует главное свойство боттичеллевской поэтики: его проникнутая интеллектом духовность, истоки которой – еще у Данте:
«Пусть для меня она застывший камень,
Я пламенем предел наполнил хлада,
Где каждый подчинен законам хлада,
И новый облик создаю для света».
Во всех боттичеллевских посмертных портретах Симонетты больше фантазии, нежели натуры, – как в стихах Полициано, генуэзка преображается в «нимфу», в чистый символ девической прелести. Вазари упоминает «две прекраснейшие женские головы в профиль», которые в его время находились в «гардеробной герцога Козимо». Судьба обеих картин неизвестна. Из дошедших до нас полуфантастических портретов все многочисленные изображения действительно профильные, но ни одно из них – как установлено ныне – не является подлинником руки Боттичелли. Они составляют скорее «круг» или «школу», сферу влияния Сандро, нежели цельные творения его гения.
Верно угаданное чувство детали способствует обширным градациям несходства и сходства с живым прототипом, оттенки, тончайшие вариации выразительных мелочей стимулируют качественные сдвиги в развитии единого – и разнообразного боттичеллевского «типа». Так почти самостоятельной жизнью могут жить значимые детали второго ряда – косицы, локоны и каскады разнообразно убранных золотистых женских волос – в диапазоне теплых красок от бледно-льняной до темно-рыжей, контрастируя с прохладной и бледной до сероватости окраскою кожи.
Не напрасно популярная песенка «Женщина тонкой любви» пелась в те дни на мотив, одинаковый с молитвенным песнопением – лаудой. В «Пире» Платона говорится о первоначальном хаосе, принимающем форму только благодаря влечению к красоте, которое и есть любовь. Для Данте, объявившего ее «перводвигателем» вселенной, любовь в его «Пире» – это «духовное единение с любимым предметом», понимаемое как безусловно высшее счастье. Петрарка, воспевший боль неразделенности, первым указывает тончайшее противоречие, присущее только одной любви:
«На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
Что в жизни смерть, – любовь. На боль похоже
Блаженство. „Страсть“, „Страданье“ – тот же звук».
Но это страдание поэт оценивает превыше всего:
«Благословенно первое волненье.
Когда любви меня настигнул глас,
И та стрела, что в сердце мне впилась,
И этой раны жгучее томленье».
Петрарка, таким образом, закрепляет представление о любви как о чувстве необычайно широкого диапазона. Поэт на себе ощущал все то многообразие и сложность, о которых, скорее теоретически, говорил Боэций: «Любовь тройного происхождения, а именно: сострадание, дружба и просто любовь. В телах любовь существует лишь поскольку она телесна, в боге любовь существует только как начало интеллектуальное. В человеке любовь – и от начала телесного и от начала интеллектуального».
У новых последователей Петрарки диапазон «искусства любви» только в одной поэзии простирается от площадных шуточек героев Пульчи до утонченно-рыцарской куртуазности Полициановых «Стансов», и в них, соответственно, от воспевания чистейшей любви – обожания до откровенных непристойностей уличных куплетов, от легковесной любовной игры до любовной трагедии.
Эстетика заменила платоновским «академикам» религию, а сокровеннейшим центром этой религии стал их новый Эрос, воплощаемый в жизнь красотою искусства. Добиваясь определенного равновесия и гармонии реально-зримого и духовного миров, впервые после античности подлинным художником любви, как высочайшего из человеческих чувств, становится Сандро Боттичелли.
«Весна» торжествующая
Но все это только предварительные ступени восхождения к боттичеллевской «Весне», которая стала его первой вершиной. Картина была написана для украшения виллы Кастелло, принадлежавшей Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, троюродному брату Лоренцо и Джулиано, внучатому племяннику Старого Козимо, и посвящена Венере как покровительнице природы.
Письмо Марсилио Фичино к его ученику Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи дает представление о программе, по которой Венера, воплощающая собою вершину в духовном и материальном проявлениях любви, ярче всего являет свою силу в период весеннего цветения природы. Согласно поэтическому «календарю» Овидия,
«В апреле всегда оперяется почва травою,
Злой отступает мороз, вновь плодоносит земля.
Вот потому-то апрель несомненно есть месяц Венеры».
(Пер. Ф. Петровского)
Это обусловливает определенное родство Венеры и Флоры, одновременность чудесного их появления:
«Этой прекрасной поры прекрасная стоит Венера».
И Боттичелли, художник, читавший «Метаморфозы» и «Фасты», как бы через голову Фичино и даже Полициано протягивает руку образной непринужденности Овидия, наполняя данную эрудитами сюжетную канву множеством ассоциаций лирически эмоциональных, а не абстрактно морализирующих, не в первый раз отчетливо подтвердив ту незримую, но несомненную дистанцию, которая существует между его личным истолкованием и замыслами неоплатоников.
Так возникает волшебство, где деревья стоят как колонны неба, образуя беседки и арки, уподобляясь сказочной декорации лесного храма, где смещаются все времена года. Первая зелень ранней и цветение поздней весны существуют рядом с плодами – дарами зрелого лета. Сказочность – неизбежная спутница всякой фантазии – заставляет художника изображать деревья и цветы чуть привядшими и не увядающими никогда, заставляет уподоблять эти весенние цветы не одному, а многим известным ботаническим видам, и в то же время делать их совершенно невиданным и, в сущности, неизвестным природе порождением Флоры.
Нескончаемы вариации боттичеллевских розоцветов. Они – вершина сознательно доведенной до степени зримой метафоры, намеренно перепутанной ботаники художника, в которой скрупулезность тончайших изображений «цветов вообще» совершенно противоположна по смыслу аналитической точности столь же тщательных изображений совершенно определенных цветов у его современника Леонардо да Винчи.
В легких сумерках рощи Венеры приглушенно-рассеянный свет льется в просветы между ветвей и стройных стволов деревьев. Боттичелли не занимает конкретный источник освещения, так как он слишком увлечен выявлением света внутреннего, света души. В этом он кажется сродни пафосу давних художников икон, однако резко отличается от них задачей выявления сугубо индивидуального сознания.
По мнению автора «Весны», для этого больше всего подходит таинственный час, когда выпадает роса – предутренний или перед наступлением ночи – краткое переходное состояние, мгновение между ночью и днем, темнотою и светом. На сопряжении разных времен главное время как бы остановилось – и «мгновение вечной любви» запечатлелось в странноватой гармонии весеннего царства:
«Природа здесь не только расцветала,
Но как бы некий непостижный сплав
Из сотен ароматов создавала».
(Данте)
Связь отдельных частей в композиции «Весны» создается отнюдь не единством сюжета, а определенным сходством нежно-колебательного ритма фигур. Последовательность расположения их на плоскости уподоблена музыке или стансам стихосложения. Между героями, почти не замечающими друг друга, существуют определенные общности в их духовном настрое – как между разными нотами одного музыкального ряда.
Боттичеллевская Венера носит платье и покрывало его Мадонн. Фигура ее отодвинута несколько вглубь, она как бы дает остановку, короткую, как вздох, освобождая пространство дальнейшему, все более сложному развитию ритма и, жестом почти материнским благословляя все вокруг, задает ему необходимую меру. От нее вся картина возникает единой волною движений то порывистых, то текучих. Согласно толкованиям неоплатоников, в истории христианства находят свое отражение классические античные мифы, в Христе отражаются Аполлон и Орфей, в Марии – Диана, Минерва и даже Венера.
Алая вспышка цвета любви в платье бледной Венеры как бы подхватывается и продляется пурпуром плаща Меркурия, украшенного любовными символами – рисунком в виде опрокинутых светочей. Юный Меркурий у Боттичелли – такой же помощник богини, как порхающий Амур, целящийся из лука то ли в него, то ли в Граций. В этом Меркурии нет ничего от лукавого бога торгашей и пиратов – тонкое его лицо юношески худощаво, но еще детское удивление сущим прячется в глубине его глаз. Волшебною палочкой – кадуцеем – сосредоточенный подросток то ли отводит от царства Весны грозящую ей грозовую тучу, то ли намеревается попросту добыть один из удивительных золотистых плодов с ветки вечноцветущего «майского дерева» – не апельсин и не яблоко – «плод вообще». Всем изгибом стройного тела и властным жестом руки снизу вверх юноша как бы соединяет в едином влечении небо и землю, в то же время с небрежным изяществом вторя плавно льющемуся танцу Граций.
Эта девичья группа «в неподпоясанных и прозрачнейших одеждах» (Альберти) стала, быть может, во всем мировом искусстве самым законченно совершенным воплощением стихии танца. Слияние в ней пластического и духовного начал, метафора, олицетворенная в певучих линиях тел, сплетениях тонких рук, создают неповторимо завораживающую мелодию ритмов.
Образы, словно сотканные из музыки и мечты, из бледных лучей неяркого утра, Грации Сандро более всего сродни сказочной лани, той самой, которую в стихах Полициано Амур сотворил в назидание неприступному и прекрасному Юлию:
«И вот он создал лань под стать живой
Из воздуха искусными руками,
Сверкающую нежной белизной,
С высоким лбом…»
Волшебной лани, высоколобой и легконогой, как боттичеллевские героини, и суждено затем перевоплотиться в прекрасную девушку – Нимфу, Невесту Ветра. Ланеподобны фигурки полувоздушных созданий «Весны», но там, где поэт говорит только «стройная», художник способен уточнить и заострить особенный тип этой стройности, ее неповторимость: каплеобразное, узкое в плечах, но плавно расширяющееся книзу строение продолговатых тел. Прозрачные ткани дымкой вокруг них – как овеществленное веяние духовности, свободно подчеркивают плавную гибкость очертаний, придавая коже бледных, но свежих прелестниц матовое и ровное свечение жемчужин.
Недосказанность, многозначность порождает двойное – жизненное и символическое – значение каждого мотива. И отнюдь не детской игрою заняты «нимфы», в нескончаемом хороводе которых отражена непрерывность жизненных циклов в природе. Боттичеллевская светская «Троица» кружит подобно девичьему хороводу дантовских символических Веры, Надежды, Любви. Только теперь их зовут Невинность, Наслаждение и Красота. Они выясняют отчасти и загадку столь откровенно и капризно грезящего Меркурия. Схожие позы Меркурия и Красоты отчетливей выделяют еще только пробуждающееся юное мужество первого и более зрелую цветущую женственность второй, демонстрируя разные лики, разные образы юности. Красота подводит к Наслаждению Невинность и полным достоинства жестом сочетает их робко ждущие руки, воплощая таким образом один из важнейших обрядов неоплатоновского Эроса.
В несколько ином варианте то же самое выражает и группа по левую руку богини любви. Юная Хлорис, наиболее земная из всех героинь «Весны», как олицетворение «Народной Венеры» доступней и проще других. Она удирает от холодных объятий Ветра-Зефира, роняя от страха цветы из широкого детского рта, но чисто женское любопытство в ней властно пересиливает страх Неведомого, уже ухватившего беглянку в свои цепкие руки. Впрочем, она, кажется, не прочь быть пойманной.
В «Метаморфозах» Овидий рассказал немудреную девичью историю Хлорис, бывшей вначале одною из многих, простодушной нимфой лугов. У этой мифической простушки сердечко было куда как податливое – оно отзывалось на малейшее дуновение ветерка, подобно былинкам ей подвластного луга. Это и сделало ее… Невестою Ветра:
«Как хороша я была, мне мешает сказать моя скромность,
Но добыла я своей матери бога в зятья».
Интригующий девичий образ отражает в фольклорных своих истоках черты древнегреческой дриады и феи – Ундины средневековья. Нимфа-русалка, которую называли «Невестой Ветра», была колдовской героиней в погребальных обрядах призывания теней умерших в определенное время года, а преследователь ее, воплощающий темные силы природы, мог быть отражением – отзвуком самого Сатаны, как повелителя царства мертвых.
В картине Сандро Ветер – жених и сам устает от погони – лазурные крылья влюбленного уже запутались в листве, в ветвях деревьев. Любовь – неотвратимость и для летучего бога. Тогда-то, увлеченная мучением и радостью страсти, наивная деревенская девочка переживает чудо волшебного преображения. Та, в кого преобразилась застенчивая нимфа, становится владычицей весеннего мира:
«Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором,
Так мне сказав: навсегда будь ты богиней цветов».
Художник сознательно подчеркивает в облике Хлорис остаточные черты трогательного «гадкого утенка», чтобы тем сильнее поразить зрителя чудом ее возвышения. Горделивая Флора в картине являет собой этот новый царственный облик, умудренный познанием глубочайших из жизненных тайн:
«Она бела и в белое одета;
Убор на ней цветами и травой
Расписан; кудри золотого цвета
Чело венчают робкою волной.
Улыбка леса – добрая примета:
Никто, ничто ей не грозит бедой».
(Полициано).
В «Весне» наконец полностью расцветает все хрупкое и загадочное очарование истинно боттичеллевского женского типа. Утонченнонеправильные лица дают богатейшие его вариации, но каждое значительно и собственной индивидуальностью. И несомненно самое заметное – умное, смело заостренное в выражении и чертах, чуть угловатое лицо Флоры.
«В ней гордость величавая царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы».
Таинственно длинный, «русалочий» разрез глаз придает взору богини нечто неуловимо ускользающее и одновременно пристально всевидящее.
Смелый разлет подвижных бровей и противоречит, и вторит ее особенной улыбке. Скептичная и нежная, она зарождается почти незаметно в изгибе девичьих и вместе умудренных губ. Не зря Фиренцуола в своем трактате о красоте определяет смех как «сияние души». Улыбка Флоры светится еще и незаурядным умом. Привкус горечи в блеске ее радости – то, чего еще не знала античная мудрость, где обычно скорбь или радость в чистом виде. «Ниобея скорбящая» или «Трон Людовизи», тогда как у Сандро все строится на игре промежуточных состояний. Улыбка боттичеллевской Флоры предвосхищает леонардовскую «Джоконду» своей интеллектуальной загадкой – образ женственной юности, мыслящей не по годам.
Скопления цветов в траве вокруг Флоры порождаются словно самими ее шагами, становясь производными именно этой легкой походки, которая словно волшебно очеловечивает все окружающее, как у Полициано: «Трава под легкою стопою пунцовой стала, белой, голубою». Вот когда невесомый полуполет героинь Боттичелли полностью обретает необходимый ему поэтический смысл. Флора, одновременно и женщина и цветник, воплощает вечное обновление природы. Цветы, которые рассыпает она вокруг, подобные душам умерших или еще не родившихся, символизируют вечную преемственность жизни и устойчивость будущих поколений.
Жизнь и смерть здесь сплетаются воедино, как вечная смена тени и света на лике бессмертной природы. Но в этот всевременной цикл Боттичелли, пораженный мгновенным блеском пролетевшей, как краткая искра, жизни реального прототипа Невесты Ветра – превращенной в легенду своей современницы Симонетты, – вносит рыцарски-медичейский мотив безусловного поклонения Прекрасной Даме, великую любовь, охватившую собою все крайности жизни и смерти.
В таинственной мистерии «Весны» удивительным образом разрешаются две, казалось бы, совершенно противоположные идеологические задачи. Первая, сугубо интимная – отражение сокровенной сущности любви во всем, начиная с вариаций нового женского типа и кончая напоминающими звездное сияние россыпями цветов, подобных дантовским поющим душам в Раю и навевающих воспоминание о предложенном тоскующим Лоренцо таинстве вызывания душ умерших Прекрасных Дам.
Вторая задача – отражение общественных идеалов, мечта о социальной гармонии, которая у Боттичелли и растворяется без остатка в высокой человечности мудрой Флоры, во всеохватной любовной гармонии Венеры. В варианте своего Земного Рая художник предлагает меценатам и правителям собственную утопию Справедливости и Доброго правления, в котором высокоэтическое органически вырастает из эстетического, из красоты, и в ней – новый нравственный закон.
Начиная с «Весны» Сандро вступает в высшую фазу своего развития, когда уже сам он диктует свои условия вкусам его окружающей среды.
«Рождение Венеры»
«Ты должен обратить свой взгляд к Венере, то есть к человечности» – начиналось письмо Фичино к пятнадцатилетнему Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи. В постскриптуме послания, замысловатого, как ребус, маститый философ просит Нальдо Нальди и Джорджо Антонио Веспуччи – дядю знаменитого мореплавателя, родича Симонетты, разъяснить юному адресату зашифрованный смысл идеи божественной человечности, заключенной в Эросе, веруя, что любовь как ничто другое способна выразить истинно человеческую сущность.
Именно тогда, в 1477 г., вилла Кастелло обретает в лице ревностного ученика Фичино своего владельца. А между 1484 и 1486 гг. виллу, где уже находилась «Весна», украсило «Рождение Венеры» кисти Боттичелли, которое продолжает и развивает любовно-весеннюю тему. Формально-сюжетная многослойность картины привела в недоумение самых первых ее исследователей – тем более что в последующие времена тайный смысл ее оказывался даже небезопасен для ортодоксальной католической веры.
Основа всего здесь – ритм, относящийся к обычной изобразительности, как музыка к обыкновенной речи. Оркестровка естественно придает уже знакомым вещам новую значимость, новый смысл. Автор опускает здесь прежний избыток драгоценных деталей, оставляя лишь три изначальные стихии – воздух, землю и воды моря, и широко распахивает замкнутое в пределах таинственной рощи пространство. Используя описание античного классика Апулея и пересказ в «Стансах» Полициано, Боттичелли задумал ни более ни менее как повторить один из легендарных шедевров древности. Но предоставим слово красноречивому поэту. Анджело Полициано описывает по обыкновению с иллюзорностью очевидца события:
«Эгеем бурным, колыбель чрез лоно
Фетиды поплыла средь бурных вод…
Создание иного небосклона,
Лицом с людьми несходная, встает
В ней девственница юная. Влечет
Зефир влюбленный раковину к брегу,
И небеса их радуются бегу.
Пред ней с улыбкой небо и стихии
Там в белом Оры берегом идут,
Им ветер треплет волосы златые…
Как вышла из воды, ты видеть мог,
Она, рукой придерживая правой
Свои власы, другой – прикрыв сосок.
У ног святых ее цветы и травы
Покрыли свежей зеленью песок».
(Пер. Е. Солоновича)
Все здесь удивительно сходно с картиной Сандро – так же живо и зримо, и все совершенно иное. Полициано любуется сюжетной занимательностью, Боттичелли интересует значимость сюжета. Воссоздавая прилежно описание «Венеры Анадиомены» Апеллеса, поэт старается соблюсти скрупулезную верность внешним приметам античности, тогда как художник довольно далек от них.
Обращаясь свободно с литературными первоисточниками, в угоду своим образным замыслам Сандро создает картину как сплав жизненных наблюдений и собственного, ни с чьим не схожего воображения и вкуса. Этим живописец расширяет рамки старинной композиции – обряда почитания божества – «Теофании». Согласно наиболее устойчивой версии, композиция «Рождения Венеры» удивительным, если не сказать – кощунственным – образом заключает содержание античного мифа в средневековую сугубо христианскую схему «Крещения». Явление языческой богини уподобляется таким образом возрождению души – нагая, подобно душе, выходит из животворных вод крещения… обаятельная грешница. Немалая смелость понадобилась художнику и выдумка тоже немалая, чтобы заменить фигуру Христа победительной наготой юной женщины – сменив идею спасения аскетизмом на идею всевластия Эроса.
Согласно установке Мирандолы, даже библейское «Дух божий носился над водами» приравнивается ни более ни менее как к дыханию Эроса, которое и воплощают собою у Боттичелли летящие над морем ветры – Зефиры. Эти «zefiri amorosi» движут и вдохновляют к жизни рождение новой человечности – Венеры в стихах Полициано и в картине Сандро. Однако «Теофания» в качестве главнейшей идеи включает в себя не только схему «Крещения», но еще варианты священного предстояния, молитвенного преклонения и чудесного явления божества. Все это также имеется в композиции «Рождения Венеры», прозрачные и всевластные ритмы которого, раздвигаясь, охватывают все любовные сферы от мира реально вещественного до «невещественных озарений».
Предстоящие, или, точнее, «предлетящие» два гения воздуха и нимфа в одежде и с прической Весны образуют собой как бы кулисы, заботливо распахивая их для задумчиво сказочного действа на фоне декоративного заднего плана почти без намека на перспективную глубину. Море, странно условное, испещренное заостренными «птичками» схематических волн, осмысляется автором как животворящая стихия, в глубинах которой дышит и зарождается целый мир – рыбы, морские животные, полчища тритонов и нереид. Однако все они лишь предварительные ступени к главному рождению – венцу всего – Анадиомены, которую фактически совершенно заново творит в своей картине Боттичелли, как бы восклицая дерзко словами великого Данте: «Это чудо; да будет благословен господь, творящий необычайное!»
Развевающийся плащ летящих Зефиров словно впитал в себя всю синеву и прозелень серовато-блеклых тонов неба и моря, тогда как пурпур платья богини в руках прислужницы Оры концентрирует в своей насыщенности самые звонкие тона меди и золота прибрежной листвы и девичьих кудрей.
Сияние цвета несет в себе функции нерациональные, но и не мистические, как в средневековой иконе – функции образные. Собственно золото – то есть вскоре заклейменная прозаически мыслящими живописцами (и с ними Вазари) золотая краска – употребляется здесь многократно и щедро. Более того, золото – один из основных цветов, одно из главных средств выражения. Нежнейшие нити его прежде всего просверкивают в необычайно обильном каскаде волос богини, а затем – словно отблески солнца зажигают пылающим светом края чуть розоватой символической раковины-ладьи, легким касанием гладят травинки на берегу, звучно скользят по древесным стволам, золотя и листву деревьев. Однако это не византийский эффект драгоценной иконной эмали, поскольку он подчинен общей матовости боттичеллевских красок.








