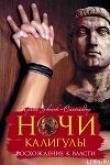Текст книги "Гладиаторы"
Автор книги: Олег Ерохин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Утром следующего дня Сарт доложил Каллисту о результатах своих хлопот: согласии сенаторов участвовать в заговоре и об отказе Марка Орбелия. Выслушав египтянина, влиятельный вольноотпущенник сказал:
– Ну что же, как и следовало ожидать, твой верный товарищ не пожелал рисковать своим здоровьем ради вашей трепетной дружбы. Позаботься о том, чтобы он, по крайней мере, не проболтался… Делать нечего, придется, видно, мне просить помощь у своих старых приятелей. Может, они любят мои сестерции… Так что наведайся-ка завтра с этим вот мешком к преторианцам Квинту Сентицию и Виписку Фламинию – ты на поверку убедишься, что такие скромные подарки вместе с благоразумной боязливостью огорчить дарителя способны связать людей надежнее, чем самая крепкая дружба.
С этими словами Каллист подал Сарту мешок с сестерциями. Египтянин взял его, взвесил на руке (в мешке доставало тяжести) и спросил:
– Не лучше ли сообщить этим славным римлянам твое предложение сегодня? Если они все-таки откажутся, то мы сможем за завтрашний день подыскать кого-нибудь еще – ведь прием у Калигулы наших сенаторов назначен уже на послезавтра.
– Ни в коем случае. Они слишком жадны, чтобы отказаться от моего презента, и слишком трусливы, чтобы отказать мне, поэтому они наверняка согласятся. Однако моим ребятам нельзя оставлять время на раздумье, о наших намерениях относительно них они должны узнать в самый последний момент, а не то эти храбрецы, если дать им возможность поразмышлять, так раздразнят свой страх к императору, что, чего доброго, умудрятся обратить свое согласие и купленную верность в предательство. Так что оставь переговоры с ними на завтра, а сейчас лучше займись своими питомцами – они могут понадобиться сегодня.
Дело было в том, что на этот день в императорском дворце намечался пир, а на пирах, как известно, император нередко имел обыкновение забавляться, заставляя кого-нибудь из гостей, чей внешний вид был неподобающе величественен или чьи военные заслуги слишком расхваливали, сразиться то с медведем, то с пантерой, то с тигром (император, якобы, предоставлял им, таким образом, возможность проявить свою доблесть). В обязанность египтянина, как служителя зверинца, входило – держать зверей постоянно наготове в такие вот пиршественные дни, чтобы не рассердить Калигулу долгим ожиданием, если уж ему вздумается поразвлечься. (Сарт пересаживал зверей с помощью специальных цепей и крючьев в особые клетки, в которых они, если в них возникала необходимость, переносились в пиршественную залу. Затем в такую клетку подсаживали, по указанию императора, какого-нибудь гостя.)
Расставшись с Каллистом, Сарт направился к своим четвероногим подопечным, а грек занялся последними приготовлениями к приему гостей.
* * *
Ближе к полудню к императорскому дворцу потянулись самые богатые и знатные: то здесь, то там виднелись украшенные золотом носилки, в которых гордо восседали именитые матроны, величественные сенаторы, богатые всадники. Войдя через парадный вход дворца в широкий вестибул, приглашенные проходили между двух рядов преторианцев, выстроившихся до самого триклиния. Бывшие в числе гостей молодые римляне любовались их прекрасными доспехами, пожилые воины – их военной выправкой, юные девушки – их мужественной внешностью, почтенные матроны – их покрытой одеждами мужественностью.
Правда, преторианцы были поставлены Калигулой не для любования, а для устрашения. Император не без основания подозревал, что нажил себе немало врагов, скрывающихся за льстивыми улыбками, тошнотворной почтительностью и притворной преданностью. Боясь их, он, таким образом, хотел как следует припугнуть их.
Пройдя вестибул, гости входили в триклиний, пол которого был выложен плитами из цветного мрамора, а стены искусно украшены мозаикой. В триклинии было установлено пять громадных столов, расположенных друг за дружкой, вокруг которых рабы расставили ложа. Центральное ложе среднего стола предназначалось для императора. Вдоль стен триклиния стояли массивные гранитные колонны, напротив которых в стенах были пробиты ниши; в этих нишах находились преторианцы, обязанные внимательно следить за благонамеренностью пирующих. В их числе был и Марк Орбелий. Когорта, в которой он состоял, в этот день несла охрану императорского дворца.
Марк не был приучен к чревоугодию, подобно тому, приготовления к которому проходили перед его глазами. Юноша с удивлением смотрел на столы, ломящиеся от всевозможных кушаний, одни из которых были знакомы ему лишь понаслышке, а о существовании других он и не подозревал. То здесь, то там красовались блюда, доверху наполненные жареными раками, тарренскими устрицами, гранатовыми зернами, сирийскими сливами. Паштеты из гусиной печенки – одного из любимых лакомств римлян – стояли вперемежку с паштетами из языков фламинго, молок мурен, петушиных гребешков, мозгов фазанов и павлинов. Все эти яства, относящиеся к закускам, предназначались для того, чтобы возбудить аппетит приглашенных или, вернее, разбудить их обжорство, подготовив их, таким образом, к основной трапезе.
Вошедших в триклиний гостей встречали рабы, которые омывали им руки в воде, насыщенной благовониями, и затем отводили их к уготовленным для них ложам. Устроившись, гости приступали к закускам, не забывая и о кубках, в которые подливали вино заботливые руки императорских виночерпиев.
Хотя место Калигулы пустовало, приглашенные, казалось, не были огорчены отсутствием императора. Они дружно наполняли свои желудки, оживленно переговаривались.
– Ты, Габиний, и сам не больно часто появлялся у Калигулы, а сегодня, гляди-ка, даже привел вместе с собой дочку, этакую пугливую козочку… – сказал один тучный римлянин, на пальце которого блестело золотое кольцо всадника, своему соседу, старику лет шестидесяти, одетому в тогу сенатора.
– Поневоле явишься, когда приглашение тебе принесет центурион от самого императора, – проговорил сенатор. – Правда, не понимаю, зачем здесь понадобилась моя дочь?
– Не прикидывайся простаком, почтенный сенатор! Тебе прекрасно известно, зачем такая красавица понадобилась такому молодцу, как наш император, наш Калигула… – многозначительно, с хищной улыбкой опытного развратника сказал один из вольноотпущенников Калигулы, возлежавший по другую сторону от старого римлянина.
Лицо девушки покрылось краской стыда, а ее отец, Тит Габиний‚ мрачно нахмурился.
В это время раб громко объявил о прибытии императора. Гости, еще не успевшие как следует захмелеть, дружно встали, и, увидев входящего Калигулу, разразились криками приветствия. На этот раз император вырядился Меркурием: на нем была пурпурная шелковая хламида, в правой руке он держал жезл, а на голове у него переливался золотой обруч с маленькими крылышками.
Рядом с Цезарем плыла Августа – Цезония Милония. Сиреневая стола прикрывала мясистость ее тела, края столы волочились по полу.
Божественная чета возлегла на свое ложе, и Калигула подал знак продолжать пиршество. Кубки гостей вмиг наполнились прославленным цекубским тридцатилетней выдержки, со всех сторон понеслись здравицы в честь императора, все ликовали.
Впрочем, Калигула, против обыкновения, не обращал внимания на всеобщий восторг (то есть не окидывал грозным взором, по-орлиному, столы; не прищуривал спесиво глаза и не задирал нос, изображая величественность; не прикладывал к уху ладонь, показывая этим самым свою заинтересованность в приветствиях присутствующих и побуждая их к более громким крикам радости). Разумеется, император не был равнодушен к почестям, но на этот раз его занимало что-то другое. По мере того, как все больше гостей замечало такое странное поведение императора, в триклинии становилось все тише, пока наконец не наступила полная тишина.
Тут император перестал крутить головой и уставился в одну точку, видно, отыскав того, кто был ему так сильно нужен. Тит Габиний, с тревогой наблюдавший за Калигулой, с ужасом увидел, что столь пристальное внимание императора было привлечено к его дочери, Габинии…
На лице не спускавшего с нее глаз Калигулы все больше расцветало сладострастие, Габиния все больше краснела, Тит Габиний все больше отчаивался, его старческие щеки стремительно покрывались лихорадочным румянцем гнева.
Калигула не привык обуздывать свои страсти. Не в силах далее сдерживать свою похоть, он воскликнул:
– Какой же ты, Тит Габиний, подлец, – скрывал от своего господина такую кралю! Да, недаром Сергий Катул прожужжал мне о ней все уши! Так что не забудь поблагодарить его – сегодня твоя дочь, подобно Данае [53]53
Согласно греческому мифу, Даная, дочь аргосского царя Ахрисия, была оплодотворена Зевсом, влившимся в нее в виде золотого дождя. Римский Юпитер соответствует греческому Зевсу.
[Закрыть], удостоится чести испробовать бога, и уж в золотом дожде, клянусь Юпитером, не будет недостатка!
Калигула, не дожидаясь ответа старого римлянина, тут же вскочил со своего ложа, а рабы, привыкшие к таким сценам, молча подхватили под руки Габинию. В этот момент Тит Габиний горестно воскликнул:
– О государь!.. Лучше возьми все мои богатства, но пощади мою дочь, мою единственную дочь, которая еще не познала мужа!..
– Ты, кажется, осмеливаешься возражать мне, вздорный старик! – вскричал Калигула. – Твоя дочка слишком румяна – маленькое кровопускание, клянусь Асклепием, ей не повредит!
Сказав это, мерзкий сластолюбец, не оглядываясь, поспешил к выходу; рабы потащили за ним плачущую и упирающуюся Габинию. Ее отец, давясь старческими слезами, в изнеможении опустился на ложе.
Чем же занималась Цезония, пока шел сей занимательный разговор? Цезония ела. Перед императрицей стояло большое блюдо с соловьиными язычками, сваренными в молоке кобылицы, вот ими-то и увлеклась Августа. Когда Калигула вышел, она сказала одной знатной Матроне, Цинии Арестилле, возлежавшей рядом с ней:
– Эта дуреха так ревет, будто ее вот-вот разорвут… А там всего делов-то – стоит только расслабиться…
– А ты не боишься, что эта молодка утомит цезаря? – спросила Арестилла низким, с хрипотцой голосом.
– Эта-то пигалица? Да мой Гай справится с десятком таких прозрачных созданий, которые и всем скопом не дадут ему то, что даю я… Это для него вроде разминки – вроде вот этих паштетов, тогда как обед еще впереди – Цезония гордо обхватила и приподняла свои тяжелые груди.
– Таким молодцом был и мой покойный муж, Авл Анний. Даром что старик – и днем, и ночью он был готов к любви. И каков привереда! – все время подавай ему новое. Я извела целое состояние на наложниц. Бывало, спросишь у рабыни: «Где хозяин?», а она показывает между ног… Это-то его и погубило: мне самой пришлось стаскивать его с наложницы – старый лакомка испустил дух, взобравшись на нее (а та растеряха стала орать, будто ее насилуют).
Цезония поперхнулась.
– Чтоб ты проглотила свой грязный язык, а не то накличешь беду!.. Нет, с Гаем такая гнусность не случится – ему ведь нет и тридцати, а твоему муженьку, когда он умер, было за семьдесят…
Матроны продолжали беседовать, гости тем временем болтали не менее оживленно, не отставая от них (молчание могло бы быть принято за неодобрение действий цезаря).
– Этот старый осел, почтенный сенатор, остался, кажется, недоволен оказанной ему милостью, – насмешливо сказал Сергий Катул, обращаясь к своим соседям, которые встретили его слова скабрезными ухмылками.
– Он, глупец, должен был еще и благодарить императора, – проговорил Квинт Люппий, один из приятелей Катула.
– Его следовало бы проучить за строптивость, – сказал другой. – И как только Калигула не приказал ему самому держать за ноги свою дочку? Ведь именно так божественный поступил год назад с Децимом Страгулоном.
Собеседники загоготали, видно, представив подобную сцену с Титом Габинием.
– Вот бы ты, Катул, и рассказал этому глупцу, как сладка милость императора, – усмехнулся Гней Фабий с другого конца стола. – Тебе-то она хорошо знакома!
Гней Фабий и Сергий Катул, оба – любимцы Калигулы, не переставая, враждовали друг с другом, борясь за влияние на императора. Однако если один стремился заслужить признательность Калигулы, потакая его распущенности (что Катулу при его достоинствах было совсем нетрудно), то другой – потакал его жестокости (самого Гнея Фабия, впрочем, тоже никто не обвинил бы в излишней мягкости). Гости, сидевшие с ними за одним столом, слушали их пререкания с веселым видом, поддерживая то одного, то другого (отдать полностью предпочтение или Фабию, или Катулу было опасно – это могло бы вызвать злобу обделенного).
– Да Катул, небось, боится, как бы красотка не переманила императора, – сказал всадник Аппий Поппей, возлежавший на одном ложе с Гнеем Фабием. Поппей считал себя большим знатоком любовных утех. – Этим распутницам стоит только почувствовать вкус обольщать – и их уже не отвадить… Когда малышка кричит – ее одолеешь да отбросишь, а когда она ластится, то тут смотри в оба, как бы самому не оказаться побежденным.
Марк Орбелий с негодованием наблюдал за той отвратительностью, которая развертывалась перед его глазами. Калигула, Тит Габиний, Габиния… Ему казалось, что молодую римлянку жадно ухватило какое-то зловонное болото, липкая грязь облепила-облапила ее и потянула в пучину… Да и что, кроме отвращения, может вызвать мерзкий обрубок, приготовившийся, словно ядовитый червяк, ужалить белое тело – только, разве что, еще и желание раздавить его?..
Так что же он, Марк, должен был сделать?.. Вмешаться, убить Калигулу? Но в переполненном преторианцами зале это было совершенно невозможно, даже при его силе и ловкости, – так, по крайней мере, думал сам юноша. Конечно, в этой его уверенности в бессмысленности вмешательства была известная доля опасения за себя, страха за свою жизнь, ведь он бы неминуемо погиб, если бы попытался убить Калигулу, независимо от успешности такой попытки.
Но разве можно живым винить живого в том, что тот не хочет умирать, спасая другого, или даже не другого – не жизнь другого, а другого честь – этакую штучку, что между ног?..
…Когда рабы привели назад растрепанную и всхлипывающую Габинию, за которой горделиво шествовал Калигула, Тит Габиний принялся непослушным языком проклинать императора и призывать на него гнев богов. Калигула было нахмурился, но вместо того, чтобы разъяриться, оглушительно захохотал. Тут же засмеялись гости и Цезония – все увидели, как Мнестер стал носиться вокруг обесчещенной, смешно изображая ее отчаяние трагически сведенными бровями и ладонями, зажатыми в горсть на том самом месте, что пониже пояса. Это спасло сенатора – вдоволь навеселившись, Калигула приказал вытолкать в шею «старого ворчуна и его дочь-поганку, ревущих тогда, когда другие бы радовались».
Рабы выполнили приказание императора. Пир продолжался, голоса гостей, разгоряченных вином, не умолкали. Вскоре была объявлена перемена блюд, и рабы стали заставлять столы новой снедью: тут были и родосские осетры, и лангусты, и громадные мурены, и жареные дрозды под соусом из шампиньонов, и нежные спинки беременных зайчих в обрамлении спаржи. Гости ели и пили, прославляя Калигулу: Когда у многих из них стали заплетаться языки и блуждать взоры, рабы внесли десерт: орехи, африканские смоквы, засушенные финики, маслины, сваренные в меду. Особого внимания гостей удостоился пирог в виде громадного фаллоса, покрытого глазурью. Его поставили на стол, за которым возлежал император, а несколько фаллосиков поменьше поместили на другие столы.
– Будь здоров, божественный, слава тебе! – закричали все.
– Хвала Приапу, я здоров… Думаю, что в следующий раз ты высмотришь для меня кого-нибудь получше, чем эта плакса, – медленно проговорил Калигула, обращаясь к Сергию Катулу (так говорят пьяные, когда речь уже перестает повиноваться им, но рассудок их еще не уснул).
Прежде чем молодой развратник успел ответить, послышался чей-то хриплый голос, ярко размалеванный подобострастием:
– Твой старый слуга рад вновь послужить тебе, о божественный… У меня есть на примете одна красотка, которая, клянусь твоим гением, будет послаще, чем крикунья этого мошенника Катула.
Марк стоял неподалеку от места, где возлежал Калигула, поэтому он хорошо слышал разговор достойных римлян, хотя и не видел их, – их загораживали колонны. В грубом голосе человека, опередившего Катула, юноше послышалось что-то знакомое.
– Давненько тебя… ик!.. не было видно в Риме. Что же это ты забыл своего императора? – поинтересовался Калигула у невидимого для Марка льстеца.
– Клянусь богом, я покинул Рим только для того, чтобы подыскать какое-нибудь милое создание, единственно достойное служить тебе своими прелестями…
Если бы Марк мог не только слышать, но и наблюдать за сотрапезниками Калигулы, то он увидел бы, как смачно чмокнула в щеку говорящего большая куриная кость, вымазанная в соусе.
– Ну а я, что же, недостойна, что ли?
Кость принадлежала Цезонии. Августа была равнодушна к тому, сколько у императора наложниц, но вот единственной-то была она одна…
– Ты бы лучше запустила в него все блюдо, – сказал Калигула и, пуская слюни, поцеловал Цезонию. – Можешь быть спокойна, моя курочка, – если я иной раз пью и цекубское, и хиосское, и сетийское, то это не значит, что я откажусь когда-нибудь от моего любимого фалернского…
У Валерия Руфа (а это был именно он) задрожали губы.
– Прошу тебя, о цезарь, и тебя, Августа, простить меня… Во всем виноват мой пьяный язык – он сболтнул что-то свое, тогда как я только хотел сказать, что моя красотка будет получше иных наложниц, но сравнивать ее с… хм… божественной Августой мне даже не пришло в голову…
Сенатор еще долго извинялся, что-то там бормотал, но августейшие супруги, казалось, не слушали его: Цезония в полудреме от съеденного и выпитого о чем-то вяло переговаривалась со своей соседкой, а Калигула, не отрываясь, пристально смотрел на вино в своем стеклянном кубке (можно было подумать, что император о чем-то напряженно размышляет, между тем как Калигула попросту осоловел от вина).
Наконец взор цезаря покинул кубок и остановился на Валерии Руфе, который все еще продолжал оправдываться.
– Так где же она, твоя девчонка?.. Давай, волоки ее сюда…
– Я доставлю ее тебе завтра же, государь, и тогда ты сам убедишься в смазливых достоинствах Орбелии. Но глупышка может, чего доброго, не поверить такому счастью – тому, что ты хочешь ее видеть, и тогда мне понадобится какое-нибудь доказательство моей правдивости.
– Какое еще доказательство?.. Ну да ладно, пусть Каллист черкнет пару строк от моего имени, хотя не знаю, достойна ли она письменного приглашения цезаря…
Сказав это, Калигула кивнул в сторону своего любимца Каллиста, который возлежал за одним столом с ним.
– Пусть достойный сенатор пройдет в канцелярию сразу же после нашей трапезы – я дам ему такое приглашение, – сказал Каллист вполне трезвым голосом. Грек всегда воздерживался от обильных возлияний, боясь утопить в них свое верное оружие – лукавство. – А чтобы это приглашение выглядело достаточно убедительно, я могу дать в придачу к нему десяток преторианцев.
– Мне будет достаточно и своих рабов, – проговорил Валерий Руф…
Марк, слушая беседу славных римлян, все больше мрачнел. Он узнал Валерия Руфа и с первых же слов сенатора понял, что речь идет о его сестре. И вот теперь-то он возненавидел не только злодеяния Калигулы – нет, он ненавидел его самого.
Каким же он был глупцом, когда считал, что человек обезображивается дурными поступками так же, как чистый в своем истоке ручей мутнеет, пересекаясь людьми или животными; и как из ручья можно напиться, достигнув его истока, так от любого, даже от Калигулы, можно добиться участливости, если его не раздражать и не провоцировать.
Да, прав был Сарт – у этого тирана нет ничего человеческого. Как источник, бьющий мертвой водой, никогда не сможет стать живительным, так и Калигула со всеми его пороками никогда не сделается человечным. Теперь Марк ругал себя за то, что, жалея Габинию, он даже не подумал, как отомстить за нее Калигуле… или даже нет, не отомстить, а уничтожить его, это кровожадное чудовище.
Марк решил во что бы то ни стало добиться с завтрашнего дня отпуска, чтобы с оружием в руках воспрепятствовать Валерию Руфу осуществить задуманное им злодейство.
* * *
Пока шел пир, Сарт крутился в толпе рабов и прислужников у стола Калигулы, ожидая, не понадобятся ли императору его звери. Египтянин хорошо слышал все, о чем говорили за столом. Марк рассказал ему о своей сестре, и он, услышав ее имя из уст Валерия Руфа, понял, что именно о ней шла речь, именно ее сенатор вызвался доставить к Калигуле (уж, разумеется, не для нравоучительной беседы).
«Ну ничего, я помешаю злодейству – этому сенатору, который зовется Валерием Руфом, не выбраться из дворца, – подумал Сарт. Он найдет свою погибель там, где ищет погибель для других».
Пир продолжался всю ночь. Под утро император, которого вконец развезло, отправился в свою опочивальню (рабам пришлось вести его под руки – он еле держался на ногах), вслед за ним побрела Цезония. Немного погодя, гости стали покидать дворец – одних тоже выводили под руки, других выносили.
Валерий Руф казался трезвее обыкновенного, наверное, потому, что удовлетворение сжигавшей его жажды мести сулило ему большее наслаждение, нежели опьянение. Когда он, вместе с другими гостями, направился к выходу (из триклиния сенатор собирался сразу же пройти в канцелярию Каллиста), к нему подошел Сарт.
– Каллист, мой господин, приказал мне проводить уважаемого сенатора в его кабинет, – сказал египтянин, склонившись.
Как и следовало ожидать, Валерий Руф принял Сарта за одного из служек всесильного фаворита. Он кивнул и, ничего не сказав, пошел вслед за египтянином.
Сарт молча повел сенатора по многочисленным коридорам и переходам дворца. Кое-где встречающиеся преторианцы провожали их равнодушным взглядом – все они знали египтянина, который часто водил то одного, то другого любопытного римлянина посмотреть императорский зверинец (разумеется, с ведома Калигулы или Каллиста).
Валерий Руф долго не появлялся во дворце, да и раньше был знаком только с его триклиниями да парадными залами, поэтому он быстро запутался в палатинском лабиринте. В одном из коридоров, по которому они шли, Сарт резко обернулся и сказал:
– Каллист велел тебе ожидать его здесь.
Не дожидаясь расспросов сенатора, египтянин сразу же вышел, прикрыв за собой дверь, через которую они только что вошли.
Валерий Руф остался один. Оглядевшись, он понял, что место, в котором он оказался и которое он сначала принял за очередной коридор, на самом деле было небольшой комнаткой. В эту комнатку вела только одна дверь, через которую они вошли и которую, выходя, так заботливо прикрыл его провожатый. Тусклый свет зарождающегося утра проникал в нее через маленькое оконце, расположенное высоко от пола; оконце выходило в какой-то маленький дворик. Стены комнаты были расписаны сценами с изображением охоты, а пол был, похоже, деревянный, а не мраморный, как во всем дворце.
Валерий Руф нагнулся, чтобы получше рассмотреть довольно широкую щель между досками пола, показавшуюся ему чем-то странной. Вдруг пол заскользил у него под ногами, и грозный сенатор полетел куда-то вниз.
Не успев как следует крикнуть, Валерий Руф приземлился на ворох соломы, устилавшей подземелье, в которое он попал. В тот же момент створки пола, служившего, оказывается, и потолком, беззвучно сомкнулись.
Сенатор оказался в темном помещении, не имевшем окон; лишь небольшой его участок освещался слабо горевшим факелом, прикрепленным к стене. В одну из стен, похоже, была вделана дверь, и Валерий Руф направился туда.
Сенатора остановило громкое рычание. Оглянувшись, Валерий Руф увидел громадного льва. Он закричал, и в этом крике было так же мало человеческого, как и в рыке зверя. Вся его жизнь пронеслась перед ним. Чувствовал ли он раскаяние за те преступления, которые совершил?.. Нет, только сожаление, что ему больше никогда не придется наслаждаться своим богатством и страхом своих врагов, да злобу на самого себя – ведь он так глупо попался!..
А через мгновение все его существо захлестнула волна страха, и больше не было места ни сожалению, ни злобе.
Спустя некоторое время в подземную комнату, оказавшуюся ловушкой для Валерия Руфа, вошел Сарт. (Предварительно египтянин намотал на специальный блок цепь, к которой был прикован хищник, оттащив его, таким образом, к стене.) С сенатором было все кончено – в большой луже крови валялись лишь обглоданные кости того, кто много лет внушал смертельный страх не имевшим достаточной защиты от его ненависти…
Эта ловушка была устроена по приказанию Калигулы для тех, чьими действиями (или бездействием) император был недоволен и от смерти которых он собирался получить удовольствие. Из специального решетчатого окна в стене Калигула любил наблюдать, как удивление жертвы сменяется страхом, страх – отчаянием, отчаяние – предсмертным воплем. Сарт, как служитель зверинца, ухаживал за львом-людоедом, поэтому он прекрасно знал устройство ловушки.
* * *
Сарт видел Марка, когда тот стоял на страже в триклинии, и не сомневался в том, что молодой римлянин, конечно же, слышал разговор Валерия Руфа с Калигулой. Поэтому египтянин, уничтожив следы львиного пиршества, поспешил в преторианский лагерь – он хотел успокоить Марка, а заодно передать людям Каллиста мешок с сестерциями вместе с предложением их благодетеля.
Подходя к казармам преторианцев, Сарт увидел, как из ворот лагеря выехал всадник в темном плаще, подпоясанный мечом. Всадник быстро поскакал по дороге ему навстречу. Расстояние между ними быстро сокращалось, и вскоре в этом нетерпеливом наезднике египтянин признал своего друга, Марка Орбелия.
Марк летел во весь опор и, пожалуй, не заметил бы Сарта, если бы тот не окликнул его. Сдержав коня, молодой римлянин прерывающимся голосом сказал:
– Привет тебе, Сарт! Извини, сейчас я очень спешу. Давай поговорим как-нибудь в другой раз.
– Да, я вижу, как ты несешься, словно тебе не терпится упасть и сломать себе шею. Но на то я и друг тебе, чтобы удерживать тебя от безрассудства. Поворачивай-ка назад – ты уже встретил того; кто был так нужен тебе.
Сарт заметил на лице юноши нетерпение, и ему ничего не оставалось делать, кроме как поведать своему приятелю о том, какое отношение может иметь отнюдь не любопытный и ничуть не любящий животных сенатор к его зверинцу. Заканчивая свой рассказ, египтянин сказал:
– Так что, стремительный юноша, придержи-ка коня! Валерий Руф, этот любитель чужих страданий, больше никогда не будет наслаждаться ими.
У Марка будто гора свалилась с плеч. Правда, к его радости примешивалась известная толика горечи, ведь прежде чем скатиться до безучастия к беде Габинии, он поскользнулся на отношении к злодействам Калигулы в том самом разговоре с Сартом, когда он отказался принять участие в заговоре. Юноше показалось, что он был просто безразличен к тирану, и это безразличие к тирану равнодушие к его жертвам – он скрыл за дрянными ширмами честности и справедливости (честность и справедливость будто бы мешали ему навредить человеку, которому он был вроде как обязан).
– А как же Калигула? – виновато спросил Марк.
– Калигуле мы предъявим счет завтра. Однако поскольку в подобных исках судьей является фортуна, то мы можем и прогореть, а тогда нам придется заплатить за судебные издержки своими жизнями. Но если мы победим, то тем самым выиграют жизни те, кто рискует потерять их, если будет жив Калигула.
– Да, теперь я вижу, что ты был прав, когда говорил, что необходимо убить Калигулу. Я же ошибался… – проговорил Марк задумчиво. – Нет, не ошибался, а боялся. Боялся за себя, когда рассуждал, что если, мол, Калигула не угрожает мне и даже помог мне, то и я не могу поднять руку на него. Я совершенно позабыл о людях, как будто сам я не человек. Я помнил только о себе, о собственной жизни, как будто другие не живут, а я не смертен… Тогда я отказал тебе, а теперь прошу – не отказывай сейчас мне, позволь и мне быть человеком, а не обезумевшим от страха куском плоти…
– Ну-ну, больно-то можешь меня не уговаривать, – ответил, улыбнувшись, Сарт. – Я не собираюсь слишком упрямиться – я соизволяю тебе рискнуть собственной шкурой в этом дельце.
Затем египтянин подробно разъяснил Марку, в чем должно заключаться его участие в заговоре, и друзья расстались.
Сарт направился к Бетилену Бассу, а от него – к Аницию Цериалу. Воротившись во дворец, египтянин сразу же нашел Каллиста и сообщил ему о том, что сенаторы подтвердили свою готовность участвовать в заговоре, а сестерции грека остались неиспользованными.
Каллист выслушал своего поверенного и сказал:
– Ну что же, если опытный садовник Калигула взрастил в твоем дружке такую ненависть к себе, то она, конечно, будет культурой более жизнестойкой, нежели та исполнительность, которую я взлелеял в своих приятелях, подкармливая их сестерциями…
Умный делает ставку не на жадность или дружбу, которые могут быть запущены страхом, а на ненависть – вот истинное чувство, которое не изменит. Так что раз твоего приятеля обуяла злоба к Калигуле и только поэтому он согласился помочь нам – тем лучше для нас, ну а сестерциям я уж найду применение…
Заговорщики еще долго уточняли свои планы на завтра и расстались очень поздно.