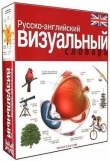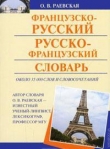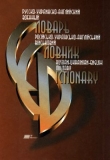Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Уцепившись за Агеева, я увидел поначалу его перевернутый фас.
– Именем Страшного суда! – крикнул подходящий тип. – Маратов закон!
– Маратов закон! – подхватило все скопление.
И славяне отступились. Брошенный наземь, я стал на колени, да и рассмотрел своего заступника. Был это никто, как Семечкин. Мой соратник по диссидентству.
Стойкий борец за свободу от совести, от морали и от правил всякого общежития, включая общежитие на улице Колодезная, где Словарь когда-то начал свою карьеру сантехника. Николай Семечкин собственной бестолковой персоной, обросшей кочаном грязный волос, клокастою бородой и слухами о героическом прошлом. Давно Семечкин исчез из жизни моей. Казалось, навсегда. И вот он, рыхлый, большой, с лиловой физиономией и умными поросячьими глазками. Семечкин меня или не признал, или просто игнорировал, как игнорировал институты семейные, религиозные либо государственные. Семечкин поднял грязный перст, призывая тишину. Площадь умолкла в тряпочку.
– Маратов закон гласит, – начал он, как опытный докладчик, негромко, но по восходящей оратории. – Всякий добровольно может взять на себя чужие грехи, как свои, в искупление части общего греха, данного нам оболочкой. И такой может занять место виновного, и Божий суд свершится, и печать его запечатает прокаженные уста, прочие же уста воспоют Осанну!
– Слава Николаю-чревоугоднику! – ревом ответила площадь. – Маратов закон!
Семечкин пропал в толпе, а Митя под напором общественности освободил Агеева от колодки. Мне было уже не страшно. Не так, как в лодке, когда я с еще благими намерениями воображал свою сдачу. Я беззвучно повторил молитву из Нагорной проповеди, перекрестился, и только хотел, чтобы все поскорей было кончено. Но время пошло в затяжку. Альбинос изматерил меня, и постепенно затянулся в толпу, будто в трясину. Скользкий бритвенный черенок полицай загибал моими пальцами так долго, что все куда-то исчезли. Остались я и Филиппов. И Филиппов тоже медлил. Шевелился против меня под дождем, согнувшись, и вытаращив лезвие.
– Теперь он тебе за селедку вспорет, – натекла мне в ухо теплая, точно кровь, Митина речь. – Пить надо меньше, святой отец.
Самого Митю я не замечал. Я лезвие рассматривал.
– Валяй, – сказал я Филиппову, отбросив навязанную мне бритву. – Я волчья сыть. Со мной не чикаться, шкура.
А продавец все тянул, словно кот мой, когда его подсадишь в ванную для облегчения, и там он крутится, и когти точит об эмаль. Но Филиппок себе облегчения не предвидел. Загрустил Филиппок. Не сулило ему чести монаха резать. Подобный ход мыслей, переведенный с его постного лица, навеял мне собственную тоску: «Надолго мы застрянем, если Филиппов удумал вдруг поститься. Капитально застрянем. Остаток дней здесь проведем в канители, да сырости».
– Магазин пора открывать, – аргумент, обрушенный мною на продавца, был железный, как прут из арматуры. – Режь, Филиппов.
И как в случае с унтером, дисциплина победила, что называется, по очкам.
Филиппок метнулся ко мне, взмахнул бритвой, дрогнул, и присел. Затем он показал мне красную ладонь, промычал что-то и ничком лег на землю. В боку его сидела отвертка, погруженная по самую голубую рукоять.
– Знамение! – завопил истеричный бабий голос. – Небеса поразили каина!
И тотчас все замелькало с дикой скоростью. Юбка Виктории мелькнула рядом. Как скошенная, толпа осыпалась на колени. Сотни трясущихся рук устремились ко мне. Лавр откуда-то вылез, и вознес меня на могучий свой загривок.
– Рожать хотим, отец! – голосили женщины. – Благослови наши брюхи, отец!
– Благослови, – посоветовал эсэсовец. – Волнуется публика. На святыни порвут.
Бабий вой оборвался внезапно, перешибленный как плетью разбойничьим свистом альбиноса Могилы.
– Мочи его, братва! – клич, брошенный Могилой где-то у подножия храма, отвратил от меня большую часть поголовье. – Он, сучок, Филиппова заколол! Его отвертка! Самосуд ему!
Заметив с высоты лавровых плеч, как прянула орда на призыв альбиноса, я почувствовал, что происходит нечто ужасное, и двинул эсэсовца кулаком по маковке.
– Высаживай, Лавр! Агеева топчут!
Колосс Валдайский ссадил меня наземь, и первый рванул к подножию храма, где сбилось ревущее стадо. За его широкой спиной я пронесся к месту расправы точно ботик за ледоколом. Но когда, задыхаясь, налетел я на каменную спину Лавра, то сразу все понял. Лавр потянул с головы картуз. Отхлынувшие сволочи огибали Лавра плотно, и я не сразу же смог выйти из-за спины его. Кто-то взял меня сзади крепко за плечо. Я обернулся и узнал сквозь пелену мрачного полицая.
– А так бы Филиппов живой сейчас был. Или Агеев. Кто-нибудь был бы, – Митя плюнул мне в ноги. – Где монах ступает, больше трава не растет. Немецкая поговорка.
Ссутулившись, он зашагал прочь среди разбредавшихся обитателей поселка.
И открылась мне истина простая как предложение из подлежащего и сказуемого: нет из Казейника дороги, вымощенной благими намерениями. Только в Казейник. В самое логово Анкенвоя. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Книга «Откровение», глава 13, последний абзац.
СМУТНО И ЯВНО
Явно помню, что вечер я провел в пивном вагоне-ресторане «Понтон». Явно помню, что проповедовал завсегдатаям. Но что проповедовал, помню смутно. Отчетливей помню, как обещал пивным речникам Египетские козни. Чтобы слушатели прониклись, весьма полноводно обрисовал я бедствия, связанные с рекой. Так у меня рыба в реке не просто вымерла, а вымерла и щука, и сом, и налим. Издохли плотва, карась, пескарь, оголец, красноперка, бычок, лещ и подлещик. Я и морскую рыбу хотел уморить, да сбился на земноводных. Зато жаб, наскакавших из реки, я расписал от и до, с указкой размеров, бугристой поверхности, длинной прыжка и даже средним количеством жаб на душу египетского населения. Лекция подействовала на меня отрезвляюще. Я даже изловчился написать куском угля и заглавными буквами на засаленной вагонной доске слово «ИСХОД». Потом я отвечал на вопросы читателей.
– За кем пойдешь, когда сцепимся? За славянами или за нами? – спросил читатель с челюстью, подвязанной клетчатой материей.
– За картографом пойду. Подробная карта местности важнее. Разобьем на квадраты с Марком Родионовичем.
– А почему козни? – въелся в меня подвязанный читатель.
– Уточняйте точнее.
– Почему козни Египетские?
– Всякий человек имеет права на одну орфографическую ошибку.
Явно помню земского письмоносца с двуглавыми орлами на пуговицах. И был еще на нем черный форменный картуз с медным жетоном «66». И оловянные орлы в два ряда сидели на черном сукне. И сумка с надписью «Заказные письма».
– А правда в народе гуляет слух, что вы, товарищ, мертвого запросто можете воскресить? – 66-той читатель вместо письма заказал вопрос.
– Мертвого не могу. Живого могу. Живого запросто.
Я хотел пересчитать орлов, но меня дернула прочь особа в меховой шапочке.
Ее волновало, что за исход ожидать: Моисеев ли, или какой другой.
– Летальный, – пояснил я свернуто. – Капут ожидать. Крышку.
После чего зычно вызвал к доске Болконского, и взяв за образец его тюбетейку, показал, как выглядит крышка в общих чертах. Хотел показать, как она выглядит в разрезе, но Болконский воспротивился. Явно помню, что крестили в пиве обращенного николаита. Его привязали к веревке и окунали в реку через люк.
На крестинах присутствовал Семечкин. Одуревший и мокрый николаит был наречен именем Нерва, перекрещен всей горстью пальцев и поцелован в уста. Нерва бил озноб. Нерва чихал и трясся.
– У Нерва отит, а ты его в пиво холодное макаешь, – отчитал я Семечкина за излишки религиозного фанатизма.
– Мы всех подряд оборачиваем, – вступился Болконский. – Хворающих, здоровых, и буйных помешанных. Хочешь, тебя обернем.
– Монах. В синих штанах, – Семечкин заносчиво отстранил меня, и завалился под ноги. Видать, пьяней моего напился Никола Семечкин.
– Вчера на этом же месте брякнул, – дама в меховом уборе опустилась подле пророка и прижалась к нему. – Оболочку истязает.
Явно помню, что у Болконского в бидончике возник самогон, когда николаиты молочную флягу с пивом пустили по кругу, и до меня дошла очередь.
– Первач, – Болконский поднес мне медный бидончик, опоясанный пышным бантом, сотворенным из красного дамского чулка. – Монотонный. Для вас обменял на знамя части. Как вы на пристани самогонки с Глухих откушали, вам лучше не смешивать. Вы нынче кавалер. Ясно помню, что решил не задавать ему лишних вопросов. Вообще решил вопросов не задавать. Помню, распоясал чулок, и выпил. Самогон оказался ядреней, чем у Германа, и пробудил во мне праздное любопытство. Помню, я взял, да и расспросил Болконского, знамя которой части ушло на выпивку, и откуда ему известно о моих посиделках на пристани.
– Войсковой строительной части № 4. Остальные цифры соскребли. Или же влага поглотила их, сударь. Знамя в заливе Руденко поднял. Уступил мне за подшивку журнала «Огонек» 1988 года. Что касательно языка, то честь имею представиться: начальник общинной контрразведки граф Болконский.
– Иди ты. Вот оно как? Структура? Надо же. А я был уверен, что вы типичные вахлаки. Заурядная кучка оборванцев. Сброд, присосавшийся к дармовой реке и бредовым идеям религиозного шарлатана.
– Нет, – горячо возразил контрразведчик. – Не реке. Николай-чревоугодник явил нам чудо рукотворное. И сказал: «Река станет пивом». И река стала пивом. И сказал: «Да течет оно, пока не утолится жажда вечная». И течет.
– Чудо, что трубу до сих пор не запаяли выше по течению.
Самогон пробудил во мне досужие мысли: «Видать, концерну «Франкония» интересней туманить общественный мозг, нежели отбиваться от мятежников, осознавших суть происходящего». И еще я подумал про унтера: «Языком Болконский, конечно, Перца нарекает. Перец, конечно, сволочь. Убийца и сукин сын. Но Перец крепкий сукин сын. Если графу известно о том, как я провел утро, значит, Перец в контрразведке. И, значит, показания из него с ногтями вырвали».
– Перца я у Глухих на два бидона сменял, – отозвался проницательный граф. – Вторым бидоном с бантами Николай тебя велел наградить за отвагу. У Глухих самогонка процеженная, хотя по Цельсию уступает.
– А по Фаренгейту?
– И по Фаренгейту.
Я протянул бидон контрразведчику.
– Ни-ни-ни! – заплескал граф руками. – Кавалерийский! Персонально за мужество!
– Перцу ногти рвали?
– Для чего? – изумился граф. – Он из благодарности, что мы от Глухих его спасли, добровольно все выложил. И про вас, и про какого-то капеллана, который приговорил его к содомии с Глухих.
– Отпустил?
– Вернул татарину. Обменял на обратный самогон. Наш самогон его градусом превосходит.
– Это выше моего понимания.
– Да.
Болконский выпил тюбетейку пива, и его повело на философию, будто кота на блядки. Контрразведчики всех мастей отчего-то именно тяготеют к философии.
– Многое выше понимания духовенства. Возьмите хоть бы Достоевского. Воздали вы ему за Великого инквизитора? Причислили его к лику? Не уверен. Между тем, Федор Михайлович Достоевский остается величайшим русским философом.
– Точно. А Георг Вильгельм Фридрих Гегель остается величайшим немецким беллетристом.
Болконский как-то сразу потускнел.
– Анна, проводи кавалера! – наказал собранию, и прилег у стены. Последний наказ Болконского исполнила тощая хиппи с веснушками на узком лице.
– Чулок отдайте, – буркнула хиппи.
– Святая Анна с бантом? – я рассмеялся, вынул из кармана красный чулок, передал по назначению, и сел допивать самогон из бидончика. Смутно помню, как узрел я линялый колокол. Я хотел, было, ударить в набат, собрать народное вече, и двинуть ополчение на Москву, да колокол оказался юбкой. Я соскользнул по голой ноге. Какие-то внутренние ресурсы помогли мне встать, и выставили меня из вагона. Под черными сводами, истекавшими водой, разбавленной воздухом, я качался, вдыхая и то, и се.
– Куда пойдем? – спросили внутренние ресурсы.
Смутно помню, что назвал я Марка Родионовича, и пропал в зыбучих песках.
Ясно помню, как проснулся. Проснулся в учительской на проваленной до пола раскладушке, более заслужившей название гамака. Против меня висел земной шар в какой-то сетке, более заслуживший название воздушного. Я встал. Я хотел почистить зубы и умыться. Но вместо этого наступил на существо, постеленное вместо коврика. Существо шевельнулось и посмотрело на меня. Рыжее худое бесполое существо с лицом, усыпанным веснушками, с маленьким ртом, узким носом и карим зрением. На голове метла из рыжеватых шнурков. Все, что ниже, тряпичная кукла в кожаной мини-юбке фасона клеш, красных чулках и красных кедах. «Анна третьей степени, – припомнил я вечер накануне. – Если с бантом, значит за боевые заслуги». У Николы-чревоугодника сохранилось извращенное литераторами чувство юмора. У меня сохранилось желание почистить зубы.
Найти дверь в учительской, сплошь зашпиленной как материковыми картами, так и картами районного значения, оказалось не просто. Минут пять я плутал по комнате, ощупывая стены и спотыкаясь о кипы школьных тетрадей, атласов, и географических альманахов, после чего меня чуть не сшиб размещенный по вертикали кандинавский полуостров. Марк Родионович возник в дверном проеме с кастрюлькой, накрытой вафельным полотенцем, и на одинокой ноге допрыгал до письменного стола. Отыскав на столешнице, так же заваленной журналами, тетрадями и чертежными приспособлениями, место для черной от копоти кастрюльки, Марк Родионович присел на табурет.
– Выспались, батюшка? – прищуривши глаза, он лукаво усмехнулся. – Гречки вам распаренной сейчас. Горячей. Почувствуете.
– Как я здесь?
– А ваша партия довела вас в лучшем виде, святой отец.
– Я беспартийный, Марк Родионович. В лучше виде тоже не состою. Куда прикажете умыться?
– По коридору до конца. Левая дверь. Узнаете по графику уборочной очереди. Зубной порошок в круглой коробочке от леденцов. Если повстречаете в дороге соседа, ничего не спрашивайте. Сосед у нас прямой. Может ответить.
– У вас один сосед?
– Полтора десятка на шести комнатах. И все, как один.
– Я сильно побеспокоил вас ночью?
– В целом кульман уронили. Да он и так вечно падает.
Только теперь я заметил косую чертежную доску с листом ватмана, прибитого мебельными гвоздями, и заполненного какой-то схемой.
– Это вам, – я выложил из кармана дождевика шесть кнопок, добытых мною в лаборатории экологического института.
– Вот крепеж, – искренне обрадовался учитель. – Храни вас Господи. По нынешним-то.
Явно помню, что всецело использовал спорные удобства барачного санузла с загаженной раковиной и чугунным сливным бачком, лишенным всякой цепочки, и вознесенным на чугунную же трубу так высоко, что нужно было взбираться на унитаз, чтобы спустить за собою воду. На обратном пути я встретил голую коренастую рептилию с фуганком и усиками щеточкой. Я потеснился к стене, пропустивши рептилию мимо, и не пожелавши ей ни доброго утра, ни других пожеланий. Возможно, добрым утром у рептилии считалось такое утро, когда она приложит фуганком по темени пару-тройку соседей. Явно помню, что я подумал, глядя с ненавистью в ее бугристую обнаженную спину: «Людоед. Типичный». Вильнувши в свою нору, рептилия оставила за собой широкую щель: «А вдруг да сунется?». «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, и, сочтя, помножь его на три буквы», – миную ловушку, я проследовал в учительскую.
– Директор нашего краеведческого музея Виктор Сергеевич Пугачев, – по моему описанию легко опознал рептилию Марк Родионович. – Безобиднейшая персона.
– Что безобидная, понятно, – я с отвращением заглянул в предложенную географом оловянную миску с гречневой кашей. – Но почему она голая с фуганком бродит по коридору?
– Нудист, – пояснил учитель. – Сносно владеет языками угро-финской группы. Очень любопытный субъект. Коли желаете, познакомлю.
– Да я-то не очень любопытный субъект, – вежливо отказался я от знакомства
с рептилией. – И нынче я скверно даже собой владею, Марк Родионович.
Но, в остальном, извольте. Если кому-то понадобится голый плотник с угро-финскими знаниями, буду рекомендовать.
Сопроводившее меня к учителю рыжее существо уже заглотало свою порцию гречневой каши. Променяв полы на раскладушку, оно уже медитировало. Оно уже перебирало, будто четки, велосипедную цепь в тонких своих пальцах с подозрительно мозолистыми костяшками. Кое-как и я засунул в себя разваренную крупу, запивши ее каким-то цикорием, беззастенчиво произведенным учителем в отборный кофе. Где и у кого отобрал сей напиток Марк Родионович, меньше всего меня интересовало. Больше всего меня интересовала карта местности.
– Существо, – обратился я к Анне с бантом, выбравши из карманных денег шестерку мятых ассигнаций. – Дуй в «Нюрнберг» за водкой для Марка Родионовича. Вы не возражаете, Марк Родионович?
– Возразил бы, да нечего, – географ слазил в карман и внес в общее начинание какую-то мелочь. – Жаль, кашу доели зря.
– И закусить, – поддержал я инвалида. – И быстро. Одна нога здесь, другая там.
Повесив на шею велосипедные бусы, Анна молча покинула помещение с моими чужими деньгами. Мелочь она оставила. Полагаю, Марку Родионовичу на чай.
– Откуда вы знаете? – учитель сгреб со стола выручку, и посмотрел на меня весьма подозрительно.
– Уточните, что именно я знаю, любезный Марк Родионович, и, возможно, я смогу ответить вам, откуда у меня подобного рода сведения.
– Про ногу, – не вставая с табурета, учитель дотянулся до какой-то потрепанной амбарной книги, втиснутой в плотные ряды учебников и тетрадей, захвативших настенную полку. – «Другая там» вы сказали барышне, отрядивши ее за водкой. Между тем, как еще на площади любопытствовали, где я ногу потерял. Хорошо ли смеяться над ущемленным положением? Достойно ли сана вашего?
Перемотав страницы, учитель ногтем оттиснул книжный разворот и сунул мне его чуть не в лицо.
– Клянусь, дражайший Марк Родионович. Это фраза. Обиходное напутствие указанной барышне. Она что, действительно там? – догадался я, различив на разлинованном развороте схематическое изображение Княжеской площади с примыкающими застройками. Одна из них была помечена латинской буквой «N» и карандашным крестиком на западном углу, если верить в нарисованный компас.
– Под «Нюрнбергом», – Марк Родионович хлопнул книгой, и сунул ее на прежнее место. – Врукопашную зарыл. На полуметровой глубине. Ночной порой, словно какой-нибудь злоумышленник. Хоть и ампутированная, а память. Шрам остался на коленке треугольником. Вы-то коленки били в детстве?
– Бил, Марк Родионович. Отчего же вы именно магазин выбрали в качестве надгробия?
– Магазин относится к более поздней эпохе зодчества, – учитель, подпершись костылем, переместился в сторону кульмана. – Но вам следует знать совсем иное. Спрашивайте, пока экспедиторша водку не принесла. Спрашивайте. А я попутно чертежик закончу.
До возвращения существа торопиться мне было незачем. Ибо кое-какие повадки аборигенов мною уже были постигнуты. На трезвую голову честных сведений в Казейнике не добывалось. Я молчал.
– Казейник почему? – сам по себе откликнулся чертежник на мало занимавший меня вопрос. – До немецких веяний, а проще говоря, до создания на базе местного комбината по производству минеральных удобрений российско-немецкого концерна «Франкония» поселок здешний назывался Казенников. Очевидно, для германца название оказалось трудно произносимым. Тогда глава местной управы проголосовал из деликатности за Казейник.
– Из деликатности, – выбрав сигарету, я уже, было, собрался ее прикурить, да положил обратно. – А кто конкретно?
– Бургомистр.
– Отчего же он бургомистр?
– Из деликатности.
Лукавый мы народ. Я по наивности думал, что мы в Америке живем. Под чутким руководством самопальных мэров, губернаторов и сенаторов. Даже больше, чем в Америке. У нас Белый дом большой, а у них маленький. Однако, провести нас труднее, чем его референдум. У нас кто барин, тот и отечество. Потому и переметнулась местная публика в немецкие края.
– Стало быть, Анкенвой в Казейнике за ниточки дергает? – подсел я к инвалиду.
– Почему Анкенвой?
Марк Родионович, уже окунувши ресфедер в баночку с тушью, замер.
– Ну, как же, помилуйте! Казейник-то Анкенвоя?
– Сущий вопрос, – географ почесал ресфедером залысину, отчего и оставил на ней черные следы. – Я тоже задавался им, кривить не стану. Анкенвоя никто не видывал. Человек ли он, зверь ли, предмет или звук, то догадки. По мне товарищ, покорно извиняюсь, он и вовсе отсутствует.
– Он присутствует. Я чувствую, как прямо сейчас он смотрит на меня.
– Откуда же, позвольте?
– Из бездны, товарищ.
– В географическом смысле бездна объект надуманный. Всякое углубление, дорогой мой, имеет свое дно. Это есть непреложная истина, и зиждется на опыте многих первопроходцев. Да и гипотетически в границах материального тела бездну представить себе никак не возможно-с. Ибо Земля наша суть планетарное образование. Сквозных отверстий не имеет, и не имеет возможности ими обзавестись, батюшка. В прочем же, если вы с точки зрения космоса бездну рекомендуете рассматривать.
– Боже упаси, – поспешил я откреститься от вселенской перспективы. – Нет у нас бездны, товарищ. И космоса нет. И точка зрения нет.
– Убеждены?
– У меня нет убеждений, товарищ. Поэтому, мне есть, что отстаивать.
– Что же отстаивать без убеждений? – озадаченный моей репликой, учитель даже ресфедер отложил.
– Благоприобретенные ценности. Жену. Кота. Деньги, заработанные благодаря отсутствию убеждений. Антикварную мебель. Пуговицу от плаща. Имущество.
– Простые люди враждебны вашей меркантильности, святой отец. Они приверженцы духовного начала, и всему ищут высших объяснений, – Марк Родионович вздохнул. – Страшно далеки мы от народа, святой отец.
– Страшно, – согласился я с Марком Родионовичем, подсев к чертежу над каким он вздохнул. – Вот если бы еще подальше, тогда бы не так уже было страшно. Пустырь между комбинатом и заливом. Здесь можно пройти?
– Нигде нельзя, – возразил географ. – Здесь особенно. Прежде свалка здесь мусорная была. Твердые отходы со всего района свозили.
– А теперь?
– Теперь не свозят. Теперь туда никто не суется. На свалке псы-оборотни живут.
– Как вы сказали? – я присмотрелся к свалке, окруженной дискретной извилистой линией. Если верить в изображенный под картой цифровой масштаб, свалка занимала площадь около гектара, и частично упиралась в границы Казейника.
– Псы-оборотни?
– Именно, – подтвердил Марк Родионович.
Он оглянулся и почему-то снизил голос:
– Я, было, сунулся исключительно с научными целями, да так и остался по колено. Краевед Пугачев, святая личность, протез мне выстругал из придворной скамеечки.
– Что-то я пропустил, Марк Родионович. Стало быть, это собаки вам левую ногу отъели?
– Точно. Уели на собственных глазах.
– Как же вы спаслись от них без ноги-то?
– Случай, – буркнул учитель, не вдаваясь в подробности.
Давеча я отмечал, что правдивые сведения в Казейнике добывались разве после второго, либо третьего стакана. Потому и не стал я ловить Марка Родионовича на ногу, якобы зарытую под «Нюрнбергом».
– Откуда же взялись, эти оборотни, Марк Родионович?
– Когда-то, – учитель опять заскрипел ресфедером по ватману. – Лет пятнадцать назад, когда исказился климат, и бабы уже беременеть перестали, но еще можно было Казейник покинуть, сначала птицы улетели. Потом животные исчезли. Какая скотина была на привязи, тоже бросила размножаться. В итоге на мясо пошла. Потом люди устремились, кому было на чем и куда. В основном, зажиточная прослойка на личном транспорте, а кто и на общественном. Грузовики, трактора битком с прицепами, вы можете себе вообразить исход?
– Вряд ли.
– Ну и большая колонна через мусорную свалку почесала. Там насквозь дорога проложена к основному шоссе для доставки районного мусора. Но, говорят, колонна эта на свалке так и сгинула. Головной бульдозер сломался. Как пробка, закупорил движение. Вокруг сплошные стены мусора. Объехать нет возможности.
– А назад?
– Случай воспрепятствовал.
Случай. Знавал я и до Марка Родионовича фаталистов.
– Пассажиры, говорят, озверели постепенно, – докончил он краткий курс истории псов-оборотней. – Сбились в стаю. Пустили шерсть. Черепные коробки вытянули.
– Это как?
– Мутация. Свалку оцепили колючим проводом, чтобы в Козейник псы не рыпались. Электричество пустили. Напряжение их отбрасывает. Но интересный подвид.
В учительскую зашло существо. При выставке двух литровых бутылей «Rosstof» Марк Родионович застыл, слегка подрагивая точно холодец. Кукуруза, томаты, шпроты, зеленый горошек, сосиски и сгущенное молоко довершили сеанс гипноза.
– Сдача, – существо передало мне ассигнованные прежде шесть тысяч.
– Не много ли?
– Нормально, – существо залезло на раскладушку, и заново пустилось перебирать велосипедные четки. – Продавец в «Нюренберге» новый. Просил две четверти вам передать от второго лица.
– От второго?
Существо пожало узкими плечиками.
– Так он сказал. И еще, сказал, обращаться. А денег не надо. Он вам за место благодарен. Так бы он до помрачения ждал, пока Филиппов сам скопытится. А так вы его типа устроили. Вы всех устраиваете?
Существо мне досталось с иронией. И меня это задело.
– Вопросы здесь я задаю. Продукты бесплатные откуда? Из продуктовой лавки я, кажется, еще никого не отправил на кладбище. Или отправил?
– Там славянин, поганка, на раздаче. Сказал, вы на довольствии состоите. Офицерский паек. Викторию против имени вашего поставил.
– Галочку что ли?
– Ну, – существо уставилось в потолок, всем своим видом давая понять, как я его умотал.
– Мое имя?
Засопело. Звенья металлические заковыряло ногтем. Заскрипело растянутыми пружинами раскладушки.
– Как мое имя, кошка ты драная? Напротив чего он галочку поставил?
Иной раз на меня накатывают внезапные приступы ярости.
– Капеллан.
Конечно. Мог бы и сам догадаться. Воинское звание капеллан. За особые заслуги имею Анну с бантом. Состою в законном браке. Род занятий пьянство с учителем географии. Миссия завладеть подробной картой острова Казейник, отчасти окруженного пресной водой.
– Прошу вас, учитель. Вы здесь хозяин. Угощайте на правах, – вывел я из гипнотического состояния Марка Родионовича.
– Глыбинское водохранилище переполнено, – сообщил мне учитель, твердой рукою нахлеставши водки в два стакана. – Четырнадцатый год вода стекает по дамбе. Семь лет, как дачный кооператив и воинскую часть поглотило. Три, как детский сад, музей краеведческий, строительство улучшенного жилья для работников и школу номер одиннадцать. Но это относительное зло. Кому там учиться?
– А зимой?
– А что зимой?
– Когда водохранилище замерзает?
– Зима здесь формальная, товарищ. Выше плюс пять по Цельсию. Фауна от влажности бухнет, а побегов нет.
Мы с Марком Родионовичем выпили. Я немного, а он, сколько было в стакане.
– Насчет побегов, – волнующая меня тема вылезла как-то само собой, и я поспешил воспользоваться случаем. – Как мне, все же, слинять отсюда, Марк Родионович?
– Никак, – учитель выпил еще с полстакана и перешел со мной на «ты». – До тебя родились охотники. Тоже плавали, умственно отстающие.
– И что?
Географ сплюнул через левое плечо, задрал штанину и постучал по дереву.
– Пронесло. Одной левой отделался. Краевед Пугачев протез мне выстругал из ножки столовой.
Он снова выпил. Стало явно, что Марк Родионович и есть тот самый бездонный географический объект, наличие коего в природе он так упорно отрицал. Заподозрив, что скоро некому будет накрывать в том смысле, что закусывать будет некому, существо покинуло свой насест, и пустилось резать консервные банки. Прооперированные хлебным тесаком, сточенным до узкой стальной полосы, банки постепенно заполнили наш прозекторский стол.
– Сначала Казейник я сухопутно исследовал, – жадно заглотав какое-то волокнистое мясо, Марк Родионович продолжил. – По всему периметру аномалия. Государственные границы, допустим, Японии условны. Границы Казейника величина постоянная. Константа. Оттолкнувшись от Княжеской площади, я исходил по четыре с половиной, в среднем, кило на всех направлениях.
– А по пять с половиной не хаживали?
– Спецтехники не добрал. Будь у меня респиратор или, допустим, водолазный костюм с компрессией, внедрился бы за пять. А так на лицо кислородный голод. Все последовательные признаки. Первым идет легкое опьянение, как после штуки «Rosstof».
Марк Родионович взвесил в руке литровку, и часть ее переправил в свой стакан, ибо мой оставался почти не тронутым. Запив закуску, землепроходец, однако, темы не утратил.
– За ней состояние тревоги, шум в перепонках, и сонливость, – Марк Родионович нервно зевнул, точно и теперь он стоял на рубежах Казейника. – Грань потери сознания. Представь, как ты себя почувствуешь на пике того же Коммунизма.
– Помилуйте, учитель. Все наше с вами поколение успело почувствовать.
– Это чепуха, – поморщился Марк Родионович. – Я о горном деле беседую. О восхождении. О физической составляющей.
– Иными словами, чем дальше, тем хуже?
– Куда уж дальше? Дальше московская область пониженного давления. Средние слои тропосферы. Там уже и спецтехника хрен спасет. Фрактальная волна и на четырех с половиной швырять начинает с ног долой. Вот я сунулся, было, за дамбу на спецтехнике. Думал, водное хранилище допустит. Колумбом себя возомнил на старости. Вот бы, и вышел мне колумбарий. Когда началась вихревое кружение, челнок-то мой за волнорезы снесло. На дамбе волнорезы из нержавейки. Там и рассекло челнок мой вместе с нижней конечностью. Спрашиваешь, как я кровью не изошел? А вот это любопытно.
Марк Родионович взял короткую паузу, выпил водки, утер губы ладонью и продолжил.
– Кузнецы при дамбе раскаленной болванкой мою культю запечатали. На месте ампутации остался ожог
– А что снаружи, вы представляете?
– Слабо. Вернее всего, Казейника снаружи не существует в рациональном пространстве. Иначе бы нас давно в карантине изучали под микроскопом.
– Другое измерение?
– Не измерял. И вам не советую.
– Но откуда же вода в таких массах поступает, если оторвано все?
– Вода не поступает. Вода циркулирует в масштабе один к двенадцати.
– Почему к двенадцати?
– Тропосфера вокруг загнулась куполом. Иное научное объяснение у меня, товарищ, отсутствует. Внешняя граница Земной тропосферы, как известно, проходит в умеренных широтах на высоте до 12-ти километров. Ниже этой границы размещается 80 процентов массы атмосферного воздуха и преобладающая часть водяных паров.
– Что же это? Казейник суть искусственная модель планеты?
– Может, искусственная, а, может, и естественная. Явление аномальное, святой отец. Здесь физика пасует. Здесь уже, скорей, метафизика. По вашей части.