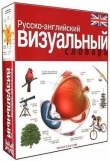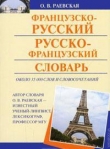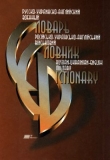Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
ТРОМБ
После полуночи в резиденции бургомистра мы на троих гоняли растворимый кофе с галетами. Лавр степенно докладывал о ходе казарменной перестройки:
– Две казармы из трех на бревна раскатали. Плот слоеный пятьдесят на сорок пробили скобами. Бревна в два наката обшили доской.
– Доски откуда?
– Штаб разобрали. Что там планировать?
– А винный погреб?
– Погреб цел. Над ним клозет поставили временно.
– Это пока его фекалиями не затопит?
– Пока не отремонтируют. Я лично замок навесил.
Лаврентий замолчал, переливая кофе в блюдце. Его какое-то школярское ожидание похвалы от наставника, да еще в присутствии возлюбленной, полагалось оправдать.
– Находчиво, – вырвалось из меня отчего-то именно вслух признание его искрометной фантазии. – Хрен бы мой котелок такое сварил.
Вьюн поперхнулась, закашлялась, выскочила вон, прибежала назад и брякнулась на диванчик.
– Не в то горло. У меня их два.
– По спине надо постучать, и все пройдет, – отсоветовал штык-юнкер.
– Что пройдет? – Вьюн, вскочивши с диванчика, подлетела к столу, звонко шлепнула по спине Лавра, выхватила у него блюдце и, развернувшись, точно дискобол вокруг собственной оси, метнула в дальний угол предмет казенной сервировки. – Улетело. Жаль. А что все, Лавочка? Что все должно пройти? И у кого пройти? Ты о чем? О наших отношениях, или вообще об отношениях?
– Сядь, – сказал я Вьюну. – И заткнись.
– Я-то сяду! – продолжала бушевать Анечка. – Я-то заткнусь! Только пусть мне этот лом сознается, какая сука ему напела, что кофе из блюдца пьют!
– У нее был трудный день, – извинился Лавр за возлюбленную.
– У меня был трудный день! – Вьюн разошлась не на шутку. – У бургомистра был трудный день! Даже, ты удивишься, Лавочка, у Могилы был трудный день! Но кого из нас ты нашел дующим кофе из блюдца?
– Тогда выйди, – сказал я Вьюну.
Она вышла, громко хлопнув дверью, обитой войлоком. Мы с Лаврентием закурили.
– Женщины, – заметил он философски.
– Точно, – согласился я с философом. – Но ты про плот не закончил.
– Штабная доска разошлась на днище. Вопрос. Где доска на палубу?
– Когда в казарму вернешься, часовню вели разобрать.
– Уже. Согласно распоряжению игумена.
Хитрость и простодушие, доверчивость и постоянная опаска, бесшабашная щедрость и скупой расчет. Порой удивительно разбросанные черты заключает в себе славянская натура, подобная оркестру, где отыщется всякий инструмент.
И уживается такой оркестр без любезных умам русских писателей внутренних конфликтов, и не ведают его инструменты, когда вступать, а так. Импровизация.
– А кто у нас игумен? – вернулся я в резиденцию.
– Да ты, отец. Братья-славяне более не желают над собою немецких порядков. Магистра и капеллана в шею. Нынче ты как игумен. Я сотник. Другой сотник Дикий. Ему братья любо крикнули.
– Сотник, так сотник. Штык-юнкер вообще артиллерийское звание. И Орден, чай, упразднили?
– Отшумел наш орден.
– Что же теперь?
– Теперь мы братина.
«Чудны дела твои, Господи, – подивился я, рассматривая довольного собою Лавра. – Немецкие славяне надрались бы в совершенный свинарник. Русские уголовники помянули вора в законе Могилу сдержанно, завернули рукава, да и пошли древесину тесать. Труден мир наш при тихой погоде, а дай ненастью грянуть, сплотится распоясанное общество, и на тебе братский плот за три с половиной авральные склянки, да еще и двойной, и пятьдесят на сорок».
– А образ Богородицы где? – спохватился я, вспомнив разобранную часовню.
– Игумен благословил укрепить на мачте, как православное знамя. Оборонит нас Богородица.
– Еще и мачту поставили?
– И мачту. И парус пошили четвертым отделением. И весло гребцов на восемь с кедровой лопатой. Гроссмейстерский стол на лопату спилили, зато надежность. Платформа устойчивая. Примет весь личный состав с недельным сухим пайком. Коробок тридцать водки тоже.
Сотник взял антракт, и уставился в чашку, точно хотел на растворенных кофейных следах погадать.
– Это если задача плавать вхолостую до посинения. Благословишь гранатометом, отче, тогда озерный десант уже к полудню свернет все немецкое производство.
Он красноречиво перекосился на один из открытых чемоданов Щукина, где лежал обернутый масляной бумагой «Вампир» с боезапасом. Лаврентий уже горел, отчасти посвященный Вьюном в план моей осенней кампании.
– Посмотрим, – ответил я так холодно, как только требовалось, чтобы остудить его кипучую жажду деятельности.
– Да куда же еще-то смотреть, если завтра поселок затонет?
– В окно. Затонет, пойдешь в атаку. А сейчас мы на мели, сотник. Я особенно.
Лаврентий с мрачным выражением лица галетами захрустел. Надо заметить, меня вовсе не трогало, что наше с Лавром тактическое совещание Борис Александрович внимательно слушает. Или смотрит. Я решил, даже лучше, если смотрит. Или слушает. Мы тогда находились в разных местах, но в одном цейтноте. Каждый из нас мог принять верное или ошибочное решение. Взять на себя инициативу или занять выжидательную позицию могло оказаться для нас обоих решением ошибочным или верным. Ошибка для каждого могла иметь роковые последствия. На моей стороне оказалось количественное превосходство, на его стороне оставалось качественное. Еще вчера он мог выйти из игры в любой момент. Я не мог ни вчера, ни сегодня. Но ситуация повернулась таким образом, что завтра я мог воспрепятствовать его выходу. А завтра уже наступило. Так, по крайней мере, мне хотелось думать. Так я и думал. Если Князь, форсируя производство RM 20/20, снова запустит «Кениг-Рей», он столкнется с отчаянием и яростью соотечественников, которым попросту нечего терять. И я решил, пусть он лучше слушает. Я и все, кто были тогда за мной, хотели просто выжить. Ростов же хотел безоговорочной победы. Ростов стремился взять свое. Хотел вырваться из Казейника с достаточным ему запасом оружейного сырья, способного сокрушить всю земную цивилизацию. И у него, конечно, с терпением были проблемы. Я же мог и потерпеть. В итоге, все решала на гипотетической шахматной доске очень сильная, но колеблющаяся, как я чувствовал, фигура Мити Полозова. Утопи Борис Александрович еще десяток мирных обывателей, и силы мои удвоятся. Нанеси я превентивный удар, в поселке развяжется такая гражданская война, что ее проиграют все, кроме Князя.
Вернулась Вьюн, девочка из благополучной семьи. Личико сосредоточенное, серьезное. «Злится, – измерил я по себе своего ближнего. – Альтер эго из блюдца кофе лакает. Вечно мы там. Додумаем образ любимого человека до совершенных высот, очаруемся, узнаем таким, каков он есть и был до нас, разочаруемся и его же и обвиним».
– Макара нет, – сказала Вьюн.
– Посеяла? – болевший за Вьюна, сотник исполнился неподдельным сочувствием.
– Черт его знает, – Вьюн по-турецки села на пол и завертела вокруг шеи велосипедную цепь. – Я его сзади за поясом держала под курткой. Пошла отлить и хватилась.
– Может, в очко упал? Бывали случаи. Я проверю, – Лаврентий порвался на поиски, но Вьюн перехватила его.
– Там нет. Я по локоть в трубу залезла. Плохо, да?
Виноватые очи шефа моей безопасности смотрели на меня с ребяческой надеждой, что я отнесусь к ее потере великодушно.
– Да, – сказал я. – Плохо. Пистолет исчез, и Марк Родионович исчез.
Учитель географии, за которым я посылал Вьюна еще вечером, давно уже должен был явиться. Вьюн предупредила его, поймав на паперти, что дело неотложное. Для верности я снабдил Вьюна запиской примерно следующего содержания: «Что произойдет при уплотнении атмосферы, если Казейник резко сожмется вокруг ядра, создающего искусственную гравитацию?». Этот вопрос я задал себе на крыше экологического института, когда отсутствие дамбы на горизонте подвело меня к выводу: Казейник после наводнения (читай после запуска на комбинате установки «Кениг-Рей»), изменил свои контуры. Атмосферные слои вокруг него придвинулись к поселку километров на пять. Тогда меня больше волновало спасение заложниц. Но на обратном пути от института меня уже не покидала мысль: «А что еще ожидает нас в результате повторного запуска? Только лишь ускорение круговорота воды в природе и еще более обильное выпадение осадков? Или что-то еще?». Из записи показаний, снятых Щукиным с эколога, я составил себе общую картину происходящего. Но, скорее, картину, закрепленную в обрисованных лаборантом устойчивых параметрах. Как вечную акварель Жени Монина «Грачи улетели». А Марк Родионович, хотя и широкий специалист по климату, все же учитель географии. Что-то мог и прояснить. И он прояснил. Вьюн доставила от калеки обратную записку. Вернее, зарисовку.
Учитель остался верен чертежной страсти. Схема была названа калекой «Тромб». Потому, нуждалась в комментариях. А своими словами чертежник добавил, что к полуночи будет.
– Ты Вику-Смерть на площади видела?
– Да, вроде, мелькала, падаль, в толпе старьевщиков.
– Совсем плохо. Виктория что кошелек, что «Макара» вытащит, не почувствуешь. Прорезался к полтиннику талант. Глухих сказывал, она и котлы снимает быстрее мужиков озабоченных.
В подтверждении худшей моей догадки, заслышался в глубине магистрата сапожный топот. Ночная беготня, как правило, скверный знак. В кабинет скоро вошел Дмитрий Кондратьевич с группой захвата. Группа захватила с собой и Матвеева, поднятого сонного с лавочки, которою бдительный анархист всю лестницу перекрыл, укладываясь на отдых.
– Инвалида грохнули, – присев к столу, Митя выложил на мое обозрение сунутый в целлофан пистолет. Несомненное орудие убийства.
– А в целлофан обернул зачем? Отпечатки сверять? У тебя, может, лаборатория
с картотекой? База данных в компьютере? Патологические хирурги?
– Этого нет, – спокойно ответил Полозов. – Привычка есть. Порядок само собой. Но порядка меньше. Да ты, ваше превосходительство, не кидайся. Слепому видно, что не ты и не Лавр, и не девчонка твоя Родиона продырявили.
– Анна Сергеевна, – огрызнулась Вьюн.
– И не Анна Сергеевна. Однако в участок я ее забираю. Допрошу, протокол составлю. Когда с инвалидом виделась, о чем толковали. Когда «Макаров» пропал. Кто терся поблизости. Алиби формально, и прочая канитель. Часок потолкуем, вернется.
– А в резиденции нельзя допросить?
Митя закурил, осмотрелся, и тем исчерпал мой запрос. Дал знать, что Борис Александрович лишний слушатель в уголовном расследовании.
– О чем ты? Веfolgung des Gesetzes. Обещаю. К трем утра вернется.
– Где Марка Родионовича подстрелили?
– У барака. В упор. Свидетелей нет.
– Коли в упор, то скорей всего знал инвалид убийцу.
– В поселке все друг друга знают, – уверил меня следователь.
– Тогда и меня забирай, – сотник заслонил от Полозова мощным телом Анну Сергеевну точно от вражеской пули.
– Обязательно, – согласился Митя, загасив окурок в чашке. – Я бы и оружие забрал.
– Твой барин посоветовал?
Как мало надо нам, чтобы изменить свое мнение о ком-либо к худшему.
– Нет.
«Барина» Полозов мимо пропустил. Как мало надо нам, чтобы изменить свое мнение о ком-либо к лучшему. Беспристрастность Полозова была много дороже горячности Лаврентия.
– Распоряжайся. Если поселок на дно пойдет, паники нам не миновать. Тогда оружие твоим людям понадобится.
Сотник открыл было рот для возражений, но, внявши моему жесту, закрыл.
Я кивнул Полозову. Тот присел на корточки у чемоданов, нашел в кармане блокнотик с остатком простого карандаша размером с винтовочный патрон и произвел огнестрельную ревизию. Капитанский архив Митя выложил на пол. Кивнул сопровождающим. Из них отделились двое носильщиков и, закрывши багаж на замки, вынесли его из кабинета. Митя поставил под ревизией число, подпись, вырвал ее из блокнота и дал мне, как расписку. Расписку я прочел внимательно: «РПГ– 29 – одна шт. Гранаты для РПГ– 29 – 2 шт. Гранаты РГД-5 – 2 шт. Обрез карабина «ТОЗ-99» – 1 шт. Патроны к обрезу калибр 5,6 – 30 шт. (6 обойм по 5). Ружья гладкоствольные ИЖ-94 – 2 шт. Коробки с патронами «Магнум» калибр 12 – 9 шт.». Взяв у Мити карандашный остаток, я изменил цифру «2» на «3» в количестве РГД-5, сверху добавил курсивом «исправленному верить», также расписался, и указал Мите на вешалку, где жил мой дождевик редактора Зайцева. Полозов, конечно, помнил о лимонке в кармане, но сам промолчал. Значит, присматривался ко мне. Лишняя проверка от Мити была много важнее слепой преданности Лаврентия.
Все ушли. Я остался наедине с бургомистром. Из побитых окон стегало дождем и дуло ветром. Хотелось выпить и уснуть. Мешали взятые мной повышенные обязательства. Я выбрал, перебрав архивные досье, четыре надписанных папки с фотографическими портретами уголовников на правых углах: «Могилевский», «Перцев», «Диксон» и «Рахметов». Преступная биография альбиноса тянула на пару кило. Перец весил граммов 400. Оба моих сотника и того не набрали. Вскипятивши воду, я налил в кубок, завоеванный футболистами поселка, чтобы не так скоро остывала вода, разболтал в нем оставшийся кофе, и удалился в смежную комнату отдыха. Загодя перетащил я в тот будуар и уголовные труды господ славянских офицеров.
Кстати, настаиваю, что кофе есть напиток мужского рода. Если редактор правит на почве министерских веяний, останусь при своем. Слово «кофе» пускай будет среднего рода, или женского, или вовсе без рода, а суть напитка указами не изменишь, господа просвещенные чиновники. Могу, впрочем, сдвинуться еще на компромисс. Кофе средний типа растворимый какой-нибудь отстой готов полагать среднего рода. Кофе ячменный вовсе без рода. Приличный же кофе оставьте приличным любителям напитка. Разложившись на тахте, я выпил кофе среднего рода, прикурил сигарету и заново рассмотрел посмертный чертеж Марка Родионовича. Ночь предстояла длинная, и офицерские дела я отложил. В центре схемы по горизонтали витала какая-то пружина. Или спираль. По бокам от нее направлялись две стрелки: одна летела вперед, другая назад. Вся конструкция называлась «тромб». Только Богу теперь было известно, как Марк Родионович связал плотный сверток в кровеносной системе с атмосферными явлениями. О тромбах я читал в медицинском журнале, который выписывали мои родители. Тогда меня сильней интересовали болезни женских органов. А откровенней, их устройство. Но там чаще о тромбах, гастритах и палочках Коха печаталось. Я развернул чертеж на попа. Спираль стала вертикальной. Стрелки уже полетели одна вверх, другая вниз. Шарада осталась на месте. «Что бы я сам лаконично чиркнул на предмет уплотнения атмосферы, сшибая на паперти рублевики со снующих торгашей? – напряг я извилины. – Что для меня, стреляного географа, такая спираль с обратными стрелками? Направленная передвижка воздуха? Вращение? Может, вихрь? Вполне даже вихрь». Зацепившись за вихрь, я стал копать глубже. Зашел с атмосферного фронта и тыла. Взял чертежик в кольцо. Сосредоточился. О вихрях я знал из журнала по географии, какой выписывали мои родители. Тогда многие подписывались на прессу о здоровье и географии. Вспомнил статью про дикие разрушительные смерчи в империалистических степях. Смерчи назывались Торнадо. И тут вылезла сноска: «Тромб». «Тромбы» синоним торнадо на равнинах европейского империализма. И все расставилось. Для побудки мимолетных дискуссий на эту тему я достал пузырь среднего рода коньяку, верно позабытого отставленным бургомистром в пустой фанерной урне с надписью: «Для голосования». Выпил из горлышка, закусил среднего рода кофе, и всплыла в моей памяти лекция на морском трамвае «Лиза Чайкина». Лекцию прочел мне изумительно пьяный диктор симферопольского радио. Но прочел как трезвый. О том, что холодные слои воздуха, придавленные низкими тучами, лезут к морю на смену теплым слоям, которые лезут вверх. Такая неустойчивая система образуется при столкновении двух атмосферных фронтов. И тут потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию вращательного движения воздуха. Возрастая, скорость движения создает классический вид морского смерча, легко способного утопить нашу бедную «Лизу». Определение «классический» он дал с особым удовольствием. Наверное, по системе Станиславского учился на диктора. «Пойдем кормить рыб как шаланда с кефалью, – утешил меня диктор. – Это, брат, классика. Но утешение есть». Он встал и продекламировал в мегафон: «Есть утешение в бою и бездны мрачной на краю. Справа, слева и сзади вы видите перед собой Черное море, товарищи». На трамвайчике диктор подрабатывал экскурсоводом.
А чем отличается морской тромб от сухопутного тромба? Вряд ли чем-то принципиальным. Разве что силой, величиной, и скоростью. Стало быть, вот чем, по мнению Марка Родионовича, грозил нам очередной запуск сволочной установки. Надо было срочно известить Полозова. Разослать его спасателей по всем адресам. Подвалы и погреба в поселке имелись. «Массу обывателей успеем спасти, если загнать их под землю, – вскочив с лежанки, я спешно покинул комнату отдыха. – Большую часть. Иначе кладбище. Точно замыслил Борис Александрович. Нет повстанцев, нет проблем».
Я устремился из кабинета, освещенного только лишь керосиновой лампой на овальном столе, когда перегородила мне путь мокрая фигура, запрыгнувшая с подоконника.
Я узнал в ней глупого почтальона в черном сюртуке и картузе из окружения Семечкина, живо проявлявшего интерес, могу ли я мертвых воскрешать. Встряхнувшись, точно собака, почтальон зашарил в сумке, надетой поверх сюртука через плечо.
– Вы с письмом? – сосредоточенный на грозящей всем опасности, я позабыл о другой опасности, угрожавшей персонально мне.
– Да. Письмо. Заказное. Да. От Азраила архангела смертоносного, – выхватив из сумки длинное шило, письмоносец двинулся на меня. – Хромой бес уже получил свое.
– Хромой бес? – отпрянув к столу, я догадался, о чем он бормочет. – Так это ты, психопат, учителя застрелил?
– Для тебя он учитель. Для божьих людей сатана безногий. У него под кожей Лукавый сидел. Да. Но Господь его бросил с небес, и нога отломалась.
Стол совещаний между мной и безумным почтальоном еще отделял меня от погибели. Почтальон, что скрывать, напугал меня до трясучки. Я всегда пугался чокнутой публики. Даже теток на улицах Москвы из тех, что сами с собою вслух разговаривают. Сумасшедший в нелепом костюме напугал меня сильней, чем длинное шило, разившее воздух передо мной. Да и помирать не очень хотелось. Смерть всякому всегда кажется преждевременной, исключая взятых за горло болью или потерей, несовместимой с продолжением жизни. Даже неизлечимо больным смерть кажется преждевременной. Быстро двигаясь вокруг стола, мы с почтальоном вели бессмысленный разговор.
– Кто имеет ум, сочти число зверя, – яростно рекомендовал мне почтовый шильник.
– А кто не имеет?
– Обвести меня хочешь, сын хромого? Я знаю о трех шестерках. Предъяви мне их сейчас, чертов зародыш.
– Легко, – согласился я, подсматривая, куда бы нырнуть от шила. – Две шестерки у тебя на кокарде, а третья ты сам.
Он внезапно замер, снял картуз, посмотрел на медную бляху «66», и отбросил его с отвращением в сторону точно как отравленную змею. И снова побежал против часовой стрелки, тыкая шилом в моем направлении. Утомившись, мы перешли на ходьбу. Я тогда лихорадочно думал о том, кто на меня натравил Семечкина. Вряд ли Борис Александрович. Не его это стиль. Виктория могла купить. Но вряд ли прямо. Тут взаимно. И Семечкин здешний тщеславен до невозможности купить его услуги, и Анкенвой запретил бы. Сама? И сама вряд ли. Я тоже был не прочь, когда б Вику-Смерть удушил кто-то из ее кавалеров. Но послать к ней убийцу я бы не решился. Это гадко и пошло, убивать людей чужими руками. Другое дело создать благоприятные условия, расчистить пути ко мне она могла. И Анкенвой мог согласиться в цейтноте, и очень мог. Значит, Вика-Смерть обезоружила шефа моей безопасности. И вооружила почтальона. Умница Борис Александрович почувствовал настроение Полозова. И подсказал Виктории Гусевой, что после убийства Марка Родионовича, одного способного предупредить меня о грядущих разрушениях в поселке, Митя не захочет Вьюна при нем допрашивать. И вся недолга. «И ко второму часу ночи тобою проклятый бургомистр останется без внутренней охраны», – предупредила Виктория Гусева, допустим, Колю Семечкина.
– Кто тебе пушку дал, маньяк? – спросил я, задыхаясь.
– Пушку, – ответил безумец. – Пушку-кукушку. Кукушка раз прокуковала, и сатаны не стало.
С нежданной прытью он как-то на боку проскользнул полированную столешницу и прижал меня к стене. Инстинктивно я дернул голову, и шило, рассекши, мне кожу виска, вонзилось в штукатурку. Оборонившись, я ударил его коленом в пах, но почтальон, кажется, и боли не почувствовал. С чудовищной силой он сдавил мне пальцами перчатки (а был он еще и в перчатках) горло, другой же вырвав шило, нацелился мне в глаз.
– Теперь ты, антихрист!
Но он обознался. Внезапно грянул выстрел, и почтальон с пробитым виском выронил шило. Заливая кровью ковер, направился он к разбитому окну, и по дороге умер. Опустив обрез карабина, из приемной зашел Матвеев.
– Ты же спишь, – не поверил я, что все кончено.
– Толкнуло меня. Врожденный нюх на опасность. Так жбан с пеленок устроился. Матвеев подошел к безумцу, проверил пульс и бабахнул, не глядя, в черный свет как в копеечку.
– Моргнуть не успеете, Полозов будет, ваше благородие.
– Пора бы, – согласился я охотно.
Но все же, пока явились Митя с Вьюном и сотником, и еще десятком спасателей, успел я и моргнуть, и допить с Матвеевым пузырь коньку среднего рода.
– Снова пьешь? – спросила Вьюн укоризненно.
– Друга встретил, – повинился я от души.
Вьюн была, конечно, права. Я сходил на анфиладу в совмещенный узел с буквой «М» такого размаха на дверце, точно за ней размещалась какая-нибудь станция метро. Там я сунул голову в твердую струю воды над раковиной. И вернулся к делам, когда почтальона спасатели уже вынесли. Отменивши намерение Мити сейчас поймать Семечкина и придать его суду гражданского трибунала, я наскоро выложил ему свои догадки. Учитывая огромность вероятных потерь, Полозов согласился, что правосудие обождет. Мы скоординировали план действий. Митя направил тотчас людей своих в поселок будить электорат, а Лавр ушел поднимать славянство. Вьюна я отправил с ним. Ее возражения отмелись. Вьюну я велел укрыться в моем винном погребе, замаскированном под ложный туалет, и ждать прибытия бургомистра.