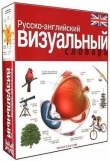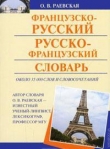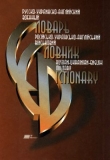Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Ой, не могу! – всхлипывал Могила. – И, значит, Лавр этой сучке при всей честной компании сапогом по яйцам заехал? И крепко заехал?
Перец мял в руках форменный картуз, не понимая, отчего его донесение вызвало такое бурную реакцию за столом. «Удалась Вьюну постановка, – решил я, присев на ящик и доедая картофельный шашлык. – Реабилитировал себя Лаврентий в глазах уголовника. Хорошо. Теперь Могила отцепится от штык-юнкера».
– Многое пропустили, ваше преосвященство! – альбинос хлопнул меня по плечу.
– Знаю. Герман, тебя Виктория зовет.
– Зачем зовет?
– Платье застегнуть.
– Как хочет, – Глухих надернул майку на проступившее волосатое чрево, и поплелся в соседний отсек.
– Молоток Лаврентий? – альбинос налил мне в пиалу из чайничка татарской сивухи. – Мне-то лапшу навешали, типа служка не служка у тебя, а конь со стальными яйцами.
Перец, убедившись, что командование довольно, устроился за столом и приналег на закуски.
– Ты бы, Могила, держал свои столярные инструменты подальше от моего подразделения, – отозвался я мрачно. – Еще одна такая выходка, я этого голубя от церкви к чертовой матери отлучу.
– Не серчай, кардинал. За баловство накажем. Дюжину пива штык-юнкеру вне очереди, – все еще веселился Могила, когда в трюм зашла виновница его торжества.
– Звали, батюшка?
– Подойди.
Вьюн подошла к столу, волоча за собою мокрый шлейф дождевика, стянула с головы капюшон, и во взгляде ее прочел я торжество самодеятельности над немецкой системой Бертольда Брехта.
– Дерзко смотришь, послушница. На колени. Глаза долу держать. Что там за история у тебя со штык-юнкером?
Опустилась на колени. Засопела. Зарумянилась. Уставилась в грязные половицы.
– На ночь пятнадцать раз «Отче наш» и «Символ веры». И вериги надеть.
– Уже исполнила, – скромно держала ответ послушница, распахнув слегка ворот плащ-палатки и предъявивши велосипедную цепь на шее. – Отпусти, батюшка, грех мой.
– Суров ты с ней, – альбинос подтолкнул Вьюну свободный ящик. – Сядь. Отпустим. Поклюй пока с нами, ворона. Дозволишь, святой отец?
– Преломи, – согласился я великодушно.
Анечка подтянула к себе ближайшую тарелку с картофелем, открытую банку с консервированными сосисками, перекрестилась, пробормотала что-то невнятное, и приступила молча к трапезе. Обед мы доканчивали в уединении. Могила с Перцем ушли свои лабазы инкассировать.
– Лавочка ночью вырвется. Сказал, морзянкой в дверь постучит. Один длинный, два коротких.
– Ты ешь, ешь.
– Он руки у тебя хочет просить.
– Я женат.
Вьюн выскользнула из-за стола, разыскала где-то камбуз, быстренько вскипятила воду на растопленной Германом плите, и заварила мне зеленый чай вместо сивухи. Вьюн самостоятельно решила, что чай лучше поможет мне собраться с мыслями. И если это случится, я уже точно в будущем не пожелаю сменять ее на татарский самогон.
– Лавочка со мной повенчаться хочет, – сообщила она, пока я пил раскаленный чай маленькими глотками. – Я пыталась ему втолковать, что ты мнимый священник. Он заладил свое: «Браки на небесах совершаются, а священник ты иль нет, здесь каждый для себя должен сам осознать».
– Священник я иль нет, но тебе, милая, восемнадцати годов еще не исполнилось.
– Через две недели с лишним исполняется.
– Две недели прожить еще надо.
В кают-компанию посреди нашей болтанки явились Герман с Викторией. Оба заметно вспотевшие. Герман времени даром не растерял. Да и Гусева своего не пропустит. Она чужого-то редко пропускала. При виде моей послушницы Вика-Смерть мгновенно перевернулась из дамы полностью удовлетворенной в даму, измученную климаксом.
– Совсем страх потеряла твоя мышка-норушка? Придется отрезать ей четверку лишних веточек. А ты, опавший член союза писателей найди себе другого проводника к Борису Александровичу.
Виктория медленно приблизилась к столу, побледнев от бешенства. В руку ей скользнуло почти незримо тонкое длинное лезвие. Но лучше бы Гусевой не приближаться. Послушница, видать, заскучавшая по честным боям без правил, стрелою снялась с ящика и с какого-то штопорного разворота въехала подошвой кроссовки в там, где грудь. Вика-Смерть выронила стилет и опрокинула пустую металлическую бочку из-под горючего, на которой Герман Глухих содержал стеклянную банку с тритонами для созерцания земноводной жизни. Бочка укатилась куда-то поближе к задрапированной пробоине в борту. Тритоны из разбитой банки разбежались, и, надо полагать, заняли свободные места в зрительном зале. Рукопашный арсенал послушница имела богатый, и Гусева много что еще опрокинула в ближайшие пять минут. В конечном итоге, она опрокинула почти все предметы обстановки, исключая меня и Глухих, успевшего спасти два клейменых чайничка. Татарин подсел ко мне на ящик и предложил пари. Он ставил четверть первача на то, что Вика-Смерть продержится не менее пятнадцати раундов.
– Тотализатор, – произнес мне на ухо Герман. – Можно выиграть, можно проиграть. Это честно. Интуиция.
– По лицу не бей! – крикнул я Вьюну, обозначив хоть какие-то правила.
– Чем лицо женщины хуже других? – спросил татарин, передавая мне чайничек, в котором чайничке еще что-то плескалось. – По лицу это честно. Без лица какой тотализатор?
«Или ревнивый Герман был не прочь, чтобы Гусева максимально потеряла свою привлекательность для конкурентов, или Герману от нее частенько достается именно по лицу», – мысленно перебрал я все возможные варианты подобной кровожадности.
Говорят, обыкновенные бойцы не слышат команды своего тренера в пылу спортивного азарта. Моя воспитанница услышала. По крайней мере, когда она остановилась, лицо Виктории было в относительной сохранности.
Гусева полежала вниз лицом на ринге, перевернулась на спину и вытерла окровавленный рот, заодно размазав и свежую губную помаду. Я вернул Герману чайничек, подошел к избитой подруге студенческих лет, и наклонился над ней.
– Завтра к Ростову меня отведешь.
Вика-Смерть с трудом подняла ручку, показала мне дулю и слабо улыбнулась. Точно как большевик студии Довженко в ответ на предложение своих палачей выдать партизанские замыслы. «Ничего не скажешь, сильная женщина, – подумал я, изучив ее раскрашенную физиономию. – Жалко уничтожать привлекательные черты. Жаль, но выбора нет». Я обернулся. Вьюн равнодушно смотрела на поверженную соперницу.
– Можешь снять вериги. Отпускаю тебе.
Вьюн сняла с тонкой шеи велосипедную и цепь, и, рассекая над головою воздух теплым оружием, направилась в Виктории. Теперь уже и Гусева испугалась по-настоящему.
– Если Ростов откажется, я пас! – крикнула она, по мере сил отползая к забаррикадированному бочкой пролому.
– Он согласится.
Я придержал Вьюна, забрал у нее цепь, обнял за плечо, и мы вышли из буксира под ливень. По кратчайшей кривой добрались мы до славянского лагеря. Три одноэтажные казармы. Ровный плац между ними, крытый асфальтом. Два баскетбольных щита по сторонам с дырявыми авоськами на кольцах, и еще с двух сторон поперек футбольные хоккейные ворота. В центе поля флагшток из окрашенной в черно-желтые полоски трубы. Мокрая тряпка на подъемном проводе, тоже цветная. Знамя Ордена. Часовой, обороняющий знамя, силами граненой пики. Сбоку столовая с дымящей трубою, защищенной от потоков остроконечной воронкой. Низенькая без окон часовня, обозначенная крестом и возведенная чуть не вчера, судя по свежеструганным и еще белым доскам фасада. Чуть в стороне двухэтажное строение, обшитое крашенной в белый колер доской и с окнами, и даже остекленными. Так бы я и представлял себе устройство славянского лагеря, если б я представлял его себе. Мы подошли к часовому.
– Где моя обитель, солдат? – спросил я часового с лицом, побитым оспой.
– Устав караульной службы запрещает отвечать у части знамени, – путая слова, забормотал он растерянно.
Мне сделалось ясно, что караульный попросту не знает моих полномочий. Возможно, полномочия мои были выше, чем у Перца и даже Могилы, ибо те, от кого зависела сама его славянская жизнь, и кто были отпетые разбойники, и те не грабили винного отдела с отверткой в присутствии своих подчиненных, а я грабил. Рядовым бойцам довольно часто приходится проявлять смекалку, делая самостоятельные выводы из всего, что вылетает за уставные рамки, либо точные распоряжения офицеров.
– Ты как отвечаешь своему преподобию, воин? – спросил я более сурово, поскольку добыть нужных сведений у кого-то еще не имелось возможности. Славяне, верно, которые спали, а которые стерегли химический комбинат.
Кто-то, разумеется, гулял в «Нюрнберге». Словом, пустыня. Караульный вытянулся по стойке смирно, и тем его смирение не ограничилось. Казалось, он смирился даже с возможностью, что прямо сейчас его раздавят как мелкое насекомое, и при этом очевидно его лихорадила мысль: «А как я отвечаю своему преподобию? И как ему положено отвечать, когда у знамени вообще отвечать не положено?».
– Выйти из строя на семь шагов, – поскорей оборвал я его муки.
Караульный четко и с явным облегчением выполнил мою команду.
– Кругом.
Он развернулся через левое плечо и замер.
– Теперь ты не у знамени. Где моя обитель?
– Так точно! – ответил он, сразу повеселевши оттого, что старший по званию легко и без проблем снял с него ответственность за нарушение устава караульной службы. – В доме офицеров, мое преподобие!
– Где дом офицеров?
– Так точно, в штабе Ордена! Вон тот со стеклами! Белый весь! Он и штаб, и офицерские квартиры!
– Ну, иди с Богом. Охраняй, что ты там охраняешь.
Караульный, печатая шаг, вернулся к исполнению служебных обязанностей. Мы же с Вьюном дошли до кирпичной постройки. В штабе мы сразу приметили могучего Лавра, сидящего на подоконнике в конце коридора. Оказалось, он заступил вместо Перца дежурным по Славянскому Ордену. И тотчас Вьюн понеслась на встречу с возлюбленным, достигла его, и прочно повисла на крепкой шее штык-юнкера. Я же двинулся по ковровой дорожке постепенно. Знакомство со штабными дверьми могло пригодиться в будущем. Двери по имени Канцелярия и Гроссмейстер, и Перец и Могила ответили на мое рукопожатие холодно. Ни одна из них не открылась мне помимо той, что звалась Кардиналом. Та открылась полностью, Открыла все положительные и отрицательные стороны всего, что имела за собой. Наличие засова, распахнутого окна, погреба, голландской высокой печи, и цинковой купели, полной угля отнеслись мною к положительным сторонам. Отсутствие второго окна, и присутствие Словаря, курившего, лежа на заправленной койке в резиновых сапогах, отнеслись мною к отрицательным сторонам. Я предпочитаю два окна и терпеть не могу, когда кто-либо валяется на койке в грязной обуви. К тому же Словарь мог заметить, как в коридоре любезничают моя послушница со штык-юнкером. И все же я осмотрелся в поисках разводного ключа девять на двенадцать, каким обещал вышибить Владиславу Кондратьевичу мозги при нашей следующей встрече. Ключ искать было глупо. Разводные ключи редко доносятся до номеров, лишенных водопровода. Зато кочерга на поддоне оказалась чугунной. «Добрая чугунная кочерга, – прикинул я, взявши ее с поддона. – Грех не воспользоваться»
– У тебя винный погреб вниз по лесенке. Красное «Монастырское» и «Бычья кровь» ящиков десять. С похмелья, помнится, ты любил сухарика принять. Там еще два копченых окорока и бадья соленой капусты. Там же свечи разного калибра. Пять ящиков. Еще три в часовне за алтарем. В буфете посуда пластиковая, пузырь коньяка за наше здоровье, сигареты «Rosstof» четыре блока. Закончатся, вели Перцу. Он принесет, – Словарь отщелкнул окурок в стену обители, и собрался, что называется, по-военному. То есть, я еще размышлял, как его ловчей крючком по темени приложить, а он уже махнул через подоконник на улицу.
– С новосельем, святой отец, – поздравил меня Гроссмейстер Словарь на безопасной дистанции. – Ну, мне пора.
– К чертовой матери! – напомнил я Словарю, куда ему пора.
– Ты на кого опять разорался? Вот оно, влияние казармы.
Я глянул назад. В проеме стоял штык-юнкер с послушницей на руках.
– Скоро будешь орать на собственное отражение. По личному опыту знаю. Особенно когда прыщик под носом вылезет.
– Ты что вцепился в нее? – спросил я Лавра, не остыв еще от встречи с Гроссмейстером Словарем.
– Через порог перенести, – смущенно ответил дежурный.
– Перенес уже. Поставь.
Лавр осторожно опустил возлюбленную на пол, а я продолжил профилактический осмотр помещения. Келья послушницы – угол 2х2,5 – была находчиво задернута полупрозрачно пленкой на кольцах, продетых сквозь упертую в стены штангу.
– Малюта распорядился?
– Перец.
– Знать-стать, чтобы злые бесы не попутали меня. Умница Перец.
За пленкой стоял пляжный лежак из древесины с чурочкой взамен подушки, свернутой в рулон циновкой и каким-то бабьим платком как одеялом. Так, видать, славянский унтер представлял себе сон послушницы. Возможно, и питаться Вьюн должна была деревянными палочками.
– Это он меня проверяет на силу воли, – хмыкнул штык-юнкер.
– Если он тебя проверяет, почему не ты из нас двоих Рахметов? – критически поинтересовалась Вьюн.
– Я Рахметов, – почесав затылок, признался Лавр. – У меня отчим Рахметов. Записал под своей фамилией, когда паспорт вручали. Ты можешь с девичьей за меня выйти.
– А ты можешь за меня выйти? – спросила ироничная послушница.
Лаврентий вопроса ее не понял, и обиделся. Вьюн между тем, выбрала из угла горшок с засохшим алоэ, зачем-то притащенным в нашу комнату или позабытым здесь прежними постояльцами, вытряхнула мертвое растение вместе с землей в окно и залепила в горшке отверстие для водостока жевательной резинкой.
– Нет, конечно, – рассуждала она при этом вслух. – Ты не можешь за меня выйти. Никто не может за меня выйти. Придется мне самой выйти, а некуда. Дамская уборная в штабе, конечно, отсутствует. Придется в детство впасть. Горшок вполне подходящий. Может, вам если не за меня, то просто выйти?
– Выйдем, – сказал я Лаврентию. – Есть разговор.
И вот мы с Лавром уже дымили на улице, пряча сигареты в кулак, точно старшеклассники рядом со школой. Дождь усилился.
– Лаборанта Максимовича задача на химии отыскать. Мы-то внешняя, в основном, охрана. Немцы – хозяин серьезный. Бывшим уголовникам больше доверяет сдерживать местную публику. Изнутри корпуса беретами охраняются. Там они живут. Их десятка полтора, но профи. Оружие у них реальное. Автоматы, помповые ружья, гранатомет раз видел.
– Еще, какие трудности?
– Сканеры на входах. Не везде, но есть. Глазную сетчатку прокатывают. Сигнализация везде, видеонаблюдение, само собой.
– Короче. Ты желаешь вырваться из Казейника вместе с нами, Лаврентий, или ты желаешь издохнуть здесь со славянскими отбросами? Желаешь ли ты, Лаврентий, жить с Вьюном долго ли, коротко, но по-людски? Не озираясь, что тебя Могила подрежет, а ее Перец изнасилует?
Штык-юнкер подкурил у меня следующую сигарету. Я понимал его. Что здесь ответишь?
– Тогда найди нам этого Максимовича. Найди его ради Оленьки, ради меня, ради себя. Но только найди, а иначе конец нам, Лаврентий Рахметов. А может и не только нам. Скорее всего, не только, Лаврентий.
– Кому еще? – штык-юнкер, в котором высоты было метра за два, глянул на меня снизу вверх. Это не парадокс, уважаемый читатель. Это легкая аномалия.
– Приблизительно всем, – ответил я гиганту.
ЧАСТЬ 2. АНКЕНВОЙ
АНКЕНВОЙ И Я. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Итак, я родился в столице Эстонии городе Таллинне. Точнее, в его зеленом районе Нымме. Хорошее место. Есть, где спрятаться. Недавно прочитал, что глава моего района приветствовал ветеранов СС. Хороший человек. Любит родную летопись. Марш эсэсовских ветеранов на улицах Мюнхена трудно себе представить. На улицах Львова, Таллинна и Риги легко. Вероятно, у наших эсэсовцев строевая подготовка лучше была поставлена. Но это так, историческое отступление. Как отступление эсэсовских братьев за линию фронта в густые леса, где все они обернулись лесными братьями. И, вероятно, лестными сестрами. И прочими зелеными человечками. Я тоже из Таллинна перебрался в леса. В гарнизон воинской части, где мой отец командовал ротой охраны. Под моей командой тогда состояло всего двое оловянных бойцов, один из которых днем и ночью хотел метнуть гранату. Когда я подался в начальное учебное заведение, они еще пару лет служили мне верой и правдой от звонка до звонка. Наконец, они дезертировали из моего школьного портфеля вскоре после футбольного поражения, где портфель выступал за штангу. Они воспользовались тем, что сразу после игры мне пришлось возглавить оборону Сталинграда. Еще с группой снайперов я должен был отражать нападение отборных фашистских сил. Силы стремились выбить нас из развалин строительной площадки. А когда снайперы, уже отступали по домам, я спрыгнул с безымянной высоты в железное корыто с гудроном. Там и нашла меня матушка ближе к полуночи. Из гудрона, успевшего практически окаменеть, меня за четвертинку вырубил топором разбуженный сторож. Заодно с моими оловянными бойцами из портфеля дезертировала складная немецкая ложка со свастикой, накануне плененная мной в разрушенном блиндаже у лесного болота. Хорошая ложка была. Совсем как новая. Видать, она и соблазнила остальных. А брошенный портфель они подожгли. А вместо портфеля мой военный родитель обрадовал меня коричневым ранцем, который был даже полезней, потому, что был тверже, и отбиваться в драках от Леньки Пискунова им было куда эффективнее. Ленька Пискунов. Злодей. Сугубо штатская личность, и первый отъявленный хулиган, встреченный мною на тернистом пути моего школьного детства. Ленька-двоечник. Ленька сын заведующего продмагом из деревни Ермолино, Под этой самой деревней на берегу мелководной реки зимой 41-го года латышский стрелковый полк остановил «ролики» 4-й армии Вермахта. Он кого хочешь, остановил бы, этот латышский полк. Хоть и 15-ю латышскую дивизию эсэсовцев. Жаль, что его стрелкам не довелось увидеть, как отважно маршируют земляки-ветераны по улицам свободного от предрассудков города Риги. Его стрелки легли в холодную подмосковную землю. А всего-то против панцирных «роликов», будто тесто раскатавших всю Европу, имелись у них бутылки с коктейлем товарища Молотова, да десяток противотанковых ружей.
Там они и лежали, когда я осваивал чистописание. А после школы мы до черных ногтей рылись в окопах, заросших осенней рыжей травою, словно щетиной стрелков, пробившей землю, потому что, говорят, волосы на мертвых долго растут. Дольше, чем росли мы с Ленькой. В пятнадцать лет, когда я стал оторванным ломтем и отъявленным хулиганом, он выиграл областную математическую олимпиаду. Ленька играл в кожаный ручной мяч за сборную района и серьезно занимался тяжелой атлетикой. Услышав матерное слово, Ленька смущался, как монашенка. Когда я в школьном туалете настоял, чтобы он досадил за мной папиросу «Казбек», его после громко тошнило в раковину.
Ленька не обиделся на меня. Он гордился тем, что его старый приятель и ваш покорный слуга умеет все, что сам Ленька так и не освоил, а именно: алжирское питье прямо из горлышка, курение окурков, изведение учителей по точным дисциплинам, сование кулаком в солнечные сплетения тех, кто его сильнее морально, и спортивную команду: «попрыгай». Сколько раз прибегал я к ней в подъездах и на улицах, когда не хватало два рубля восемьдесят на вермут по рубль сорок. Сколько детских карманов опустошил, прости меня Богоматерь.
Возмужавший, Пискунов окончил академию Дзержинского и вступил в сугубо военное человечество. А вспомнил я здесь Леньку потому, что я вспомнил его, когда познакомился именно с Анкенвоем. Борис Александрович Ростов был таким же низколобым, широкоплечим, приземистым и с подобным же умным проницательным взглядом из-под густых бровей. Это, я вам скажу, общее заблуждение, что низколобая публика сплошь тугодумы. Оно происходит из другого, еще более опасного заблуждения, будто высоколобая публика кругом интеллектуалы. Сразу хочу обмолвиться, что как обо мне, так и о Ростове у меня сохранились довольно таки разрозненные и противоречивые сведения.
Обо мне известно из реакции поклонников на роман «Вепрь» и последующий к нему сценарий одноименного сериала, что я извратил историю СССР, ненавижу свой народ и преклоняюсь перед американским образом жизни. Прошло 25 лет, как то же самое инкриминировали мне сотрудники органов безопасности. Если мнение обо мне за четверть века не сменилось, оспаривать его бессмысленно и подло. Остается добавить, что в меру сил я старался извратить историю всего человечества, включая собственную, что чужой народ я ненавижу еще более, чем свой, и что я так же преклоняюсь и перед американским образом смерти. Особенно, в исполнении актера Бреда Питта. Но порочность извращенной моей натуры вышеназванными качествами далеко не ограничена. Границы моей порочной извращенности окончательно еще только предстоит очертить, ибо с каждым прожитым днем они расширяются. Кстати, что поклонники моего литературного дарования по сию пору не носят меня на руках, то это они верное решение приняли. «Какой славный мальчуган!», – зычно воскликнул замполит гарнизона, взявши меня на руки, когда я разменял пятый год жизни. Воскликнул, и тут же исхлопотал себе трепанацию ухоженных кудрей, сопровожденную оглушительными воплями. Однако, пора вернуться к моей испорченной натуре. Первую кражу я совершил в 11 лет. Отбывая срок в подмосковном пионерском лагере «Орленок», я похитил из тумбочки больного соседа эмблему «Союз-Аполлон» и золотую шоколадную медаль за первое место в духовой стрельбе. Поскольку бараки для пионерского содержания назывались палатами, смею утверждать, что здоровые дети сидели по домам. Толчок на мое преступление, кстати, был вызван отнюдь не завистью или приступом клептомании, но тягою к прекрасному. Два года спустя в том же пионерском лагере я закурил. Еще два года спустя, уже в первом отряде, я научился мастурбировать. После девятого класса для прохождения трудовой практики, я нанялся все в тот же «Орленок» на должность воспитателя. И там я впервые запил. То есть именно не выпил, а запил. А лагерь «Орленок» мне вспомнился потому, что я вспомнил его, когда познакомился с Анкенвоем.
Ростов Борис Александрович, отсидевший три года в лагере общего режима за превышение самообороны, так же, по его рассказам, приобрел в местах исправления дополнительные вредные привычки. Из нашего собирательного опыта я пришел к робкому заключению: всякая пенитенциарная система портит людей вернее, чем исправляет их. Это робкое заключение испортило меня еще сильней. Как и всякое заключение. Относительно же Бориса Александровича, с момента нашего знакомства я заметил, что посадили его как-то вхолостую. К примеру, все случаи моего превышения самообороны легко можно по пальцам пересчитать. Борис Александрович превышал самооборону с той же легкостью, как и правила дорожного движения. Иначе говоря, когда на Князя нападали словесно, Князь отвечал старым добрым хуком в челюсть, когда его били, он отмахивался ножом, а когда враги, обыкновенно владельцы южного темперамента, выхватывали холодное оружие, он тотчас доставал наган из портфеля с документацией очередного своего предприятия с ограниченной безответственностью. Опять же, границы его безответственности еще только подлежало уточнять. Из массы он выделялся и какой-то заносчивой удалью. Чисто княжеская черта. Нагулять в кругу льстивых иждивенцев до полного разорения, спозаранку пуститься в набег на каких-то древлян, и живо содрать с них три шкуры.
С Князем познакомила нас женщина-дрессировщик. Псов она любила больше, чем людей. Некоторые могут прочесть это сообщение извращенно, потому ее имя останется в тайне. Ротвейлеры на свалке, надо полагать, ее питомцы. Существование известного мне Бориса Александровича я, пожалуй, разобью на двух Анкенвоев: Анкенвой 7-го дня и Анкенвой 365-го дня. Анкенвой 7-го дня с его самоубийственными аферами был рассчитан примерно так не неделю. Таков, приблизительно, был срок его эксплуатации обманутых стяжателей. А стяжатели эпохи буржуазного ренессанса в России запомнились мне как очень устремленное, мстительное, кровожадное и просто жадное сообщество упырей. Пятилетка с 1989 по 1994 годы воистину стала ударной для организованных преступников, органов безопасности, защищавших только себя, продажных журналистов, народных избранников, торгующихя, как на панели, своими услугами, и проходимцев, гревших насиженные места в приемной веселого президента, словно в парикмахерской для стрижки купонов. Одни генеральские распродажи, после каких вверенные им силы, уже вряд ли могли называться вооруженными, чего стоили. А из общества мужественных афганских ветеранов груз 300 прибывал на похороны чаще, чем с горных полей сражений, где они гасили чужие долги. Вся эта буйная пятилетка прошла под колокольный малиновый звон. Владыки христианства, наделенные власть имущими неофитами правом на беспошлинный импорт западного алкоголя и табака, получили такой приход, что расход в виде нищих, беспризорников, и еще вчера только имевших законный угол бомжей как-то сам собою компенсировался. Общий баланс РПЦ выходил даже в пользу верующих. Помню, очередной премьер из тех премьеров, что менялись как подгузники, назвал эту стадию «шоковой терапией», позабыв, что названная лечебная метода применяется, как правило, для усмирения буйно помешанных. Политические, экономические и даже вокальные конкуренты отстреливали друг друга точно уток. Заказать убийство тогда было проще, чем билет на премьеру «Онегина» в Большой театр. В таких безобразных условиях систематически жил и трудился Анкенвой 7-го дня. Регистрировал предприятие на физическое, допустим, лицо, щедро оплачивал это лицо, чтобы оно не мелькало, заключал контракты с предоплатой в 100 процентов на очень дефицитный продукт по цене весьма ниже рыночной, и кидал стяжателя, как подметил знакомый рифмоплет, «через левое бедро, да в помойное ведро». Однажды он даже умудрился кинуть родного брата министра внутренних дел сопредельного государства на полтора миллиона долларов. Князь в глубине себя, может, и хотел ему поставить 40 вагонов бензина, да поставка сорвалась. Ну, сорвалась. Ну, с кем не бывает. Брат министра, которому почему-то в голову не зашло, что жидкие тела чаще поставляются в цистернах, воспринял этот фарс-мажор, как личное оскорбление. Анкенвоя 7-го дня искали всей милицией и спецслужбами обеих дружественных стран. Нашли. Но концов не нашли. И денег тоже. «Язык надо учить, – выйдя через неделю с Петровки, прокомментировал Князь. – В последней главе контракта черным по белому написано: «Фарс-мажор». То есть, это значит: обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению контракта. То есть, допустим, я мажор. И я желаю устроить фарс. И желание мое так сильно, что преодолеть его я решительно не имею возможности. Ну, не могу я отказать себе в удовольствии надувать невежественных лохов до пограничного состояния упругости». Сам он, кончив МФТИ, учился регулярно. Личность в высшей степени любознательная, Князь любил и знал историю, философию, литературу и прочие гуманитарные ветки. Он много читал и просматривал множество фильмов. Он с равным успехом разбирался и в бухгалтерии, и в политике, и в моде. Он блестяще ориентировался в экономических лесах. Он разумел в ценных бумагах, акциях, ювелирных украшениях, аукционных лотах и редких винах. Он с удовольствием и с пользой выучивал иностранные языки.
Он прилично владел немецким, английским, испанским, и сносно чешским. Он облетал и объездил множество стран, заводя повсюду как деловые, так и любовные связи, приобретая недвижимость, а кое-где и запасное гражданство. Будучи уже гражданином ряда стран Европы и Латинской Америки, он умудрился за не полных три месяца стать гражданином США, уж не знаю, во сколько ему это обошлось. Он был в высшей степени экстраверт. Любопытный и внимательный собеседник, он умел расположить к себе любого. А, между тем, сумма кинутых Анкенвоем 7-го дня стяжателей неуклонно росла. От одних он прятался, других обнадеживал, третьих посылал на известные совершеннолетним господам три буквы. Выжить в одиночку с его горизонтальным размахом без властных покровителей, без железной крыши, без команды веселых и находчивых было практически нереально. Ростов с его интеллектом, напором, хладнокровием, беспримерной наглостью, хваткой и коммерческим воображением вполне мог бы войти в любое собрание, объединение, сообщество или закрытый клуб взаимной поддержки. А войдя, стать бы его предводителем. Но он дорожил своей свободой, точно беглый каторжник. «Я волк-одиночка», – упрямо твердил он, уже накопивши смертельных врагов более, чем клещей натуральный волк из какой-нибудь средней полосы, и всякий раз я думал, что до конца текущей недели Борис Александрович точно не доживет. Но он доживал. Он каждый раз доживал до седьмого дня. Казалось, ангелы хранили его для какого-то неясного мне назначения. Он доживал до седьмого дня, и еще как доживал. Сказать на широкую ногу, значит, ничего не сказать, уважаемый читатель. И здесь я хочу коснуться его парадоксальной для обыкновенного капиталиста неприязни к накоплениям. «Я бабки заработал не у фанеровочного станка», – так объяснял он, по крайней мере, мне свое стремление поскорее избавиться от капиталов, нажитых путем обмана взяточников и стяжателей. Цыганский хор под окнами до утра, разбрасывание сотенных зеленых банкнот в Доме то ли композиторов, то ли ученых с ползаньем этих самых ученых композиторов под столиками, щедрые пожертвования кому угодно и по любому поводу, новая иномарка чуть не всякий день с дарением старой иномарки первому встречному, и так далее, и в том же духе. Зачем? Чтобы потешить свое эго? Но эго Ростова было куда крупней, и вскоре я понял: он сбрасывает призы, точно корсар где-нибудь в ближайшем порту, чтобы скорей выйти в плавание за новой добычей. Его азартную натуру интересовал только поиск и уничтожение богатой жертвы.
Еще я понял, что княжеская щедрость полностью растлевает случайную прислугу до состояния совершенной подлости. Особенно, водителей. Того не сознавая, они делались косвенными жертвами Князя. Они мгновенно обрастали добром, обзаводились непомерными дачками хозяина, быстро им, очумевшим от внезапной удачи, начинало мерещиться, будто они уже его незаменимые помощники, и они уже лезли на его кухню, в его бизнес, наглели безобразно от почти товарищеского обращения. И вдруг вылетали на улицу, растерянно озираясь по сторонам: «Где ж они дали маху?». Да нигде. Просто Борис Александрович терпеть не мог рядом с собой наглецов и сплетников. И только сам диву давался: «Откуда что лезет? Вроде честного и скромного паренька взял порулить, и на тебе». Наши личные с Борисом Александровичем связи в эпоху Анкенвоя 7-го дня имели разнообразный характер. Когда злонамеренный, а когда и случайный. Злонамеренный, когда я пытался заработать при участии в его аферах сотню-другую долларов. Мои аппетиты были скромны. Даром я денег от него не брал, хотя остро нуждался, и он предлагал мне их постоянно. Деньги меньшее, что мог он предложить окружающим. И самое большее для окружающих его. Но брать у кого-либо даром деньги, даже если все берут, я и нынче полагаю нижней ступенькой наиболее длинной лестницы, какие только воздвигаются исключительно для падения. Бориса Александровича моя подобная умеренность забавляла. Или раздражала. Или хоть сколько-то вызывала доверия к моему бескорыстному интересу в общении с ним. А доверял он кому-либо с трудом. Разве что своей женщине-дрессировщику. Любящие женщины – самая преданная аудитория. До тех пор, конечно, пока ты не изменишь ей с другой какой-нибудь аудиторией. Что же до наших злонамеренных встреч, то деньги я получал от Князя дважды. Впервой, пять тысяч долларов за участие в сделке, обогатившей Анкенвоя 7-го дня на пять или около того миллионов долларов. Тогда я свел его и с партнером по строительству крупнейшей финансовой пирамиды. Эта последняя сводка заложила фундамент, на котором построился Анкенвой 365-го дня. В иной раз он одолжил мне пять тысяч долларов на хозяйственные нужды. Долг я вернул двумя слитками золота, унаследованными от покойного тестя, ювелирных дел мастера, и долей в предприятии, из которого я вышел без потерь и по причинам сугубо личного отсутствия характера. Что до наших случайных связей с Борисом Александровичем, то возникали они спонтанно, и всегда по его инициативе. Тут не зря господа венерологи брякают: «опасайтесь случайных связей». Одна из них для меня закончилась парой сломанных ребер. Вторая – подбитой бровью. Как отмечалось раньше, превышение самообороны господином Ростовым никто не отменял. А если мои разные с ним весовые категории прибавить к его значку КМС по боксу, ответить моему собеседнику интеллигентно я не имел физической возможности. Разве что череп ему снести. Но череп у него, во-первых, был очень крепкий, во-вторых, он дорогого стоил. Даже в моих глазах. Два перечисленных случая оставили у меня на дне довольно-таки скверный осадок. Впрочем, я сам виноват. Анкенвой 365-го дня предупредил заблаговременно: «Я – люди, а не хрен на блюде». Это честное предупреждение. От нас мы обязаны всего ожидать.