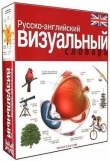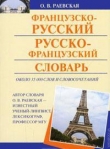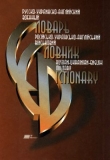Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
– Господь у них в силе, – бормотал я, раздраженно ероша ладонью свою мокрую лысину. – Кто выжил, тот и прощен. Божий суд, мать их в дышло. Ни волоса не упадет с головы без ведомости Господней. Знаем. Читали. Ведомость вам, слава Богу, не одобрение, извращенцы. Ибо сила Его совершается в немощи, онанисты публичные Паскаля надо читать.
Уже через два пролета лестница привела меня в подвал. Общий галдеж и отдельные выкрики с моим появлением стихли мгновенно. Все присутствующие разом обернулись ко мне. Лишь комментатор идущего по телевизору матча Бундеслиги, как ни в чем не бывало, продолжал свой репортаж: «Иван Саенко по-прежнему разминается у кромки поля. Очевидно, Ханс Майер хочет усилить игру «Нюрнберга». До конца матча остается пятнадцать минут, а счет на табло хозяев поля явно не устраивает. Неужели Саенко заменит полузащитника?
Да, так оно и есть. Шестой номер Галашек направляется к скамейке запасных.
Что же? Ханс Майер идет ва-банк. Хотя, справедливости ради, следует признать: для Галашека сегодня был не лучший день». «И не только для Галашека», – подумал я, изучая магазин, более смахивающий на баварские народные бирштюбе. В оформлении интерьера преобладали красно-черные цвета футбольного клуба «Нюрнберг». Флаги на стенах, скатерти, вымпелы, сам прилавок, оснащенный расплющенным орлом со свернутою башкой, да еще и заседание колонны суровых штурмовиков за четверкой столиков, сдвинутых вместе, обернули бы вспять любого спортивного дилетанта. Дилетант решил бы, что угодил он в самое логово германского национал-социалистического движения. Но как я страстный болельщик, то легко разобрался в обстановке. Тем паче, что ни германского, ни какого иного малейшего движения мною в подвале не ощущалось. Напротив, и продавец, и покупатели, сидевшие за прилавком, и штурмовики в красно-черных шарфах застыли, сосредоточившись на моей персоне. Возможно, все они ждали от меня какого-нибудь сигнала. И я счел за лучшее оправдать их надежды.
– «Нюрнберг» чемпион! – провозгласил я, гимнастическим жестом выкинув руку перед собой.
– «Нюрнберг» чемпион! – хором отозвалась колонна штурмовиков. Прочие завсегдатаи так же поддержали мой клич. В магазине наступило прежнее оживление. Все вернулись к своим делам. Я подошел к прилавку. Выбор напитков за спиной продавца возбуждал если не жажду, то, по крайней мере, любопытство. Стеллажи были уставлены четвертушками, полулитровками и бутылями емкостью литров до пяти без наклеек, исполненных как прозрачной жидкости, так и жидкости светло-коричневых оттенков. На краю прилавка стоял поднос, и на нем чистые кружки. Меланхоличный продавец в красной пилотке и с партийным значком в виде буквы «N», пришпиленным к черному галстуку, оттирал наждачной бумагой ржавый штопор. Учитывая, что все изделия на стеллажах были запечатаны пивными пробками, назначение штопора показалось мне загадочным.
– Тебя как звать? – спросил я для первого знакомства.
– Филиппов по батюшке, – продавец испробовал пальцем острый кончик штопора.
– Пиво есть, Филиппов?
– Пива нет.
– А кружки?
– Кружки есть. Дань традициям, – добавил продавец, предупреждая мой следующий вопрос.
– Мюних путч? – откликнулся я с пониманием.
Продавец многозначительно смолчал, покосившись на милицейского капитана, отдыхавшего чуть поодаль за длинным прилавком.
– Что еще?
– Водка и портвейн. Водка хорошая. «Rosstof».
– А почему «Rosstof»? «Российский штоф»?
Продавец и здесь многозначительно смолчал.
– А этикетки забыли поклеить?
– Зачем их клеить? – Изумленно посмотрел на меня продавец. – Какой «Rosstof» правят на экспорт в Самару, тот оформляется. А нашу водку прямо в цеху разливают.
– А другую где разливают?
– Или бери, или тикай отсюда, – расстроился Филиппов.
Дружный рев зала привлек наше внимание к экрану телевизора. «Нюрнберг» усилиями Саенко выдрал ничью на второй добавленной минуте.
– За счет заведения! – Заорал на меня раскрасневшийся продавец, меланхолию которого сдуло, точно пудру. – Хайль, Саенко! Всем водки двойную порцию!
Он подбросил штопор, не поймал его, сорвал со стеллажа бутылку портвейна, высадил ее до половины, остаток вылил в кружку, и подтолкнул ко мне. Казалось, ликование покупателей было всеобщим, когда вдруг милиция подняла голову.
– Допились, козлы? – Капитан мутным зрением окинул вестибюль. – За фрицев радуетесь? За тех, кто наши тридцать четверки в заливе топил?
Штурмовик, в котором узнал я жилистого бича, отбился от своей колонны, гулявшей посреди вестибюля, подлетел к раскольнику и смахнул с него милицейскую фуражку.
– А ты за кого болеешь, гнус?
– За него, паразита, – безропотно выпрямил свою линию капитан.
– За «Нюрнберг»! – Провозгласил я победный тост, разряжая атмосферу.
– «Нюрнберг»! – штурмовики выпили стоя.
Я же пить и вовсе не стал. Я подвинул кружку с портвейном униженному капитану, законно положив, что его организм выделяет противоядие, и опустился около на пустующий табурет. Штурмовики меня игнорировали. Надо было что-то завязать с капитаном.
– Как это вы так сносите хулиганские оскорбления? – нагнувшись, я поднял с пола его засаленную фуражку. – Вы карающий орган, или баба в итоге?
– Я участковый, – язык повиновался капитану с трудом. – Шесть соток обработанной глины. И плантация в погребе. Участок меня кормит.
– Какая еще плантация?
Он приманил меня пальцем, и прошептал едва слышно:
– Участковый Щукин.
– Взаимно.
Участковый кивнул, и выдул портвейн за счет заведения. Я оказался прав.
Хуже ему не стало. Ему лучше стало. Проясненные очи капитана сразу нащупали фуражку.
– Это моя фуражка.
Он примерил фуражку назад козырьком, приосанился и весело сообщил:
– Изъятие надо оформить. Портсигар с гостиницей «Украина». А ты сидишь на нем, сотрудник.
Тусклый портсигар с высотным зданием нашелся в кармане милицейского кителя.
Щукин открыл его и стал пересчитывать сигареты.
– Восемь.
– Ладно. Как мне отсюда выбраться?
– Через дверь. И направо. А было девять. Это кто ж столько выкурил?
Действие портвейна быстро заканчивалось. Приятные мысли, захватившие Щукина врасплох, пролили свет на его детство.
– Последний урок физическое воспитание. В женской раздевалке за бетонной ширмой курили. Там входное отверстие калибра 7,62.
Я встряхнул его за плечо.
– Как мне выбраться из поселка, Щукин?
В магазин ввалилась шумная ватага идейных анархистов под управлением все того же Мити.
– Здорово, славяне! – приветствовал Митя колонну штурмовиков. – Ну, как там наши? Вставили «Байеру»?
– «Нюрнберг»! – штурмовики выпили стоя.
Щукин закурил, исподлобья глянул на продавца, отпускавшего товар анархистам, затем обернулся ко мне.
– Ты, сотрудник, страх потерял или пьяный до глупости?
Штурмовики уже орали какую-то немецкую песню, а еще и прибывшие анархисты шороху добавили, так что смысл вопроса разобрал я с большим трудом. Щукин сообразил, и резко ткнул меня костяшками в солнечное сплетение. Сложившись от боли, я невольно уткнулся в его брюхо. Теперь я слышал капитана вполне отчетливо.
– Это Казейник Анкенвоя, – тихо и серьезно сказал мне Щукин. – Назовешь его поселком, или, хотя бы, городом, кишки тебе сразу выпустят. Без суда и следствия. Запомнил?
– Запомнил, – прохрипел я, кое-как восстанавливая дыхание.
– Повтори.
– Казейник Анкенвоя.
– Молоток. Слушай дальше. Из Казейника нам пути нет. Он годов десять блуждает по области. Как – не знаю. Природная аномалия. Но кое-кто знает. И ход есть. Найдешь меня завтра, сообщу подробности.
Он уронил голову на прилавок.
– Ты куда пропал, святой отец? А мы тебя обыскались!
Я обернулся на удивленное, и, вместе, радостное восклицание. Альбинос, возглавлявший колонну штурмовиков, сгреб меня в объятия и снял с табуретки. Альбиноса я приметил сразу, как зашел в магазин. Этот автобусный убийца и виду не подал, что мы знакомы, хотя я затылком чувствовал его пристальный взгляд почти все время, проведенное в магазине. Так же сразу я приметил и Хомякова, что-то уединенно обсуждавшего за дальним угловым столиком с интеллигентного вида юношей в очках. Но к Хомякову я еще вернусь. И вернусь обстоятельно. А в данный момент мне было не до него. В данный момент я был увлечен свирепым альбиносом в самое горнило праздника. Штурмовики меня встретили радушно. Казалось, они ждали меня всю жизнь.
– Оцени, кто с нами братья! – Альбиноса распирало. – Что я твердил еще утром? Такую игру духовенство не променяет! Майн либен августейший! А ты мне что спорил, душа из тебя?
– Что? – побледнел штурмовик со шрамом на подбородке.
– «Что»? – альбинос передразнил сослуживца и локтевым ударом освободил его застольное место. – Перец! Штрафную святому отцу! Кто не с нами, тот покойник! Аминь!
Жилистый Перец, чуть не сломавший мне руки в автобусе, с краями наполнил кружку прозрачной жидкостью из пятилитровой бутыли, до половины уже израсходованной.
– Шнапс как чудо, святой отец, – он поднес мне кружку, изобразив на дубленой роже крайнее умиление. – Преломи с братьями.
– За орден стоять! – Альбинос поднял штурмовиков, и те выхлестали свои порции до дна. Опустив штрафную кружку на скатерть, я дернулся из подвала.
– Да куда же? – Альбинос придержал меня, и с мягким нажимом усадил на свободный стул. – Ты честь нам окажи, а мы тебе окажем все, что хочешь.
– Не по чину вино мне с вами пить, братья славяне, – произнес я смиренно, желая только смыться.
– Где же пить? – с горячностью возразил Альбинос. – Пить, когда с мусором. А с нами душевная беседа. Застольные речи. Процесс, и только.
– Процесс. Процесс реально, – поддержал его Перец. – Может, хавки тебе? Слышь, брат Могила? Пожрать бы ему. С автобуса голодом шарахается.
Теперь я знал и как здесь кличут альбиноса-убийцу. Могила.
– Хавки! – приказал Могила, и его солдаты безжалостно потащили из брезентовых сумок разнообразную консервированную снедь: банки со шпротами, ветчиной и тушеной говядиной. Противогазная сумка с продуктами висела через плечо у каждого. Помимо сумок, штурмовики были оформлены в одинаковые красные комбинезоны, высокие бутсы на толстых подошвах и либеральные картузы черного сукна. Только в России либералы так воинственны. Могила выхватил напильник, и умело стал вскрывать им сухой паек. Мне подсунули столовую ложку.
– Жуй, духовенство, – Перец толкнул меня локтем. – На пустой кишке не протянешь. Обмен веществ дело тонкое.
Который уж час терзал меня голод, и я не удержался. Я приналег и на шпроты, и на тушенку, и на скользкую ветчину. Периферийно я заметил, как переглянулись Могила с Перцем. И заметил, как Перец куда-то исчез. Поначалу я не придал этому значения. Но когда пропал и Могила, я забеспокоился.
– Ты плотнее трамбуй, пилигрим, – отвлек меня сидящий напротив хлебосольный штурмовик атлетического склада. – Консервацию не добудешь в Кавзейнике. Гуманитарную помощь только славянам оказывают.
– Тебя как звать?
– Лавром кличут.
– Дай Бог тебе, Лавр, – я живо прикончил третью к ряду банку, и теперь только обратил внимание на сиротливый табурет, прежде занятый участковым Щукиным. И у меня отчего-то на сердце, что называется, кошки заскребли. Колонна вокруг меня с жаром обсуждали шансы на выход клуба «Нюрнберг» в финал кубка Лиги чемпионов. Отложив прибор, я покинул застолье и подошел к прилавку. Филиппов отполированным кончиком штопора сосредоточенно вычищал из-под ногтей.
– Филиппов, где участковый?
– Отлить пошел.
– А где гальюн?
– Туалет за прилавком. Заметил дверцу?
Я заметил дверцу. И я подошел к ней тихо. И тихо ее приоткрыл. В узкую щель я увидел, как Могила отмывает над раковиной кровь с напильника. А Щукин лежит ничком на кафельном полу. А Перец стоит рядом на коленях. И в луже крови переворачивает капитана. И увидел, как он прикладывает ухо к сердцу капитана.
– Сердце ходит, – озабоченно предупредил альбиноса Перец.
Могила вернулся к участковому, и, присев на корточки, глубоко вогнал напильник
в его грудь. Отшатнувшись от двери, я успел зажать рот ладонью.
– А теперь? – донесся еще до меня приглушенный голос альбиноса.
Нет, меня тогда не тошнило, уважаемый читатель. Из горла моего рвался крик отчаяния и ужаса. И только ужас его загнал обратно. Глубоко загнал. Я тихо вернулся на праздник штурмовиков. Я тихо сел на место и тихо выпил штрафную кружку. За упокой раба Божьего Щукина, хорошего человека. Спустя минуту к честной компании присоединились Могила с Перцем.
– Ну, вот, – обрадовался Могила, заглянувши в мою кружку. – Процесс пошел.Ты что бледный, святой отец? Повторить надо. Вторая пробьет. Отвечаю.
– За что? – спросил я, не осмеливаясь поднять на него глаза.
– За все, – Могила обнял меня как давеча у прилавка. – За тебя, монах, отвечаю. Ты меня держись. В Казейнике опасно с народом путаться. Отпетый народ. Здесь прежде химия была. Законников мы наказали, но сам рассуди: честному вору в душу не влезешь. Много еще по углам разной сволочи лютует. Мусора помнишь за прилавком?
– Помню.
– Зарезали его, – сообщил мне печальную новость Могила. – Только что зарезали. Прямо у параши закололи. Ненавижу сук отмороженных.
Он выхватил напильник и вонзил его в стол чуть не по рукоятку, замотанную черной изоляцией. Удар у Могилы был поставлен.
– Ничего, – Могила выдохнул, сцепивши пальцы. – Дай срок, святой отец.
На фалангах его пальцев я подметил два наколотых перстня с крестами.
– Срок я тебе не дам, – отозвался я мрачно. – Я не суд присяжных.
– Правильно. Умница ты монах, – поддержал меня вор в законе Могила. – Тонкая шутка в беде нас хранит. Выпьем за упокой души мусора Щукина, хорошего человека.
Он встал и поднял кружку. Оторвала свои зады от стульев и штурмовая колонна, точно по команде.
– За павших славян!
Я тоже выпил. Я пил не с Могилой. Мне все равно, за что он пил: за славян ли, за план Барбаросса, или за «Нюрнбергский» процесс. Я пил за плантатора Щукина, ибо сам он пить уже не мог. И за упомянутый Щукиным перед смертью ход из Казейника. И мне еще, кстати, его предстояло найти. «И, желательно, до заката солнца», – мысленно уточнил я задачу, тогда не ведая, что в Казейнике давно позабыли, как он выглядит, этот солнечный закат. Здесь просто сумерки сменялись темнотой. Темнота или сумерки. Плачевный выбор, если задуматься. Но у меня и Казейника были разные проблемы. Я лишь думал о том, что жена моя теперь обзвонила всех родственников и знакомых. И о том, что скоро она закончит обзванивать больницы, морги и милицейские районные отделения. И о том, что, более не зная, кому набрать, она только будет беспомощно плакать, глядя на телефонную трубку.
– Не унывай, монах, – подмигнул мне Перец, – жить везде можно с пользой для компании.
– С чего вы взяли, что я монах?
Ответа от него я не ждал, но ответ последовал. Вместе с моим обручальным кольцом, которое, Перец, видно, свистнул еще в автобусе. Кольцо прокатилось по скатерти и легло передо мной, ударившись о порожнюю банку.
– Монах ты и есть. Кольцо-то монашеское, – подытожил, закуривая, альбинос.
Кольцо подарила мне жена, сторговавши его на блошином рынке в Измайлово. Золотой обруч изнутри, стальной снаружи, с выбитыми по орбите словами на церковно-славянском языке: «Свят. Великий Серафим». Кольцо, действительно, было монашеское. Жена посчитала, что освященное кольцо инока убережет меня лучше, нежели драгоценная штамповка, и не просчиталась. По крайней мере, до сей поры. Конечно, Перец мое кольцо Могиле предъявил, и уже от Могилы, видать, слух рикошетом задел местное население. Могила, упырь матерый и сообразительный, конечно, понимал, что грош цена моей святости. Он создал миф из личного интереса. Как бригадир и казначей славянского ордена, в духовном пастыре Могила нужды не испытывал. Пастырь у него был, и еще тот. Хотя здесь я невольно забегаю. Или вольно. Мне, в сущности, наплевать. Относительно мотивов альбиноса у меня имеются как минимум три версии. Версия первая. Отнимая партию анархистов, население в Казейнике сплошь состояло из христиан различного толка. Других монахов славные христиане Казейника прежде не видывали, потому я сразу и без усилий внушил им суеверное почтение. Таким путем убийца-альбинос упрощал исполнение Гроссмейстерского распоряжения: отгородить мою персону любой ценой от местных разборок. Версия вторая. Могила наперед предполагал использовать меня как третейского арбитра в предстоящей религиозной войне. Арбитра, согласного и способного оправдать славянские методы. В уголовной среде, воспитавшей Могилу, третейский суд решал многие вопросы. И версия заглавная. При удачном развитии обстоятельств Могила, подпершись моей авторитетной поддержкой, мог сместить Гроссмейстера Словаря и возглавить славянский орден, чтобы кто-то другой, но теперь уже от Могилы, шарахался в проходе автобуса. Все три версии сложились у меня чуть позже. Вернее, две сложились почти сразу. Третья вылезла, когда я с Могилой перекуривал в казарменном погребе. А четвертой, наиболее дикой, он сам поделился в кают-компании списанного буксира. Тогда я не дал ей значения, и вспомнил только на кладбище, где Могилу, навсегда поглощенного собственной кличкой, забросали камнями братья-славяне. Но это было потом. А на данный момент, я выпил за возвращенное кольцо.
– Москвич? – штурмовик по имени Лавр сунул мне полукруг искусанной закопченной колбасы. – Я и сам из Валдая. У нас тоже на острове знатный монастырь. Иверский Богородицкий. Бывал?
– Бывал.
– И на кой ты в монахи двинул, отче? – Лавр внезапно проникся ко мне сочувствием. – Курить вам нельзя, того нельзя, сего нельзя. И пост еще с картошкой без масла.
– Тэдиум витэ, – я затянулся, пуская символические обручальные кольца. Кольца из дыма таяли на глазах.
– Это как понимать? – заинтригованный Лавр даже подался ко мне, уронивши попутно осушенную братьями посудину.
– Не переводится.
– Николаиты у нас тоже не переводятся, – усмехнулся Перец. – Но мы их скоро переведем через понтоны. Слабо тебе, Лавр мою телку завалить?
Свернувши форменный рукав, Перец обнажил мускулистую руку с наколкой в образе какой-то обнаженной мессалины, посиневшей от холода.
– Кому слабо? – принял вызов атлетический Лавр.
– Филиппок, еще четверть, – окликнул Могила продавца. – Завали его, Перец. За тебя мазу держу, и банк три косых
Армреслинг как вид силового единоборства славянами уважался. Пока штурмовики суетливо делали ставки всякий на своего кумира, Филиппов принес бутыль объемом вполовину использованной. Видать, среди своих штурмовиков альбинос-убийца поддерживал общий режим.
– Ты, Филиппок, в ритуальную контору отослал бы кого из грузчиков, – посоветовал Могила продавцу. – Там Щукину плохо в уборной.
– Сей момент, – Филиппов отвесил поклон, и затоптался.
– Что еще?
– Эпидемия портвейна у них. Контору на карантин закрыли.
– А капитану век на полу лежать?
Озабоченного Филиппова куда-то понесло. Между тем, Лавр и Перец воткнулись локтями в скатерть и по команде сцепились. Штурмовики, разбившись на два лагеря общего режима, завели ораторию:
– Жми Перец!
– Лавр давай!
Точно в тумане наблюдал я за этим бакалейным поединком. Пришли мне сами собой на память слова Откровения: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу». Перец дожал менее опытного противника, и Могила сорвал приличный банк.
– Мой сегодня день, – сгребая прибыль, поделился Могила с радостью с проигравшими славянами.
– Жаль, что не Галашека.
– О чем ты, святой отец?
– Там пустырь. Там трудно будет жить.
– Это он за Николаитов мается дурью, – спустя рукава, догадался Перец-богатырь.
– Ясно, – кивнул Могила. – У нас там еще и братское кладбище. Ты сопку видел?
– Видел.
– Трудно жить, умирать легко, – Могила качнулся, изогнулся, и соскользнул со стула, точно белая анаконда перед броском. – Ходи за мной, Перец. Инкассацию в магазине делать пора. Сначала в продуктовый. Ты тоже с нами, Лавр. А ты, святой отец, жди нас. Вернемся, я пропишу тебя в казармы. Только на водку не налегай. Водка здесь коварная. Прямо из цеха.
Букмекер и его бакалейная лавочка покинули магазин. Я же остался в компании братьев-штурмовиков.
– А почему, славяне, мы болеем за арийский клуб «Нюрнберг»? – спросил я у них, в основном адресуясь к штурмовику с полной шапкой огненно-рыжих волос и золотистыми бакенбардами. Я принял их за знаки отличия. Вроде, как за лычки.
– А потому, святой отец, мы болеем, – обстоятельно растолковал мне рыжий
суть явления, – что арийцы тоже славяне. Просто они еще не знают об этом.
– А евреи?
– И они, – заодно с комаром на толстой багровой шее в складку рыжий прибил мой иронический запрос. – Все, кроме женщин и детей. И кроме всех поедающих кошерно.
Его тираду я уже не воспринял как противоречие. По утверждению сюрреалиста Андрэ Бретона «существует некая точка духа, в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия». И как раз я достиг этой заветной точки, накатив очередную порцию «Rosstof». Цеховое зелье нагнало в меня агрессии, безумной хитрости и до блеска прочистило ствол головного мозга. Я готов был расстрелять из него хоть роту штурмовиков. Но я нацелился только на одного. Это был штурмовик со шрамом. Действовал я решительно и успешно. Определив расстояние до цели, я одолел его, и отозвал штурмовика в сторонку. «Согласно теории практики, – подумал я, уже не воспринимая свою мысль как явное терминологическое противоречие, – штурмовику со шрамом, униженному ради меня племенным вождем, я должен внушать страх и трепет. А если еще не внушаю, то внушу».
И я стал задавать штурмовику вопросы. Мои вопросы были важнее, чем ответы на них.
– Тебя как звать?
– Агеев.
– А звать как?
– Василь.
– Уверен?
– Так точно.
Военные ответы были важней, чем гражданские.
– Ты хочешь выйти на свежий воздух, Василь?
– Это куда?
Ответы и вопросы утратили смысл. Но, зато, приобрели направление.
– В сортир. Гусиным шагом.
– Гусиным отказываюсь. Братишки засмеют.
– Правильно. Иди обычным, Василь. Чтобы не засмеяли.
Штурмовик со шрамом скрылся в уборную. Я проследил за ним. Агеев уставился на труп капитана в луже крови. Я запер дверцу изнутри на ржавую задвижку.
– Ты хочешь занять его место, Василь?
Он промолчал. Его молчание я воспринял как знак отказа.
– Тогда снимай одежду, Василь.
– Совсем?
– Со всем, что у тебя там есть.
– Мы будем любить друг друга? – Агеев стал поспешно разоблачаться.
Я тоже не заставил себя упрашивать. Тогда я еще не знал, что в славянском ордене мужская любовь только приветствуется. В отличие от соития с женщинами. Соитие с женщинами есть акт содомии, свойственный только николаевским хлыстам, зеленым подпольщикам и обкуренным готам. Агеев, застенчиво прикрывая чресла свои ладонными черпачками, томился в ожидании любовных утех.
– Отвернись, Василь.
Агеев по-военному через левое плечо развернулся к раковине. Я быстро напялил его комбинезон, натянул высокие черные бутсы, повесил через плечо его сумку с консервами, нахлобучил суконный картуз и, таким образом, решил проблему конспирации. Агеев обернулся на скрип задвижки.
– Мы разве не будем любить друг друга?
– Возлюби врага твоего, штурмовик Агеев, ибо друзей любят и мытари, – наставив его на путь истинный, я покинул отхожее место. Агрессия и безумное коварство метались во мне как малярийные пациенты. А низкое и высокое уже мною не воспринимались как противоречия, когда я нащупал в кармане комбинезона заточенную отвертку. Холодное оружие штурмовиков. И я захотел им немедля воспользоваться. Промедление было смерти подобно. Быстрота подобна жизни. Я быстро достиг прилавка, за которым Филиппок подсчитывал дневную выручку.
– Сколько? – спросил я, налегая на прилавок.
– Уйди, святой отец, от греха.
Заточенной отверткой я забил тысячную банкноту в опасной близости от чистых ногтей продавца. Точнее, между его растопыренными пальцами, накрывшими казенные деньги.
– Теперь я привлек твое внимание?
Всегда хотел произнести эту реплику. Случай не подворачивался. Но Филиппок доказал мне, что мы с ним одни фильмы смотрели.
– Плохая мысль, – парировал он мою чужую реплику своей, и тоже не собственной.
С точки зрения критики грязного разума, он был прав. Но мысль ограбить этот сволочной магазин родилась у меня при полном отсутствии всяческого контроля со стороны рассудка. А значит, и я был прав согласно Бретону. И это отнюдь не воспринималось мной как противоречие.
– Сколько здесь?
– Сто двадцать тысяч. Меня славяне уволят.
– Я тебя раньше уволю. Я тебе отвертку в глаз воткну.
– Сто двадцать шесть.
– Уже лучше, Филиппов. Честность украшает мужчин. И две литровых бутылки «Rosstof».
Пока Филиппок за счет заведения выставлял мне бутылки, я смел в сумку с консервами сто двадцать пять тысяч. Испорченную отверткой купюру я оставил на прилавке. Я все равно не мог ей воспользоваться. По испорченной купюре меня легко могли вычислить анархисты или штурмовики. Этот факт лишний раз подтверждал мою расчетливость и хладнокровие, обостренное алкоголем.
– Могила тебя на ремни порежет, – пообещал Филиппов, провожая уложенные мною в сумке дополнительные литры.
– Аминь, – закрыл я тему, и отвернулся от прилавка.
Но как-то я пропустил, что в магазине опять восстановилась кромешная тишина. Все штурмовики, сколько их осталось, наблюдали сосредоточенно за моими действиями. Только Хомяков с очкариком, отгородившись кожаным портфелем от реальности, делали вид, что ничего не происходит. Наивно было с их стороны. Реальное и воображаемое больше не воспринимались как противоречия.
– У кого есть военные вопросы? – обратился я к штурмовикам.
Вопросов не возникло. Вооруженный налет для этой банды являлся предприятием вполне естественным. Даже если грабили их собственный магазин. Старшие разберутся. Инициатива наказуема. Возможно, я потрошил кассу по предварительному сговору с Могилой. Или еще с кем. И, вообще, лучше отстояться, чем в крайние пойти.
– «Нюрнберг»! – я вскинул руку, щелкнул каблуками и отвалил из магазина.
Деньги ордена мне были без надобности. Я просто как-то хотел гибель капитана Щукина отметить. Я бы ее отметил казнью Могилы, но кишка у меня была тонка. Снаружи я застал Вику-Смерть, летавшую на старых детских качелях и под зонтиком ожидавшую манны небесной. Вика-Смерть грациозно спрыгнула и расправила шаровары. Интересная женщина.
– Еще сердишься? – Виктория остановилась подле меня, беззаботно вращая раскрытый зонтик, пунцовый от воды. В прошлом зонтик ее, верно, был розовым. Хотя какая разница? Прошлое и будущее уже не воспринималось мной как противоречие.
– Ты же знаешь, я Рыбы по Зодиаку. Моя сущность жертва.
– Ну, пойди, и принеси себя ей.
– Ладно, ты же знаешь меня.
– Я спешу.
– Что у тебя на уме? Ты же знаешь, я – дамба.
– Отвали.
– Все еще злишься? В славянский Орден поступил?
Я достал из кармана отвертку, и проткнул ей зонт. Она покорно развернулась на высоких каблуках и застучала прочь по дорожке из битого силикатного кирпича. Еще утром на тачку этого кирпича я мог свободно обменять свои штиблеты.
«С отверткой хорошо получилось, – решил я, обыскивая амуницию. – Надо будет, еще раз попробую. В Казейнике все понимают язык напильника и заточенной отвертки. С полуслова. Даже Вика-Смерть». Наконец, я разыскал трофейную пачку, сложил корабликом ладони, чтобы укрыться от косого дождя, и прикурил.
А тут и Хомяков из магазина пожаловал.