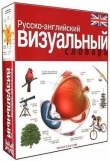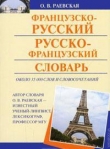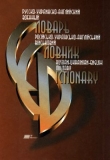Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
СЕМЕЧКИН И Я. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Правдоподобие хуже обмана. А чем хуже? Тем, что есть оно средство для достижения цели. А какой цели, если правда есть цель сама по себе? Будучи 18-ти лет от роду я посмел предположить, что правдоподобие есть средство для замещения правды низким вымыслом. Это случилось в Советской армии. В короткий период борьбы офицерства с дедовщиной. Тогда я узнал, чем борьба отличается от ее имитации. Это когда офицерство как бы кинуло дедовщину через бедро, и как бы нанесло ей сокрушительный удар локтем в горло. Довольные зрители аплодировали. Потом среди писсуаров дедовщина проделала все это со мной. Только без «как бы». И без аплодисментов. Ибо зрители уже по домам разошлись. Будучи 24-х лет от роду я посмел утвердиться в своем еще робком предположении. Это случилось в короткий период борьбы Коли Семечкина с ондатровыми шапками. Это когда Семечкин как бы ударил ондатровые шапки по яйцам и как бы сунул их шапками в очко. Зрители в моем лице аплодировали. Потом в психиатрической лечебнице кожзаменители бойко проделала все это с Колей. Только без «как бы». И без аплодисментов. Ибо зрители в моем лице декламировали отважные стихи из цикла «Штиль» интеллигентным еврейским девушкам. Зрителям аплодировали. Когда я осознал разницу между тем, что есть и что как бы есть, я решил покинуть мое Отечество. Мое Отечество тогда еще с заглавной буквы писалось. Или уже. После Федора Тютчева. Строфу Тютчева полагаю уместным напомнить во всем объеме: «И дым отечества нам сладок и приятен!», – так поэтически век прошлый говорит, а в наш – и сам талант все ищет в солнце пятен, и смрадным дымом он отечество коптит». Прошлый век, само собой, 18-тый. Державин с «Одой» государыне Екатерине номер 2, Ломоносов с его восторгами Петру номер 1. А смрадным дымом коптили отечество, само собой, Пушкин, Гоголь и Достоевский. Я тоже коптил его с пионерских лет. Но дыма тогда уж не было. Оставался «Дымок». Сигареты без фильтра. И вот я решился покинуть мое Отечество. Дым американских сигарет с фильтром был мне приятней. Коля Семечкин решил последовать. Или он решил покинуть, а я решил последовать. Но как мы у кожзаменителей оба уже состояли на учете, ондатровые шапки не пустили нас рыбаками на Дальний Восток. Дальний Восток был тогда самый Ближний Восток для пересечения границы. Способов пересечь у нас осталось два: короткий способ и длинный. То есть, угон самолета, или горное паломничество. Шансы обоих стремились к нулю. Коля спрятал способы за спину. Я ударил по руке, где скрывался длинный. Далее выбиралось место пересечения. Крым отпал. Переплыть Черное море смог бы только мой приятель армянского производства Игорь Нерсесян. Но даже он бы не смог. Переплывать армянину к туркам, все равно, что переплывать еврею к иранцам. Был Кавказ. Один. В вышине. Были Карпаты. Много. И много ниже. Мы выбрали Карпаты. Направление: граница близ Ужгорода. Пункт прибытия: Польша. Семечкин познакомился в Москве с кем-то из репортеров, знакомых с Анджеем Гвяздой, фигурой в движении «Солидарность». Кто-то из репортеров оставил адрес. Обещал помочь с устройством переброски через портовых рабочих из Гдыни в ФРГ. Запаслись. Поехали. Пошли. Девять суток через Карпатские горы. Девять бутылок «Старки» в рюкзаках. Воду пили из грязных речушек. Полукруг черного хлеба скис. Грибы на палочках жарили. Ягоды в рот собирали. Девять счастливое число. На девятые сутки нас с Колей спасли пограничники. Заметили с вертолета. Передали другим пограничникам. Другие передали нас кожзаменителям. Те, суки, разумеется, не поверили, что мы с Колей заблудились в горах, но поверили. Наша история была правдоподобна. Любые правдоподобные истории нравились как ондатровым шапкам, так и кожзаменителям. Но мы потерпели поражение. Мы воротились в Москву, и там остались приятелями. Через меня Семечкин завел знакомство с Викторией Гусевой и еще отрядом женщин, водившим со мною тогда приятельство. Отряд моих мужчин-приятелей Колю не принял. Непосредственная инфантильность и какое-то врожденное блаженство Семечкина вопреки его уму и здравости суждений обращала Колю в чужого. Он слишком хохотал на иронию, слишком огорчался пустякам, и слишком восторгался разными штуками. Тогда в чести был сдержанный скептицизм. Язвительность без мимики. Мое поколение интеллектуалов к середине 80-тых стало подлинными декадентами. Зеркалами, вольно или невольно отражавшими, упадок хозяйства в штанах социализма. Его импотенции. Модно было презирать Евтушенко с Рождественским, и цитировать Хармса, Бродского, Довлатова. В принципе, адекватная оценка литературы. Для нас уже не было авторитетов, кроме, собственно, текста. Для Коли Семечкина, разумеется, тоже. Но повторяю, восторженность его не вписывалась в распитие сухого вина. Ему более подходила компания, лакавшая портвейн. Мне за мою оригинальность без акцентов прощалось многое. Я мог пить в разных компаниях. Я одевался, как мне нравилось. Я жил неопрятно и без оглядок на все поветрия.
«Ты самый смелый пешеход в городе», – говаривал мне Боря Ардов, Царствие ему Небесное. Я сочинял забавные стихи, фаршированные метафорами яркими и точными. Я имел узкий круг поклонников, но подражателей не имел. Оппонентов сколько угодно. Среди наиболее верных моих поклонников был и Коля Семечкин.
Коля так же пил сухое вино и портвейн, так же одевался, как Бог на душу положит, но ему не прощали. Коля был неудачник даже более чем Schicklgruber. Фортуна избегала его, точно из принципа. В творчестве, в семье и в работе успех изменял Семечкину точно молодой гомосексуалист похотливому нищему долгожителю. Но у Коли был редкий дар, которого лишены были успешные конформисты. Он умел радоваться мелочам. Лишенный ярких достоинств и недостатков, он был среди прочего лишен и зависти. Это дало ему возможность наследовать крупнейшее духовное состояние. Как и Борис Александрович он легко усваивал языки. Он почти свободно читал на испанском, польском, чешском, и даже португальском.
Он переводил мне «Всемирную историю бесчестия» Хорхе Луиса Борхеса, невольно схлопотавшего в 76-м году чилийский орден, как решили ондатровые, от верного почитателем Аугусто Пиночета. За такую «поддержку антинародного» режима кожзаменители запретили Борхеса. Кнут Гамсун, открыто поддержавший Schicklgrubera и его норвежскую пешку Видкуна Квислинга, кожзаменителями был разрешен. Кстати, сын Гамсуна с благословения папеньки мужественно сражался в составе дивизии СС «Викинг» против Красной Армии. Такая избирательность шапок не парадокс. Это заурядная халатность. Любой халатности шапок я всегда симпатизировал. Как и писателю Гамсуну. А христианину Гамсуну Бог судья. Что еще о Коле сказать? Семечкин был убежденный атеист. И Семечкин был жертва.
Вика-Смерть, также рожденная под знаком Рыб, в прежней жизни говорила: «Мы рыбы. Наша сущность жертва». Думаю, зодиакальные секторы здесь не причем. Жертва сущность кого угодно. Стоик платит за принципы, циник за их отсутствие, 1,5 миллиона армян, перебитых турками за то, что они армяне, 69 пассажиров за ошибку швейцарского диспетчера, швейцарский диспетчер за то, что он ошибся, а Коля за то, что Семечкин. И это есть промысел Божий. Я не верю в мистику, параллельные миры, артефакты, черные дыры, кротовые норы, зодиакальную зависимость, и оторванную пуговицу от плаща в недрах моей квартиры. Я лишь допускаю их существование. В Иисуса я верю. И верю, что Иуда его предавший оказался из близкого окружения. И в то, что единственный способ творческого познания мира есть логика. И что логика есть во всем. Просто мы не знаем об этом. Пример. Коля Семечкин состоял на учете в психиатрическом диспансере города Одинцово. Как-то лечащий врач попросил его зайти. Вместо врача Колю встретили два кожзаменителя. Они сурово потребовали, чтобы Семечкин тотчас написал подробно о моих связях с империалистической прессой. Лучше бы с конкретными именами и фамилиями. Когда Коля отказался напрасно марать бумагу, два кожзаменителя сурово предупредили, что вынуждены отправить его на принудительное лечение. Они просили Семечкина завтра же быть с паспортом в их медицинский кабинет, где на него наденут смирительную рубаху и далее он отправится в дом скорби. В случае противления насилию злом (Коля забудет паспорт, или проспит часы приема, или скроется от правосудия), его объявят в розыск. Потом найдут и посадят в палату для буйных помешанных. Хочу заметить, что Коля не знал о моих связях с империалистами. Зато он знал о свирепости кожзаменителей. Он покинул диспансер, и сразу позвонил мне на конспиративную хату в Марьиной Роще, где я давно готовился перевернуть ондатровые шапки, прикончив антикварное политическое бюро. Коля очень нервничал. Мы встретились. В два-три логических приема я успокоил его. Итак. Кожзаменители почему-то не взяли с пациента подписку о конфиденциальности их содержательной беседы. Почему? Потому, что Коля, выйдя из диспансера, позвонит мне и подробно расскажет содержание беседы. Чтобы я знал, что они знают о моих связях с империалистами. Кожзаменители могли бы вызвать меня, и сами сообщить мне о моих связях. Но тогда я попросил бы их предъявить мне официальное обвинение. А предъявить мне официальное обвинение они могли только с доносом, под которым бы стояли имя, отчество и фамилия доносителя.
Серьезного информатора по таким пустякам как я кожзаменители открывать бы не стали. «Это непрофессионально», – как заметил бы граф Болконский. Далее. Семечкина кожзаменители могли сразу отправить в дом скорби. Откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Катить с Лубянки в Одинцово еще раз? Вывод. Коля им не был нужен. Я тоже не был им нужен. Им нужно было только мое знание об их знании. Такой обмен знаниями насторожит меня и вынудит отказаться от дальнейших контактов с империалистами. Вынудит штурмовать Кремлевские стены самостоятельно. Брать почту, телеграф и тому подобное в одиночку. Коля успокоился. Логика. Чтобы он совсем успокоился, мой друг Митя Горбунов, уступил на неделю Семечкину свою конспиративную профессорскую квартиру на Большой Ордынке. Сам он тогда проживал с семьею на даче. А в шести комнатах Митиной квартиры было, где спрятаться. Через неделю Коля вернулся в Одинцово. Через день его вызвала в диспансер лечащий врач и сообщила, что ее отпуск закончился. То есть, сказала достаточно. Осталось внести ясность, уважаемый читатель, в мои связи с империалистами. Я не был диссидентом. Нет у меня прошлых заслуг перед нынешней демократией. Мое стихотворчество было аполитичным, и только. Мои декадентские стихи не публиковались исключительно потому, что были чужды ондатровым шапкам.
Таких как я в стране было миллионов 20. Но печататься я желал, как и прочие. И, как прочие, я желал, чтобы с моим творчеством ознакомился Иосиф Бродский, тогда уже проживавший в Нью-Йорке. Рукопись я передал молодой актрисе кино и жене профессора Берта Тодда, личности известной в узком кругу советских литературных эмигрантов. Рукопись я передал ей рано утром перед посадкой на самолет в аэропорту «Шереметево-2». Она улетала к супругу на ПМЖ, юная красавица, по-моему, узбечка. Издали я видел, как она прошла таможенный досмотр. Она улетела. И я никому не сказал, что отправил рукопись вражескому профессору, активно помогавшему с публикациями в буржуазных русскоязычных издательствах обреченным дарованиям. Признаюсь, я не рассчитывал на успех.
Так. Жест отчаяния. За день до отлета молодая актриса мимо прочего сообщила мне, что гостил у профессора именно в ту пору Евгений Евтушенко. И вот, когда кожзаменители дернули Семечкина, я, грешным делом, на Евтушенко подумал. Просто больше не на кого было грешить. Как я был наивен. Минуло семь лет. В журнале «Столица» публиковались главы из романа Эдуарда Лимонова «История его слуги». Герой романа сообщил мне, что именно американский профессор Берт Тодд был информатором и ЦРУ и, заодно, кожзаменителей.
На профессора я напрасно клеветать не желаю. Возможно, он был «как бы» информатором. Возможно, в торговле за большие таланты он чем-то был вынужден жертвовать. Мелочью вроде меня. А 5-тый отдел кожзаменителей «как бы» работал с безобидными идеологическими диверсантами. Имитировал борьбу. К середине 80-х в моем отечестве сохранялось только правдоподобие борьбы. Уже и на Лубянке наказывали только самых радикальных борцов за права свободных личностей. Уже и сами сотрудники 5-го отдела в буржуазных джинсах гуляли по выходным. Литературное инакомыслие в худших случаях наказывалось остракизмом. Гениальных предателей советской родины гнали в империалистический ад. Одно это уже многих гениев соблазняло уходить в предатели. Но я уже осознал своим отечеством синтаксис Гоголя и Пушкина.
Иосиф Бродский уже на вручении динамитной премии за литературу произнес речь во славу русского языка и с благодарностью ему за доставленную радость творчества. С Николаем Семечкиным к тому времени мы виделись редко и вопреки законам физики движения тел. Мы с Колей, рожденные 8-го марта, были пресноводными рыбами. Но разных видов. Оба, наделенные ангелами рыбного созвездия мнительностью, ленью и, творческой жилкой, по-разному использовали мы дары свои. Я плыл вверх по течению. То есть, оставался на месте. Надобно иметь серьезный талант, или одержимость, или особую карму, чтобы двигаться вверх по течению. Надо создать внутри основного русла, по коему река жизни стремится только вниз, личное течение. Как Набоков. Или Рахманинов. Или Тарковский. Я брал упорством. Бешеным вращением хвоста. Так я оставался на месте. А лень помогала мне завоевывать женщин, заводить друзей и зарабатывать легкие деньги. Лень и любопытство. Женщины и друзья завоевывались искренним желанием вникать в их проблемы. Деньги пошли, когда я обучился все делать быстро и качественно. Быстро, чтобы меньше работать. Качественно, чтобы не переделывать работу. Семечкин поплыл вниз по течению, высматривая тихий затон. Лужу с узким горлом, куда можно было скользнуть и затаиться. В затоне он мог вообще ни черта не делать. И Коля этот маневр выполнил блестяще. Но, оставаясь на месте, я находился внутри течения.
Я видел, как все вокруг менялось. Именно как это все менялось. Я оставался каждый раз в свежей воде, обогащенной кислородом. И я дышал полными жабрами. Семечкин едва дышал. Застоялые теплые воды лужи позволяли ему шевельнуть плавниками или хвостом, но не более. Коля варился в собственном соку. Его застой оказался долговечнее застоя эпохи. Благодаря любопытству и лени, Семечкин выжил. Ему лень было нервничать, отвечать на оскорбления и следить за собой. Из продуктов Коля ел всякую гадость по грошовой цене. Пил, чем угощали. А духовное питание доставалась ему бесплатно. Плодами чужого творчества он умудрялся приторговывать, и так он жил в своей тухлой заводи, пока не нагрянула дорогая его юношеским идеалам демократия капиталистов.
Но демократия обошлась Коле слишком дорого. Коррумпированная, жадная, преступная демократия ондатровых шапок и кожзаменителей не желала делить с Колей Семечкиным даже ваучеры. Кожзаменители и ондатровые шапки опять всех надули. Не способные что-то создать, кроме того же правдоподобия. Они имитировали борьбу на политическом татами, разделив под ковриком боевых искусств западного производства все жирные куски. Они имитировали раздачу земли крестьянам, хлеба рабочим и мира солдатам. Все это дело обслуживала имитация свободной прессы и прочих средств информации. В такой среде легко народилась имитация культуры: муляжи книг, песен и живописи. Медный Петр ваятеля Церетели, много дороже и крупнее медного Петра ваятеля Фальконе украсил правдоподобную Москву, будто коровьи рога охотничий домик. Вроде бы лицензию кто-то выдал на отстрел, вроде бы кого-то завалили сообща и вроде бы даже трофей. Только и дамские взгляды от него почему-то все отводятся. Странно. Росту в медном Петре ваятеля Церетели 98 метров. А, сказывают, бабам нравятся высокие мужики. Но 98 метров цветного металла сущий пустяк. Что главное, ондатровые шапки и кожзаменители разрешили Богу из эмиграции воротиться. Типа, как Солженицыну. Чтоб он воровать и пьянствовать всех разучил. И Россию благоустроил. Но Христос не изгнанник. Христос Царь Небесный. Его только в сердце можно вернуть. Ибо сказал он в Нагорной проповеди: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Божие» А земное царство без царя в голове даже Солженицын обустроить не мог. Ибо царство правдоподобия обустроить могут разве кожзаменители, да ондатровые шапки. Но как выше было помечено, ничего у них не получилось. Дом их разделился в себе. Эффективного мелкого собственника раздавила крыша. Обещанный средний класс задохнулся под бременем нищеты. Да и мозги за бугор утекли. «Если текут, это не мозги, а дерьмо», – саркастически отозвались гордые нищие патриоты, среди каких оказался и друг мой Саня Папинако, даже не вспомнивши, что цитируют они персону, чья теоретическая деятельность вся почти случилась именно за границей. За 14 благополучных лет жизни в Лондоне, Париже, Цюрихе и Берлине, где в основном и сочинил он свое коллективное лжеучение. В России все проверялось на практике и на немецкие пфенниги сим первоисточником за гораздо меньший отрезок. И вот странно как-то завелось еще с династии Романовых-Гогенцоллернов, что любят россияне друг другу наделать гадостей именно за немецкие пфенниги. А все то, что утекало из отчизны, когда не могло прокормиться редкими своими талантами, как раз это были мозги. Уверяю тебя, читатель. Кое-кого из мозгов я лично знал. Вместе с мозгами утек и Семечкин. Как зубы на полку положил, так и принял мужское решение. Дал открытую телеграмму на имя съезда чьих-то депутатов о добровольном отказе от российского гражданства. Ондатровые шапки уже перекроили себя в суконные добротные кепки, кожзаменители с радостью заменились натуральной кожей испанской выделки. И Семечкину никто уже не препятствовал делать глупости. Семечкин с чистым паспортом гражданина Вселенной назанимал иностранной валюты, и выбрал себе с пятнадцатью долларами в кармане постоянное место жительства Сейшельские острова. Где без сотни тысяч долларов США в банке ты, уважаемый читатель, даже разрешения на посадку кокосовой пальмы не получишь. Самолет с будущим сейшельцем Колей Семечкиным посадили в аэропорту города Виктории, но из самолета его не выпустили. Свою Викторию отпраздновать Коле не довелось, а довелось ему притечь обратно в отечество с маленькой буквы на положении иммигранта. Без права работы и прописки. В каком-то смысле можно сказать, Семечкин последним утек и первым притек. За ним потянулись другие, более благоразумные мозги, сохранившие подданство. У них, у большинства, так же не сладилась жизнь за бугром. Переставши здесь, и на чужих просторах они шибко не заработали. Теснота. Мелочевка. Поля деятельности за бугром подходящего не отыскалось. И многие вернулись с поля, перефразируя классика. И любезный режиссер Володя Мирзоев. И замечательный художник Володя Гагурин. Хазанов, которому не над чем уже по большому счету смеяться, только рыдать, подъехал. Как-то стали тихонько Россию благоустраивать фрагментами. Искусство стали возвращать эпизодически. Вкус. Чувство подлинника. Стиль. Избирательное зрение. В искусстве без такого избирательного зрения хаос. Поток сознания. Назвался грузом, грузи по теме. Иначе нанесешь массу лишнего, мой милый.
Как Атлантический прилив. Кому потом охота бродить по колено в спутанных водорослях, искать круглый камешек? «Фильтруй базар», – сказал мне как-то новый русский мыслитель. Очень, заметьте, точная рекомендация. Ни в чем не уступит максимам старого французского мыслителя Ларошфуко. По теме.
Коля совсем потерял себя, исчез, и нашелся мною на поприще совершенно чуждом ему. Зато, опять в застойных водах, где по-нашему с ним обоюдному мнению две духовные единицы уже не компания, а толпа. По моему обоюдному мнению коптить в Казейнике отечество смрадным дымом и Семечкину не стоило бы. Здесь не то, что отечество. Здесь рыбу коптить становилось опасно. И очень я надеялся, что Болконский опередит штык-юнкера. И товарный вагон каким-то манером унесет еще Семечкина от правдоподобия духовной жизни. Добавить нечего. Кроме, как перечислить умные слова Николая Александровича Бердяева со счета Льва Николаевича Толстова на счет Коли Чревоугодника: «Христианином он не сделался, и лишь злоупотреблял словом христианство. Евангелие для него было одним из учений, подтверждающим его собственное учение».