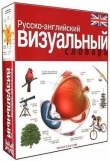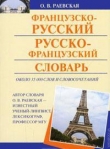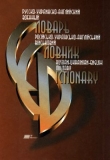Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
– Скажешь Могиле, мол, епископ за жизнь с тобой разговаривал. Скажешь, епископу тоже пожить охота. Скажешь, он, епископ, за девчонку болеет. Но и в заложники ему кисло, – дал я Перцу последний наказ.
– Мне бы денатурата граммов четыреста.
Унтер вопросительно посмотрел на Митю.
– С мужем напьешься, – Дмитрий Кондратьевич отошел к рулевому и поднял заскучавшую команду. – По местам стоять! Малый вперед!
Спасатели рассредоточились по местам. Застучал, прочихавшись, двигатель.
«Что называется отвратительный климат, – вяло в мозгу моем шевельнулась ассоциация общества тайных алкоголиков – Двигатели на катерах простужаются. Ну, и как тут живому человеку без водки?». Близился институт. Росло напряжение.
– Как достигнешь, резко прибавь, – наказал Митя штурману. – Загнешь за угол, скинем лодку и сразу дашь задний ход.
В носовой части Матвеев накачивал резиновую лодку.
– Когда вор ко мне поднимется, Перец дверь тебе откроет, – обратился я к Полозову. – Дальше ты смотри не подведи меня, Дмитрий Кондратьевич. Очень прошу.
– Рискуем же мы, епископ. Могила на мушке тебя будет постоянно держать. На обморок не рассчитывай. Он падаль крепкая.
– В том и смысл, Дмитрий Кондратьевич. Меня и люк на одной мушке Могила не удержит.
– Рискованно. А если он тебя шлепнет за левый марафет? Опять же, если кто нашумит раньше срока?
– Если так. Считай меня оптимистом.
Мне и прежде бывало страшно. Но так страшно мне с отрочества не было, когда сидел я с подобным альбиносом за партой в классе восьмого уровня. Подобного альбиноса боялись наши могучие девочки. Подобный альбинос, без причины и походя, мощным ударом в горло чуть не убил на моих глазах нашего комсорга, отличника и спортсмена Костю. А могу перепутать Костю. Я не видел его 11.740 дней. Подобного альбиноса, названного Кириллом, я вижу до сих пор. И его имени я не спутаю. Красные веки, белые брови и ресницы, кожа, лишенная пигментации, и под нею мускулы хищника. Когда я сплю, он порой заглядывает. Здесь уместно признать, что меня подобный альбинос не бил и не убивал. Альбиносы ко мне снисходительны. Возможно, им нравится, что я боюсь их. Возможно, им нравится, что я мужественно прячу свой страх. Что я дерзок с ними, и хвост не поджимаю в их присутствии как большинство. Но за год в обществе подобного альбиноса я усвоил урок, забыть который глупо: если ты встал у него на пути, будь готов к тому, что от смерти не посторонишься. Впрочем, это не то, чтобы я окончательно труса праздновал. Праздник закончился, когда мы с Дмитрием Кондратьевичем в сотне метров от здания развели из баклаги еще по двести грамм. Когда катер у самых окон резко добавил скорости, заложил вираж и оказался вне поля зрения Могилы, спасатели бросили лодку на воду. Я надел помеченный крестом брезентовый ранец, другим крестом осенился, и спрыгнул в лодочку. Назад я не оглядывался. Только слышал, как отходит катер. И только стремительно греб к водосточной трубе на углу института. Не то, чтобы я куда-то опаздывал, а я просто гнал себе, и вместе гнал от себя рисовавшиеся в моем воображении мрачные картины. И даже, пожалуй, не картины. Картин у меня вовсе не было. Поскольку я их гнал от себя. Но больше всего я гнал развязку. Чтобы все скорее закончилось. Иначе, как лихорадочными тогдашние мои действия не назовешь. Привязав лодку, я забрался на крышу по водосточной трубе. Под защитой керамического пегаса и грифа с опавшими крыльями я вдруг успокоился. Я неторопливо закурил и осмотрел горизонты. Вид с крыши терпел изменения. Сплошная полоса дамбы пропала за клубящимся маревом в полутора километрах от института. Границы Казейника со всей очевидностью приближались. Я пошел вдоль крыши до места, откуда слышны были отчетливо переговоры между Могилой и командиром спасательной экспедиции. Заглянув через парапет, прямо под собой тут же увидел я коротко стриженый белый затылок альбиноса.
Я запросто мог дотянуться до Могилы. Я свободно мог оглушить его любым тяжелым предметом. Ведь была у меня в кармане коробочка с подшипниками.
Я не воспользовался ей. Малодушие? Пожалуй. В приступе ярости я способен сокрушить венский стул. Проломить затылок альбиноса в приступе робости я не способен. Я не отчаянный шеф охраны бургомистра. Я бургомистр. В лучшем случае писатель.
– А где наш епископ? – орал Могила вниз, перебивая шум дождя. – Он меняется на девчонку, или раздумал?
– Он в трюме! – крикнул с палубы катера Дмитрий Кондратьевич. – Твою шкуру сучью отпевает!
– Это можно! – орал Могила. – Перец, ты как там? Целый?
– Порядок! Только почки отбили! Кровью с утра мочусь!
Перец держался бодро. Отвечал с фантазией. Обещанное право на жизнь пьянило его крепче спирта.
– Давай мне его сюда, вшивый анархист! – орал Могила. – Инструкция тебе короткая! Четверо лохов тащат наверх продукты с Перцем! Там обменяемся на бабу Зайцева! Если что, я всех положу! Ты понял меня?
– Я понял, – отозвался Митя.
– И скажи епископу, его снегурочка зашила дыру мне конкретно! Теперь мне повар нужней! Или я этой сестренке милосердия тоже дыру между ног зашью! Скажи, у Могилы долг юшкой красен!
Дальше я слушать не стал. Я направился к люку, ведущему в студию. «Повар так повар, – согласился я по ходу на вакансию. – Приготовлю ему реальную поганку. Если он сразу мне в глаз не выстрелит. Тогда поганка отменяется».
Люк был не заперт, о чем я и толковал еще на пристани командиру спасателей. Весь наш план изначально строился на этом. На внезапности моего появления во вражеском тылу. Я спустился по дюралевым ступенькам, сбросил брезентовый ранец и снял с крючка фартук Шагаловой. Потом я повязался фартуком, достал из ранца плоскую аптечку, оттуда стеклянный шприц, и навинтил на него иглу. Потом я положил медицинский инструмент в эмалированную кастрюлю. Потом наполнил кастрюлю водой и включил две конфорки. На одну шприц варить поставил, на вторую медный ковшик, заправленный молотым кофе из баночки, на которой изображены были четыре сразу ратуши. И каждая под надписью «Рига». Я тогда еще подумал: «Зачем в Риге четыре одинаковых ратуши?».
То есть, Бог знает, что вертелось в уме. Ибо весь я обратился в слух, и тело сверху до низа пронзал горячий стержень. Никогда прежде и после я не стоял так прямо у плиты. Я человек от рождения сутулый.
Хлопнула стальная дверь. Первые возгласы прозвучали невнятно. Потом стало тихо. Я погасил желание снять обувь, дойти до люка и подслушать, о чем внизу Могила с Перцем совещаются. Или за что они водку пьют. Вскипевшим кофе я наполнил большую чашку, и чуть не обварил себя.
– Ты куда пропал, святой отец?
Альбинос уже был за моей спиной. Но чашку я все-таки удержал и не обернулся.
– Я не пропадаю, Могила. Тебе повар нужен. Я повар.
– Удивительная вы личность, падре! Как это нас в детском доме учили? Призрак бургомистра бродит по Европе?
– Ты, Могила, тоже со странностями.
Теперь я позволил себе обернуться, не глядя, впрочем, на Могилу, и как можно более твердо поставил чашку на стол. Присевши подле, я достал сигарету.
– Позвольте огоньку вам поддать, – Могила чиркну зажигалкой.
Я прикурил. Попробовал кофе. Могила улыбался. Возможно, он своей боевой жене так не улыбался. Он был определенно рад моему появлению. Он смотрел на меня, позабыв даже пистолет Макарова опустить. Или Щукина. Кого-то из них.
– Ты не в тире, Могила. Ты на кухне, – сказал я ему, затягиваясь. – Кофе будешь?
– Буду, падре! Все буду! – Могила сунул пистолет за пояс, и обнял меня бережно, будто склеенную фаянсовую вазу. – Водку буду! Ужинать буду с тобой! Базар вести буду с тобой!
– И с Перцем?
Могила покосился на кипящую кастрюлю.
– С Перцем я мужеложством занимаюсь, – возразил он беззаботно. – Тебе уже напели. И ты уже против таких сношений.
– Я не против таких сношений. Но я и не священник, ты знаешь.
– Знаю, падре. И это правильно, что ты здесь. Иначе бы тебя заглушили Митя с Гроссмейстером. Им твои реформы хомут.
Могила хлопнул себя для наглядности по загривку.
– А Князю великому сказали бы, что случилось у бургомистра обострение. Типа язва лопнула. Или белка сразила на боевом посту. Что на ужин?
– Как договаривались. Две склянки морфия в растворе. Больше нет.
Светлые зрачки его потемнели. Были бы темные, заблестели бы.
– Верил, что праздник с тобой мне, писатель, – Могилу понесло. – Показался ты мне. В автобусе не разобрал я тебя. Но после, когда я мусора заделал, показался ты мне конкретно. Есть в тебе что-то мутное. Ты как типа спящий вулкан. У тебя в копилке вроде как пепел, а под ним раскаленная лава булькает. И знай, что не заложник ты мне по жизни. Это Митяю ты заложник. Магистру твоему гнилому, продюсерам, издателям, критикам и прочей свадьбе на костях.
Пока его несло, я надел варежки Дарьи, снял кастрюлю с плиты и слил воду в раковину. Потом открыл брезентовый ранец, достал из него салфетки, достал резиновый жгут, и запечатанный цинковой пробочкой пузырек с питательным раствором, из каких делают капельницы. Этикетку Митя отпарил загодя. Цианида в его медицинском углу не нашлось, а снотворное действует медленно. Так мы прикинули с Митей: пока подействует, свою пулю я успею получить. Могила уже заткнулся, наблюдая пристально за моими приготовлениями. Я выложил теплый шприц на салфетку и взболтал пузырек.
– Сейчас только вмажусь, и пойду, выкину твою бешеную кошку за дверь. Могила в законе. Его слово крепче татарского первача, – поделился вор своими планами.
– Но я-то здесь?
– Нет. Сначала вмажусь.
Могилевский закатал рукав, и вытянул обнаженную руку.
– Если тебе нужнее повар, я останусь, Могила. Если тебе нужней сестра милосердия, она еще в залоге, а я пошел.
– Ладно. Мы не гордые.
Могила перетянул жгутом выше локтя левую руку, в правую руку взял шприц, пронзил иглой крышку, набрал в стеклянную трубочку питательный раствор, и надавил на поршень, выпустив лишний воздух. Обе руки у Могилы оказались тогда заняты, и это был мой шанс. Наклонившись к Могиле, я выхватил пистолет у него из-за пояса. Могила спокойно сделал себе укол, развязал жгут и посмотрел на меня. Глаза его были снова прозрачны и спокойны, точно воды Красного моря в октябре.
– Ты же не выстрелишь, падре. Слабо тебе выстрелить.
– Нет, – согласился я, отступив к плите. – Не выстрелю. Слабо мне выстрелить.
– Я так понимаю, глупо ждать прихода, – альбинос улыбнулся. – Что за бурду я вколол себе?
– Витамины.
– Зря. Не знаешь ты, падре, кто за тобой стоит.
– Я знаю, кто за тобой стоит, Могила.
Из люка позади Могилы уже выбрались Матвеев, Дмитрий Кондратьевич и еще трое спасателей. Я спрятал оружие в карман дождевика. Могила кивнул мне и медленно вытянул стилет из голенища.
– Значит, ссучился Перец. Встал на путь исправления.
Могила стремительно развернулся, но первым успел метнуть его же собственный клинок, извлеченный из Веригина, Дмитрий Кондратьевич. Клинок насквозь пробил сухожилие альбиноса. Могила, стиснул от боли зубы. Через минуту, связанный, он лежал на полу. Рот его Матвеев залепил горчичным пластырем, добытым в моей аптечке скорой помощи. Я спустился по лестнице на первый этаж. Узрев меня, подскочил с моего дивана Дарьи Шагаловой Перец.
– Взяли убийцу, ваше благородие?
Я, молча, прошел по тропинке между птицами, число которых значительно поубавилось, оттолкнул рисованных кумачовых драконов и попал в ателье.
Вьюн, туда-сюда вращаясь на гончарном кругу, потягивала пиво из банки.
Рядом с Вьюном я положил пистолет Макарова. Или Щукина.
– Только не спрашивай: «Ты в порядке?». Я без того себя чувствую героиней какого-то мыльного сериала.
– Но ты в порядке?
Мы дружно расхохотались. Состояние, названное катарсисом, выражается по-разному. Одни смеются, другие плачут. Мы с Вьюном были одни. Пока мы заходились от хохота, в свое ателье вернулась хозяйка с расколотой керамической птицей.
– Ничего смешного, – влезла в наш катарсис Дарья Шагалова. – Этот Могила, или кем он вам приходится, настоящий скот. Пересмешника испортил. Патефон зачем-то сломал. Зачем?
– Точно, – подтвердила Вьюн. – Настоящий. Искусственный скот меня бы не треснул сзади по куполу твоим пересмешником.
И мы, как давеча, расхохотались. Потому, что мы были одни.
Минул час. Катер со спасателями и спасенными швартовался к пристани, где мятежника поджидал уже целый взвод славянских карателей во главе со штык-юнкером Лавром. Дарья Шагалова осталась, вопреки настойчивым уговорам, в студии. Мой прогноз она игнорировала. Перец удобрял экипаж махоркой. Дмитрий Кондратьевич снизошел, и принял его в ряды анархистов. Черная коробочка с тумблером мне так и не пригодилась. Я подарил ее Полозову. Митя взвесил массивную коробочку на ладони.
– Что за механизм?
– Шариковая мина.
– И что с ней делать?
– На РГД-5 со мной обменяешься.
Пока встречающие наблюдали, как штык-юнкер вылавливает Вьюна, сиганувшего с кормы, Дмитрий Кондратьевич незаметно сунул мне в карман ручную гранату.
– Прикинь, – целуя невесту, бурчал обиженный Лаврентий. – Эти упертые бараны ссадили меня с катера.
– Но ты же всех там за меня в труху обратил бы, – Вьюн прижалась к его небритой щеке.
– Папой клянусь!
– Потому и ссадили. Я, Лавочка, и приличных людей там встретила.
– Ты только меня должна встречать. А я тебя.
– Замазано, – Вьюн поцеловала штык-юнкера в лоб.
Я догадывался, что Митя альбиноса Гроссмейстеру отдаст. Митя не настолько боялся врага своего, чтобы казнить его с предельной жестокостью. А Словарь боялся. Люди часто звереют от испытанного ужаса. Такова их природа. Такова наша природа. Повинуясь взгляду связанного по рукам и ногам альбиноса, я отодрал с лица его горчичник.
– Приходи на мои похороны, епископ, – Могила улыбнулся. – Хоть ни хрена ты не епископ. Ты даже и не монах. Но ты последний, кого хотел бы я видеть. Звучало двусмысленно. Однако же я отправился на казнь. Альбиноса похоронили в яме на пустыре за разбавленной речкой. Похоронили живьем. Таков был вердикт Гроссмейстера. Могилу точно кокон опутали колючей проволокой и засыпали негашеной известью. Затем вереница безучастных славян забросала Могилу камнями. Лицо Могилы до последнего сохраняло печать неукротимости духа, а кривая нитка разбитых губ выдавала скорее презрение к своим истязателям, нежели плотскую боль. Казалось, боли он вовсе не чувствовал, точно камень ударялся о камень при каждом следующем броске. Эмоции, испытанные мной от созерцания ужасной погибели альбиноса были так же противоречивы, как и обращенные ко мне его заключительные слова. Оно конечно. Собаке – собачья смерть. Жалости я не испытал. Зато вполне испытал я омерзительную тошноту и невольное уважение к безмолвному достоинству, с каким этот хищник принял мучительную смерть. Ее описание я посвящаю издателям звуков. Я сам горазд материться и стонать от банальной мигрени. Добавлю, что я отвернулся, прежде чем закончилась экзекуция. Меня таки вырвало под ноги спасателю Матвееву.
Он и сюда за мной притащился. Дмитрий Кондратьевич имел сведения, что в Ордене бездействует кто-то из агентов графа Болконского. Но если он клюнет на призыв Николы, и захочет в ангелы, то подрежет меня даже хоть и в братском окружении. Я не возражал. Я лишь полюбопытствовал, кто есть обещанная за живот мой Голубица, плоть истязающая.
– Гуляют разные легенды, – ответил Полозов. – Кто болта гоняет, мол, дева писаная. Кто божится, мол, промеж ног у нее огонь разведенный. Иные звонят, де, только ноги у нее разведенные, но там у нее оргазм без границ. Легенды, короче. Нет у хлыстов подобных краль. Селедки ржавые, пьянь, кликуши похотливые, у каждой берлога медвежья в панталонах. Но ходоки николаевские по бедности верят. И в любом случае, что бы ни болталось о деве порочной среди бабников, угроза тебе остается реальная. А Матвеев опытный боец. Чутье у него на шахидов.
И, как уже было сказано, я не возражал.
– А где штык-юнкер? – спохватился вдруг Словарь Семенович Рысаков.
– Отстранен, – вытерши насухо рот полою дождевика, срезал я магистра.
– Как отстранен? – Словарь злобно уставился на меня. – И кем? Уж не ты ли, капеллан, освободил моего штык-юнкера от вышки славянскому предателю?
Матвеев отвалил на тактичное расстояние. Внутренние конфликты между религиозными и государственными сановниками был вне его юрисдикции.
– Я отстранил. Как старший офицер и духовный наставник.
Точеные ноздри Словаря махом втянули столько сырой атмосферы, что его желание чихнуть взяло верх над готовностью разразиться гневной тирадой.
– Будь здоров, Словарь Семенович. Тебе известно, что Могила штык-юнкера приблизил еще на зоне? Или тебе известно, что две трети личного состава готовы были поддержать военный мятеж? Или ты всех казнить собираешься?
Словарь смутился. Я обескуражил его. Вдруг и сильно. Замешательство Словаря ясно дало мне понять, что во внутренних делах уголовной охраны комбината он целиком полагался на Могилу. Потому он так и осатанел, услышав запись нашей беседы с альбиносом. От меня всего-то и требовалось слегка поднажать, чтобы взлелеянный Гроссмейстером Орден со всеми потрохами встал под мои знамена. Без наивных интриг и нелепой игры в заговорщиков. Да, практически без усилий.
И Словарь станет прошлым. Отойдет в категорию рудиментарных фолиантов. Ибо толковый Словарь под редакцией Бориса Александровича, остался внутри бестолковым чиновником Словарем, который был для меня проще инструкции для пользования гладильной доской.
– Даешь ли ты отчет себе, Владислав, что если б я Могилевского не взял бы нынче на кунштюк, эта бравая славянская орда уже топтала бы на плацу твои зубные протезы, тройной попрыгунчик, тварь ты злокачественная?
Часть Словаря внезапно свернула к полусотне экзекуторов, мокнущих в стороне и в ожидании, когда их полководцы базар прикроют.
– Надо поговорить, – хрипло выдавил Словарь.
– Валяй, – согласился я без особого энтузиазма. – У тебя сколько времени?
Словарь встряхнул запястьем с рыжими котлами.
– Пятнадцать двадцать.
– У меня десять. Но в минутах.
– Прикажи своим, – Словарь кивнул на похоронную команду.
Я жестом подозвал уголовника с татуировкой на лбу. Тот, поддержавши фасон, вразвалочку подкатился и небрежно махнул пятерней у козырька.
– Штаб-фельдфебель Дикий.
– Веди бойцов, штаб-фельдфебель. В казармах по случаю траура уставные отношения отменяются. Флаг приспустить. Всем братьям за упокой Могилы по литру шнапса и полудюжине пива темного. За доблесть и натиск пить стоя.
– Это по-нашему, капеллан, – золотые коронки фельдфебеля тускло блеснули в пелене.
– Кто будет скалиться, тому в зубы. Кругом.
Фельдфебель серьезно и по-военному отдал мне честь, развернулся четко. Отряд быстро составился в колонну по четыре, и через минуту его не стало.
Унижение Словаря в глазах орденского братства было продиктовано сугубо воспитательной мерой, и совсем не в отношении Словаря. Словарь загнулся вместе с альбиносом. Каждый брошенный в Могилу камень срикошетил по влиянию Гроссмейстера на бытовых и рецидивистов, объединившихся под флагом, пошитым из расовых предрассудков и княжеских ассигнаций. Но я слишком понимал: Орден без наводимой рукою Могилы и Перца с Лавром железной дисциплины, за сутки обернется в армию насильников и мародеров. Лавра попросту не достанет, чтобы удержать в повиновении банду отщепенцев, которых междоусобица их собственных главарей лишила единящей веры в святость и обязательность какой-то миссии. Любой. Какой угодно. Хоть миссии освобождения Иерусалима от китайцев. Но я обязан был вернуть им такую веру.
Вогнать их в казармы, напоить, осудить, почтить, и занять работой. И занять образовавшийся вакуум в их мозгах иллюзией продолжения чего-то. Хоть на сутки, на двое. Пока они сами не займутся спасением собственных шкур.
– Ты лучше выкладывай, коли потребность – напомнил я нервно курившему Словарю. – У меня осталось восемь из десяти. У тебя примерно столько же.
И Словарь заговорил. Говорил он минут шесть без остановки. О том, что я друг его пожизненный. Что в мыслях его не роилось губить мой уклад. Но все в его нутре подсказывало, что я должен здесь оказаться. Что настанут роковые часы, когда я только смогу выправить стечение. Спасти его от пагубы. И так оно и случилось. И теперь я, собравши всю власть в своих кулаках, организую здесь полный хаос. Главное, что уголовников сдержу. Они охраняют периметр и дворы цехов, а там все. А я выручу. Я талант. Он за меня ручается. Всю эту пургу он высадил одним духом, и объявил, что теперь ему надобно срочно в кадры. В кадрах бедлам. Среди контрактов черт ноги переломает. Наконец, он заткнулся. Минуту ушла на молчание и очистку моих сапог от налипшей глины. Еще около тридцати секунд пошло на мое пророчество:
– Борис Александрович тебя имеет, Словарь. Закон прибавочной стоимости. Чем больше фабриканты прибавляют конторским, тем дороже им стоит контора. За это фабриканты имеют конторских служащих. В каждое отверстие он тебя имеет, Словарь. Но кончит не он, а ты. Где-то по дороге к лимузину ты кончишь. На мусорной свалке. Ты набираешь вес прямо пропорционально увеличению объемов производства RM 20/20. Тяжелые словари лишний балласт. Потому их сбрасывают со счета.
Словарь только усмехнулся:
– Это тебе кажется, что ты все знаешь, дурашка.
Точно дуэльный барьер, я бросил между нами использованный для сапожного очищения грязный черенок. Мы со Словарем разошлись, и более не сходились.
Пикировка наша совсем была бы напрасна, если бы не купеческая восточная пословица: «Собака лает, караван идет». Отстраненный мной от постыдной экзекуции штык-юнкер на пару с шефом безопасности бургомистра Анечкой Щукиной успел нарыть в капитанском саду урожай из двух чемоданов, обшитых брезентом, и доставил их в мою резиденцию. Больше того. Успел смотаться в отсутствие Словаря на химический комбинат и увести в казармы дежурную роту славянского караула. Таким образом, корпуса «Франконии» остались под охраной группы наемников, пусть вооруженных и с отменной боевой подготовкой, но вряд ли способных устоять под натиском дружины анархистов, славянской уголовной пехоты и зеленых повстанцев. И для сборки боеспособного ополчения мне еще предстояло сагитировать Полозова. А это было трудно. Почти невозможно. Сагитировать Полозова мог только он сам. И только сломив свою преданность хозяину во имя спасения двух с половиною сотен обреченных неудачников.