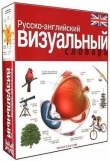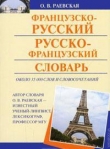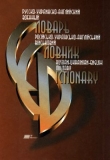Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
ВЫКУП
Во сне я разгадывал символику, и тем разрушал грязный заговор землемеров против человечества. «Перевернутый деревянный циркуль не что иное, как баба, задравшая ноги. А между ними Грааль. Он же знак сельского плодородия. Он же холм Венеры и финансовая пирамида. Расшифровка скрещенного с циркулем заступа далась мне с трудом. Для начала я определил, что мне напоминает сия лопата. Больше прочего лопата смахивала на плоское стальное приспособление для обработки почвы, оснащенное для удобства круглой деревянной рукояткой.
Если бы лопата была совковая, я рассекретил бы участие в заговоре землемеров КГБ. Но лопаты была штыковая. Штыковая лопата не будила во мне ассоциаций. «Штык молодец, встретить чью-то идею в штыки, – лихорадочно размышлял я, переворачивая лопату и так, и сяк, и в профиль. – Как русский за штык берется, так враг трясется. От чего трясется? От смеха? Ясно, любой враг бы животы надорвал, возьмись кто-то из русских голыми руками за обоюдное лезвие. Но что в этом закодировано? Какая в этом периодичность?» Смысл ускользал от меня.
Я топтался, пока землемерие плело свою сеть. И все оттого, что я по наивности не окончил Гарварда. Будь я символист Роберт Ленгдон из Гарварда, я бы давно уже нашумел. Расколол бы эту лопату к чертовой бабушке. Я бы живо нашел ей применение. Но не в моем характере пасовать, уважаемый читатель. И я тайком вклинился в Роберта Ленгдона. Скопировал его замашки. Я стал думать как он, хотя такой бессовестный плагиат фантазии, разоблачившей самую «Тайную вечерю», мне чести не добавил, но цель вскоре была достигнута. Во-первых, лопата сразу обрела последовательность. Штыковая лопата в профиль мне напомнила единицу. Первое из чисел в последовательности Фибоначчи. А это уже зацепка. Далее и штыковые символы набежали. Под определенным градусом здесь и сосок римской волчицы, и расплющенная тиара Папы, и центральный лепесток французской лилии, и, главное, дамское лоно в форме Грааля, как плодородной утвари. Действуя по правилу буравчика, я медленно раскручивал символические козни землемеров, пока не проснулся. А проснувшись, я пришел в крайнее беспокойство за судьбу Виктора Сергеевича Пугачева. Но что я мог изменить, когда пробил час упущенных возможностей? «Не сделанного тоже не воротишь», – с такой только мыслью ушел я утром от Марка Родионовича, оставив ему на прощание канистру медицинского спирта. В коридоре я налетел на слепую гражданочку со строгими глазами, поверх которых были надеты усиленные очки. Перед собой гражданочка несла полотенце на вытянутых руках. Так обычно подносят хлеб-соль дорогому гостю.
– Извините покорнейше, – пробормотал я, хлопотливо и кое-как выбираясь из ее невольных объятий. – Сумерки в коридоре. Темновато. Ни черта не видать.
– Распишетесь? – вместо приема извинений спросила гражданочка.
– Я женат.
Словно бы не услышав моего последнего заявления, гражданочка извлекла из бокового халатного кармана какой-то свиток.
– Трудно предсказать, где колесо фортуны поджидает, – она распустила свиток, обернувшийся плотным бумажным изделием, и протянула мне искусанную шариковую авторучку. – Шла принять холодный душ, а встретила вас, не правда ли?
– Точно так, мадам.
При ближайшем осмотре изделие оказалось грамотой Министерства просвещения СССР, удостоверяющей, что завуч средней школы поселка Казенников Лидия Терентьевна Фирс отныне производится в заслуженные учителя. С печатью и подписью министра. Ниже подписи министра имелись еще три-четыре подписи, расставленные как попало и разными пастами, также подтверждающие факт производства.
– Но для чего вам еще какая-то подпись?
– Вы святой, – коротко пояснила гражданочка, видимо, Фирс. – Я свидетель тому.
– Кому?
– Именно как массы женщин молитвенно тянули к вам руки на Княжеской площади. Воочию.
– Массы женщин молитвенно тянули руки к офицерам СС, отправлявшим их в газовую камеру. Вряд ли офицеров СС канонизировали.
– Мне все равно, – отозвалась заслуженный учитель. – Я атеистка.
– Тогда тем более не понимаю.
– Не проще ли подписать? – мягко, но твердо предложила завуч. – Владимир ванную комнату займет. И надолго.
Я поставил автограф под всеми прочими, отдавши грамоту и ручку безумному завучу Фирс. Это было самое меньшее, что я мог для нее сделать.
– Здесь все знаменитости, каких я повстречала на моем жизненном пути. – Она вплотную приблизила очки к нижнему краю грамоты. – Министр нашего с вами просвещения товарищ Михаил Прокофьев, актер Лазарев, поэтесса Юнна Мориц.
Она заглянула в грамоту, будто дива, позабывшая знакомую партитуру.
– И вот еще режиссер анимации Калишер, и певица-бард Никитина, теперь еще вы. Ах, я прожила на склонах Парнаса и Голгофы!
С этим жарким заключением, она умчалась в совмещенный санузел. А я с тяжелым сердцем вышел не улицу. Служку я знал где искать, и отправился к дому Щукина. Внешне дом казался пустым. Но я сразу заметил казенную полоску с печатями, какие нарезаются для заклеивания дверей. Полоска была сорвана. Я тихо вошел в капитанские покои. Внутренне дом казался пустым. Стащенный на пол с кровати матрас был испачкан кровью. Два быстрых вывода взволновали меня. Первый. Вьюн притащила сюда Лаврентия и провела с ним бурную ночку. Единственное в доме ложе было коротковато для молодого гренадера. Второй. Бурная ночка завершилась кровопролитием.
– Какие новости?
Анечка Щукина молниеносно развернула меня точно свежий номер газеты. Она висела в дверях кладовой, энергично подтягиваясь до шеи к верхнему косяку. Из одежды на ней было что-то узкое на бедрах. Обнаженная ее грудь нулевого размера слегка набухала при каждой следующей подтяжке.
– Ты что, с Лаврентием спала?
– Давай, давай, говори сейчас: «Еще от горшка два вершка, предохраняться надо, он тебе не партия, – Вьюн соскочила на пол, обогнула меня и взялась облачаться в разбросанную по кровати одежду. – А если я узнала в нем Альтер эго?
«Второе я», конечно, сильный аргумент. Особенно у девиц юного возраста.
Свое «второе я», они узнают куда быстрее, нежели первое.
– У тебя отец есть?
– Ну, есть, – ответствовала она тем тоном, в каком сразу читается: «все вы, старые пердуны, одинаковы».
– Хороший отец?
Молчание.
– Вот ему ты и рассказывай про Альтер эго. Коли он хороший, выпорет.
– Представляешь? – тут же сменила тему Вьюн. – Лавочка мой оказался девственником.
– Вижу, – я искоса глянул на испачканный кровью матрас.
– Это моя кровь, – смутилась Вьюн. – Порезалась, когда отбирала у него ножик.
Вьюн показала мне забинтованную ладонь, которую почему-то прежде я не заметил.
– Представляешь? Он хотел кастрировать себя от огорчения, когда у него поллюция случилась. Пришлось вдолбить, что подобное часто случается, когда в первый раз. Это же фактически?
– Не знаю. У меня не было первого раза. Я с третьего начал.
Вьюн посмотрела на меня, как смотрят женщины, внезапно открывшие что-то новое в мужчине, с которым прожили долгую и скучную жизнь.
– Где Лаврентий? Он мне нужен теперь.
– Долг пошел исполнять. Караулить вашу драгоценную личность, батюшка.
– Значит, мы с ним разошлись. Плохо.
– Как у всех отцов и детей, – внезапно изрекла Вьюн слишком зрелое для особы своих лет наблюдение. – Отцы и дети всегда идут навстречу друг другу. И всегда почти расходятся.
Покончив с одеванием, она заварила чай и подала мне в металлической кружке, мною же накануне и растоптанной.
– Лаврентий починил. Пальцы у него тренированные.
Вьюн подсела к столу и скроила многозначительную гримасу.
– Ладно, выкладывай.
Я отхлебнул горячего чаю.
– Мы с Лавочкой грибками дядиными закинулись, – начала Вьюн издалека. – Его не вставляло. Пришлось мне среди ночи погружаться.
– Погружаться?
– Дядина команда. Представлял свой погреб типа как подлодку. Ну, и опрокинула я на капитанском типа мостике один ящик с грибами. А в земле смотри что.
Она выложила на стол кассетный старенький диктофон.
– Полиэтиленом был обернут.
– Слушала?
– Когда? Пока Лавочка ушел, пока умылась, пока зарядилась, а ты уже здесь.
Помедлив из страха узнать что-то обнадеживающее, я включил записывающее устройство на воспроизведение. Вопросы Щукина и ответы Максимовича звучали с искажением и глухо. Я довернул колесико до предельной громкости. Голос Щукина:
– 6-го июля 2009 года. Я, дознаватель по преступной деятельности концерна «Франкония», подпадающей под статьи 111, 189, а также с 234 по 239, и с 246 по 257, а также 358 статью УК РФ участковый капитан Щукин продолжаю запись добровольных показаний старшего лаборанта НИИ экологии имени Ламарка, присутствующего напротив господина Максимовича Генриха Яковича.
Голос Максимовича:
– 358-я статья?
Голос Щукина.
– Так точно, Генрих Яковлевич.
Голос Максимовича:
– Вы сами-то ее давно освежали, Щукин?
Голос Щукина:
– Помню в общих чертах. Глава 34. Преступление против безопасности человечества.
Голос Максимовича:
– Помнит он в общих чертах. Это называется экоцид, уважаемый. Массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.
Голос Щукина:
– Я понимаю.
Голос Максимовича:
– Хрен ты понимаешь. Сопи в две дырочки, портвейн грибами закусывай. Экоцид не есть преступление против безопасности человечества. Экоцид преступление против безопасности планеты. Все твое тупое человечество попадает в общих чертах под эту уголовную статейку. От вшивых автолюбителей до народных избранников, затыкающих нефтедолларами дыры в бюджете.
Голос Щукина:
– Предлагаешь 358-ю исключить?
Голос Максимовича:
– Предлагаю.
Голос Щукина:
– Исключили. Дальше пойдем?
Голос Максимовича:
– Ходи.
Пауза. Голос Максимовича:
– Так я слона возьму.
Пауза. Остановивши воспроизведение, я посмотрел на служку.
– Они что, в шахматы играли?
– Откуда мне-то знать? Меня здесь не было, когда Максимович у дяди кантовался.
– Позабыл, извини.
Я снова включил воспроизведение.
Голос Максимовича:
– Как я уже ранее выложил, это мои гипотезы, капитан. И профессора Чистякова, разумеется. Технология синтеза RM 20/20 сама по себе гипотеза. Что у нас? Анализ производственных отходов? Замеры почвы? Ну, ртуть. Алхимия, словом.
Голос Щукина:
– Почему алхимия?
Голос Максимовича:
– Согласно дошедшим письменным источникам, во всех алхимических традициях ртуть присутствует как основной элемент. Ртуть и киноварь.
Голос Щукина:
– Киноварь? Еще какая-то мерзость?
Голос Максимовича:
– Сульфид ртути. Да и не в ней проблема, а в мифологии. Слишком высокая устойчивость кристаллической решетки. Чистота 99,9. При таких заданных величинах пытаться выбить атом из любого ближайшего по структуре химического элемента и получить на выходе RM 20/20 все равно, что ботинком пытаться выбить опору Большого Каменного моста.
Голос Щукина:
– И все же технологию производства красной ртути концерн «Франкония» наладил именно у нас?
Голос Максимовича:
– Судя по самой же природной аномалии, ответ мой «да». Такое пространственное искажение, в каком оказался точно в пузыре наш Казенников, мог только вызвать источник мощнейший и неизвестный современной ортодоксальной химии.
Голос Щукина:
– Профессор Чистяков поддержал вашу версию, говорите?
Голос Максимович:
– Как рабочую. Теперь он сам работает на немцев. Переметнулся, гнида. Большой куш, видать, посулили ему. И мне сулили, потом угрожали, да я слинял. Чтобы они еще всей планете устроили Холокост, и чтобы еврей Максимович им еще содействовал? Пусть отсосут, чистокровные.
Голос Щукина:
– Профессор мужик не глупый. За то и профессор. Кому на кладбище куш пригодится? Тебе пугали, значит и его. Только его запугали. Ты один в поле вояка, тебе легче. У Чистякова двое салажат в Москве.
Длинная пауза. Голос Максимовича:
– Если верить той же мифологии, RM 20/20 – сверхтяжелое вещество, по боевым характеристикам в 10 раз превосходящее оружейный плутоний и позволяющее создавать компактные ядерные заряды.
Голос Щукина:
– Компактные насколько?
Голос Максимовича:
– Размером с хозяйственные спички. Какой-нибудь безумный калиф на час все свои нефтяные скважины за такое уступит. На карту много поставлено, Щукин. Подорвать надо из Казейника. Убедить как-то государственных мужей, чтобы небольшой такой атомной ракеткой шарахнули по концерну, пока не поздно.
Голос Щукина:
– Да как подорвать, если сами сказали, что мы практически в пузыре?
Голос Максимовича:
– Есть один гештальт. Конечно, теоретический, но есть. Небольшая такая расчетная таблица отклонений, оставляющая нам некоторую лазейку. Как вам известно, сила гравитации обратно пропорциональна квадрату расстояния.
Голос Щукина:
– Допустим.
Голос Максимовича:
– Из чего следует: чем дальше мы окажемся от ядра с уже сублимированной массой RM 20/20 как мощного источника гравитационного поля, формирующего вокруг себя параллельный геометрически устойчивый атмосферный пузырь…
Пауза. Голос Максимовича:
– ...тем легче нам будет покинуть Казейник. Проблема, на первый взгляд, чисто техническая. Но именно решение технической проблемы нам закроют в первую очередь. Никакой носитель, способный пробить с достаточным ускорением тропосферу, где гравитация наиболее сильна, нам с вами не светит. Так, что забудем о личном Байконуре и вспомним о метафизических особенностях фрактальных волн.
Голос Щукина:
– Объяснитесь проще, Максимович.
Голос Максимовича:
– Объясняюсь проще. Переход от ламинарного к турбулентному течению воздушных масс, в тропосфере происходит при достижении некоторого критического числа Рейнольдса. Далее в среде самопроизвольно образуются нелинейные фрактальные волны. Вот здесь-то и удалось мне рассчитать некую парадигму скользящих коридоров.
На этой фразе я выключил диктофон и спешно заткнул его в сапожное голенище. С улицы донеслись до меня приближающиеся голоса, благо, что стекла в усадьбе Щукина давно были высажены, и окна, заколоченные редкими досками, отлично предупреждали о потустороннем приближении. Дверь в покои Щукина анархисты высадили с одного удара. Тем паче, я не запер ее. Согласно инерции ударник еще и табурет кувалдой разнес.
– Македонский тоже был великий полководец, – глядя на вышибалу, накрывшего своим телом уничтоженный табурет, произнес городничий Митя.
Следом за Митей в горницу по-хозяйски ввалились трое квартальных.
– Давно прослушиваете?
– Вторые сутки, – Митя придвинул к столу уцелевшую свободную табуретку и сел против меня. – Где вы, падре, ночевали, – там и устанавливаем.
– У Марка Родионовича тоже?
– И у него, – кивнул городничий.
– Он знает?
– Как же ему не знать, – ухмыльнулся Митя. – При нем кабельное телевидение в бараке устанавливали. Оперативная съемка. Исключительно по санкции верхних эшелонов.
«Совсем отчаялся инвалид, – подумал я с горечью. – Не только меня, он и Володю с Пугачевым подставил. Меня-то ладно. Да и не мне его судить. Сам я зараза».
– Быстро вы среагировали, Дмитрий Кондратьевич.
– Мимо шел. Ребятам говорю: «Может, падре намылился чаи гонять? Авось,
да и нас подогреет. На улице-то сырость. Наугад постучали.
– Кувалдой?
– Печатку не надо казенную обрывать. Дом убитого под следствием. Посторонним вход воспрещается.
– А ей? – я кивнул на Вьюна.
У Мити были все ответы.
– Ей как служке Орден келью отгородил внутри вашей кельи при казармах, святой отец. Так что же насчет горячего чаю?
– Вели-ка ты, Митя, своим барбосам отсель выметаться. Наедине потолкуем.
Городничий обернулся к застывшим у двери квартальным.
– Слышали, что падре велел?
Квартальные спешно вытряхнулись из горницы, поставивши за собой снесенную дверь на место.
– Что с Пугачевым?
– Помиловали, – Митя насыпал махры на газетный клок и склеил языком самодельную сигарку. – Коллегия прежние заслуги учла.
Он чиркнул спичкой о ноготь и с удовольствием затянулся, пустивши дым через ноздри.
– Решили без лишнего садизма. Отделением головы от прочего туловища. В три часа на Княжеской площади. Уже и колода у позорного столба установлена.
– Кто голову будет рубить? Могила? Перец?
– Не, – городничий хмыкнул, – Лаврентия назначили.
Вьюн побледнела, сжала кулаки и двинулась к Мите. Я успел перехватить ее и толкнул на кровать. Словно бы не заметивши происходящего, городничий лениво продолжил.
– Заслуги учли. Перспективный молодой человек. Теперь на плацу тренируется. Дрова рубит.
Наблюдая одновременно и за Митей, и за Вьюном, я лихорадочно соображал:
«Сволочи. Троих удумали махом погубить. Лавра, конечно, мы потеряем, если он Пугачева казнит. А Вьюн, конечно, вступит в неравный бой, и я ее вряд ли удержу». Вьюн, оцепеневши от горя, прямо сидела на кровати.
– Спасти Пугачева можно?
– Можно, – откликнулся Дмитрий Кондратьевич. – Выкупить можно. Прямо сейчас и покупайте. За диктофон пострадавшего Щукина уступлю. С кассеткой, разумеется.
– С кассеткой, значит.
– Я уполномочен, Ваше преподобие. Слово анархиста. Виктора Сергеевича стремительно освободим после купчей. И машинку ему пишущую вернем. Без рычагов со шрифтом, разумеется.
Вьюн смотрела на меня умоляюще. А в сапожном голенище лежал, возможно, единственный способ вырваться из Казейника. Анкенвою, конечно, чихать и на Пугачева, и на все это зеленое подполье, прикинул я быстро. Ему, пожалуй, и на диктофон-то чихать. Вернее всего чихать. Ему теперь интересно убийцей меня сделать. Хотя бы косвенным. Но возможно, что и кассету с записью лаборанта ему очень даже заполучить желательно.
– Так что же, пастор? – городничий бросил на половицы докуренный бычок и притоптал его подошвой. – Сойдемся в цене?
– И давно ты, Митя, таким подонком стал?
Лицо анархиста затвердело, а взгляд на мгновение сделался малообещающим.Но тут же он рассмеялся.
– Давно, святой отец. Каюсь. Мне в отличие от вашего из Казейника нет пути. Я и пары суток не проживу за пределами. Заказан я семьей одного живодера подстреленного. Я ведь из контрактников подался в анархисты. Я на войне веру и в государство, и в Господа потерял. Такой замес. Удовлетворил я твое любопытство, преподобный? Ты счастлив?
Нет. Я не был счастлив. Но я еще был. Я достал диктофон из голенища и бросил его Мите на колени.
– Кауф ист кауф, – городничий встал с табуретки, упрятал записывающее устройство в карман и протянул мне руку для пожатия. – Покупка есть покупка по-нашему, по-немецки.
– Обойдешься.
– Обойдусь, – легко согласился Митя. – А Пугачев уже на воле, считайте. Откинулся краевед. И штык-юнкеру передам, чтобы дрова колоть завязывал. Честь имею.
Махнув подбородком, он вышел из дому, для чего ему еще раз дверь пришлось опрокинуть. Вьюн подскочила с кровати, чмокнула меня в щеку и пристроилась на освобожденную табуретку. Я на Вьюна не смотрел. Мне было горько и пусто.
– Что дальше куда? – Вьюн готова была исполнить любое мое пожелание.
– На пристань к татарину.
Вьюн обиделась. Угрюмо наблюдала она, как я дую на остывший кипяток. Потом дошла до тумбочки, стащила с нижней переборки фотоальбом в бархатной синей обложке, названной латунными знаками «ДМБ-79». Мрачно перекидывала страницы с видами атомных подводников, обрамленных карандашными виньетками. Спросила, не поднимая глаз.
– Снова обменяешь меня на самогон? Наверное, ты все готов обменять на самогон.
– Все, – согласился я. – Кроме товарищей по оружию, кота Париса, жены моей и пуговицы от кожаного испанского плаща.
– Даже для тебя довольно дико сравнивать жену и пуговицу, – молвила Вьюн.
– Да, разница есть. Жену я не желаю менять на самогон. Могу, но не желаю. А пуговицу не могу. Я потерял ее на улице. Или в подъезде. Или в квартире. Надеюсь, что в квартире.
– Тогда зачем тебе к татарину?
– Дело есть.
Об утрате диктофонной записи я досадовал. Сильные чувства остались в близком прошлом. Теперь я испытывал более умеренные эмоции. Испытания проходили успешно. Впрочем, и постиг я до прихода жандармов кое-что более существенное, нежели природу фрактальных волн, о которых я уже постиг в географическом обществе инвалида. Постиг я, что за товар производился Анкенвоем в полумиле от поселка. Постиг я чудовищную тайну. «Франкония» не просто сжигала чужие химические отходы. Сжигание было цветочками. Ягоды оказались куда тяжелее. «И истоптаны ягоды в точиле за городом», – вспомнил я отчего-то слова из книги «Откровение».
У ГЛУХИХ
Кто Анкенвой, теперь я догадывался. Почти наверно. Понял, когда услышал гипотезу Максимовича о производстве красной ртути. Мог бы и раньше понять. Намеки в Казейнике были разбросаны повсюду: и водка «Rosstof», зачем-то со сдвоенной латинской буквою «S» внутри, которую почему-то я сложно расшифровал, как аббревиацию названия «Российский штоф», и Княжеская площадь, и даже визитная карточка с инициалом «R». Разве только Рысаков на свете так начинается? Дальше сообщение левой рукою. Разве Словарь левша? Недоставало ключа 9 на 12, чтобы свинтить намеки, выковырнув из прочего бедлама. Теперь ключ обнажился. RM 20/20. Никто из моих близких знакомцев помимо левши Бориса Александровича Ростова по прозвищу Князь не верил в существование красной ртути в принципе. Далее. Князь Борис, конечно, знавал и Словаря, и Хомякова, и Семечкина, и Вику-Смерть. Но Князь почти наверно симпатизировал мне. Князь когда-то лично выдернул меня из летаргического ничтожества. Ответил мне на вопрос «что делать» в мире, где правили хаос и беззаконие. И какие-либо серьезные причины ввергать меня обратно у Князя отсутствовали. Разве что каприз дьявольского ума, ибо Ростов имел ум воистину дьявольский. Князь в своем роде был гением, эрудитом, блестящим психологом и грандиозным аферистом. Мы с Вьюном почти добрались до пристани, пока я анализировал. За плотной пеленою дождя уже просматривался списанный на берег темный буксир.
– Присядем?
– Здесь в ста метрах Глухих печку топит. Можно устроиться в теплой дружественной обстановке, – возразила моя насквозь промокшая спутница.
– Присядем. Неизвестно, кто там раньше устроился. А разговор у нас личный.
Не дожидаясь ее согласия, присел я на обломок бетонной плиты. Вьюн, постоявши, села рядом. Я накинул на нее свою плащ-палатку редактора Зайцева.
– Сейчас отправляйся в славянские казармы. Найдешь там Лаврентия. Растолкуй, что к чему, и назад. Я тебя в буксире обожду.
– А что к чему?
– Что Могила знает о ваших отношениях. Теперь он Лаврентию может любую поганку завернуть. Лучше всего показательный бой проведите. Вроде как штык-юнкер тебя на три буквы отослал, а ты ему челюсть поправила.
– Чтобы его потом собственные козлы засмеяли? Пускай тогда он мне рожу набьет.
– Пускай. Но не сильно. Жаль такую рожу.
– Учи бойца канавы рыть. Или я совсем тупая, по-твоему?
– Напротив. Ты острая, как шило в заду. Ну, с Богом.
Я еще поерзал, дождавшись, пока Анечка Щукина, плотно завернутая в обширный дождевик с остроконечным капюшоном и смахивающая издали на какое-то веретено, сольется с ливнем, после чего направился к татарину.
И как в чистую воду я глядел. Разношерстное общество у Глухих уже выпивало и закусывало. Хомяков, редактор Зайцев, Могила и Вика-Смерть встретили меня кто радушно, кто как. Могила, татарин и Виктория радушно, прочие как. Могила облапил меня и приложился губами к подолу моего свитера, точно к мощам великомученика.
– Ты куда пропал, святой отец? А мы тебя обыскались! Их благородие Хомяков статью заказал про тебя как подвижника славянской мысли, только интервью-то снять и не с кого. Зайцев совсем окосел на дверь. «Где, – трепещет, – капеллан, их преподобие?» Ты учти. Если номер выйдет не свежий, ему край.
– С Хомякова и снял бы. Или, вон, с госпожи Виктории. С нее тоже есть что снять.
Перед Викторией стояла основательно початая бутылка белого ликера. Я пристроился к столовому углу на принесенный Германом ящик.
– Примета плохая, – потягивая ликер, заметила Вика-Смерть. – Быть тебе холостым, господин монах.
– Ты, вроде, раньше только полусладкое употребляла.
– С тобой и на полугорькое скатишься.
– Ликер напиток богинь, – льстиво сострил редактор Зайцев.
Сам он, как и бургомистр с Могилой, употребляли водку «Rosstof». Вероятно, ими был ратифицирован контракт с Анкенвоем на употребление в рекламных целях исключительно фирменного напитка. Прочие хлестали самогон. Прочим было забить на Анкенвоя. Прочие в майке и семейных трусах подмигнули мне по-свойски.
– Чайничек?
– Два, масса Герман. С одного простужусь. Сыро на улице.
Стремглав передо мной выросли два заварных фаянсовых чайника с пунцовыми шиповниками, пиала, и почищенная сушеная рыбка на разделочной доске.
Я поднял один чайничек для осмотра. Заметил на дне клеймо Дарьи Шагаловой.
Стало быть, уважала она татарина, как и он ее. Присутствующие решили, что я намерен тост произнести. Пришлось произнести.
– За подводника.
– Почему за подводника? – насторожился редактор.
– А за кого тут еще пить?
– Правильно, – поддержал меня вдруг Могила, пока шокированный худсовет переглядывался. – Как за образ для подражания. Все мы вышли из моря. Муфлон мне с параши статью читал.
Подавая пример, Могила выпил водки. Остальные нехотя потянулись вслед за ним, точно осенние грачи с насиженных мест.
– Так в чем же центральная славянская идея заключена, ваше преподобие? – Зайцев прищурился на меня одним глазом сквозь очко, подобно как сквозь оптику его снайпер-однофамилец высматривал в осажденном Сталинграде офицерский состав 6-й армии вермахта.
– В разном, – охотно дал я многотиражному Зайцеву интервью. – У господина бургомистра в штанах. Они ее вчерашнего дня продемонстрировали, когда на них вредители покушались. У Европы центральная славянская идея заключена в отоплении. Отопление, электричество, газ пропан и другие прочие блага славянской цивилизации, которые объединяют Европу в Азию. Что же до нас, до славян, то центральная идея у нас, у славян, вообще ни в чем не заключена. У нас центральная идея дано откинулась.
– Откинулась? – Зайцев, решивши, что я готов публично похоронить сам смысл существования ордена, даже и сам слегка откинулся, и даже отъехал от стола, сосредотачивая рассеянный худсовет на моем интервью.
– Откинулась? – повторил он с вызовом, готовый одною меткой пулей прошить в моем лице всех предателей Родины из добровольческой дивизии 6-й армии вермахта «Фон Штумпфельд». – Это как же, ваше преподобие, славянская идея, да вдруг и откинулась?
– По амнистии.
– Ну, ты залупил! – Могила от избытка захлестнувших его эмоций стукнул кулаком куда попало. Попало Зайцеву по уху так, что у того очки слетели. Возбудившись, Могила даже не заметил такой от себя неловкости, и снова полез ко мне лобызаться. Редакторские очки хрустнули под его сапогом.
– Вот за что люблю! – орал он при этом. – За грубое слово истины! За тяжелый венец баланды! За базар без лишних терок! За линию огня!
Бессильно принявши пару его лобызаний, от остальных я кое-как увернулся.
Да Могила уже и отстал, поскольку сам потянулся на речь.
– И теперь, когда мы с нашей центральной идеей на воле, – произнес он с полным стаканом, завернутым в кулак. – Когда мы вырвались на священные просторы типа равнин и возвышенностей отчизны-матушки, мы поставим раками семитов и антисемитов! Мы зароем эту сволочь на глубину ядра, и воткнем ей свечу в дупло, и отпоем на мотив типа «Мурка»!
– Кто ж останется?
– Ты о чем, святой отец?
Могила, осушив стакан и мало-мало протрезвев, обернулся на мой вопрос.
– Если ни семитов, ни антисемитов не будет, кто ж останется?
– Демагогия, – вставил свое веское слово Хомяк, и, поддернув манжет с золотой запонкой, оценил свои наручные часы. – Пора на встречу с избирателями.
Бургомистр, пошатнувшись, встал из-за стола и затем довольно прямо выкатился из буксира на природу. Зайцев метнулся было следом, но его придержала Вика-Смерть.
– Мнение кардинала о центральной славянской идее сам отредактируешь в духе русско-немецкой сплоченности. Гранки мне пришлешь.
Зайцев пробормотал что-то согласное и умчался догонять политическую верхушку.
– А кто здесь кардинал? – проявил тактичное любопытство Глухих, снизывая на тарелки печеный картофель.
Картофель был доставлен татарином из камбуза на витых покрытых сажею шампурах.
– Нашего пастора в сан возвели. За разоблачение главаря зеленых идеологов Пушкина, – пояснила Вика-Смерть.
– Так ты же какой теперь веры, бачка, протестант или католический?
– Борису Александровичу видней, – обжигая подушки, я принялся чистить печеную картофелину. Боковым зрением заметил, как вздрогнула Вика-Смерть. Альбинос, однако, встретил мое замечание равнодушно. «Возможно, и не знает он, кто сей Борис Александрович. Возможно, знает он своего хозяина под именем какого-нибудь Йозефа Генриховича Цорка, – Я проследил, окунувши в солонку рассыпчатую картофелину, между прочим, за безмятежным убийцей. – Но, возможно, и знает под именем подлинным. Иначе спросил бы, что за Борис такой Александрович. Но, возможно, и не спросил по соображениям иного толка. Дальнейших пояснений ожидает. Могила умеет ждать. Он тоже, наверняка, заметил реакцию Виктории. Кукиш ему, а не дальнейших пояснений».
– Может, мы тет-а-тет поговорим? – спросила напряженно Гусева, добывая из сумочки тонкие дамские сигареты. – Отойдем. Здесь есть…
Подбирая русский синоним корабельному будуару, Вика замешкалась.
– Отхожее место, – подсказал я, добивая вторую картофелину. – Идем, коли так.
Она привела меня в какой-то матросский кубрик, переделанный под лупанарий. В основном, за счет огромной трехметровой кровати с водяным матрацем, зеркального потолка и матерчатой обивки стен с пурпурным орнаментом.
Когда Гусева села на кровать, застеленную шелковой черной простынкой, матрас под нею заколыхался.
– Я всего лишь секретарь, – сразу объявила мне Виктория, по возможности сокращая свою роль в Казейнике.
– Ростов не держит «всего лишь секретарей».
– Ну, хорошо. Когда у него возникает потребность в женщине, естественно…
– Лжешь, – перебил я Гусеву. – Ростов до тебя не опустится. Он мужчина со вкусом.
Виктория злобно глянула на меня, отвернулась и прикурила сигаретку.
– Ты просто жалкий импотент, – ответила, выпуская в сторону дым.
– Лжешь. Я был и остался верный поклонник твоих прелестей. Но я вульгарней Бориса Александровича. На меня легче угодить.
Гусева медленно, пуговку за пуговкой, приступила к расстежке длинного кожаного платья с глухим воротом. Пуговок было много. Она откинулась на жидкий матрац. Я с любопытством наблюдал, как платье обнажает ее натуру.
Стриптиз, все-таки.
– Завтра к Ростову меня отведешь, – предупредил я Викторию, когда она медленно раздвинула полные свои ноги, и покинул бордель.
Кают-компания в мое отсутствие умножилась дежурным, судя по черной повязке с желтой буквой «С» на рукаве, офицером Перцем, который только что закончил доклад непосредственному начальству о ЧП в расположении славянской роты. Начальство протирало кулаками выступившие от смеха слезы. Даже Герман ухмылялся.