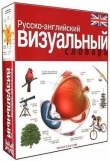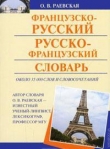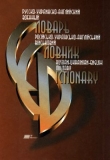Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– Доброе утро, товарищ Дарья. Уже хлопочете?
Дарья Шагалова промолчала. Полагаю, она и не слышала меня. Полагаю, она витала где-то в облаках. Я установил поднос на подоконник, и примостился рядом в ожидании, когда она изволит снизойти до моей ничтожной персоны. Я смотрел в окно на залив, пил кофе и покуривал. Наконец, Дарья изволила.
– Подайте кисточку, – велела она без отрыва от производства. – Любую, но тонкую.
– Кто рано встает, тому Бог подает.
– Что?
– Вы русские народную сказку «Гуси-лебеди» проходили? «Отведай мой кофе, спрячу тебя».
Она засмеялась, отставила птицу, и взяла с подноса кружку с кофе.
– Я другую историю помню, – оседлала Дарья любимого конька. – О том, как первых мужчину и женщину Господь из глины сотворил.
– Мусульмане полагают, что Аллах подобрал для сотворения какую-то особенную глину.
– Для всех подобрал, – Дарья со знанием дела перечислила варианты. – В Азии
Создатель вполне мог использовать желтую глину, в Африке черную, в Америке красную, а в Европе каолин.
– А голубую и зеленую глину? – проявил я живейший интерес.
– Вполне. Имеется Кембрийское голубое месторождение. И недавно вскрыли зеленый пласт в Корочанске.
– Геи повсюду. Согласен. Хотя насчет зеленых человечков я, по совести, сомневался. Но теперь конечно. Если Корочанский пласт.
Я покинул студию, обремененный грузом бессмысленных знаний, и снова полез на крышу института. Я надеялся высмотреть каких-либо рыбаков из Казейника.
Перспектива грести в поселок на дверной коробке не особенно меня радовала.
Рыбаков с утра хватало. Кто на челноке с багром, кто на плоту, сплетенном из бревен и ящиков. Какая-то шустрая артель промышляла на баркасе с лебедкой.
Удили мебель, одежду и прочую хозяйственную утварь. Но все как-то в крайнем отдалении. С полчаса я прошатался по крыше, проорал, охрип, и положил уже рассчитывать на себя, когда набрел на отличную резиновую лодку с мотором.
Место ее швартовки у оконной рамы нижнего этажа я раза четыре проходил. Стало быть, лодка причалила, пока я на другом краю вел односторонние переговоры с командой баркаса, поймавшего крупный шифоньер. Шифоньер, клюнувший на якорь лебедки, сопротивлялся. Артельные суетились, мешали друг другу, и крики мои, усиленные маханием бинокля, отзвучали вхолостую. Не было ни гроша, да вдруг целковый. Соблазн угнать моторку был велик. Я уже начал разоблачаться, чтобы сбросить в нее одежду, и захватить ее самым пиратским образом, нырнувши с крыши, как задался вопросом: а где управляющий? Управляющий лодкой мог приплыть только к Дарье. А, значит, или муж ее Зайцев, или бес его знает кто. В поселке уголовников хватало. Так и так получался свинский поступок. Бросить в беде гостеприимную Дарью, или же угнать у ее супруга транспортное средство было бы низостью от меня.
Надевая пуловер, я поспешил спуститься в мансарду. Интеллигентного вида юноша в очках и с родинкой на шее бережно выкладывал из портфеля пакеты, завернутые в масляную бумагу. Пакетов я два начитал. Дарья один развернула и поцеловала юношу в щеку.
– Ты прелесть, Зайцев. Семга. Слабосоленая.
– На комбинате премировали, – юноша кончиком пальца выровнял очки на переносице. – За передовую статью «Ренессанс окружающей среды»
Юношу я узнал. Юноша оказался тот самый, что интимно беседовал с Шуриком Хомяковым в «Нюрнберге». «Зайцев, стало быть, – идентифицировал я супруга Дарьи Шагаловой. – Главный редактор многотиражки. Золотое перо Казейника».
На столе, как подтверждение, лежал свернутая надвое газета. Первой на мое присутствие откликнулась Дарья Шагалова.
– Знакомьтесь, Макисович, – представила Дарья спутника жизни. – Зайцев. Мой гражданский муж.
– Вижу, что не военный.
Зайцев так же узнал меня, судя по неприязненному и настороженному взгляду. Заставши меня в собственном доме, Зайцев был, как мне показалось, напуган. И точно разочарован. А я уже подошел к нему вплотную. Редактор скривил губы и подал мне вялую руку, испачканную маслом.
– Зайцев.
– Дед Мазай, – пожать руку мужчине умнее, добрей и привлекательнее себя почитаю за честь, даже если она рыбой воняет. – Ваша лодка под окнами?
– Это Максимович, – Дарья поспешила с комментариями. – Бывший сотрудник института. В командировку приплыл за лабораторным оборудованием.
– Это не Максимович, – гладя в сторону, редактор нащупал на крючке вафельное полотенце, и вытер ладони. – Это монах из поселка.
– Вы монах? – Дарья укоризненно посмотрела на меня.
– Монах, – отозвался я. – В черных штанах. Отвезите меня в поселок, Зайцев. Я вам заплачу.
– Из награбленных денег? Ты налетчика пригрела, Дарья. Мне стыдно за тебя. Он позавчера «Нюренберг» ограбил в присутствии роты вооруженных славян. Участкового Щукина зарезал. У Агеева отвертку отобрал. Сто двадцать тысяч рублей унес деньгами, да водкой. Дарья как стояла, так и села на стул.
Я почувствовал, что она вот-вот расплачется. Но она выдержала характер. Она терпеливо ждала от меня объяснений, каких, однако же, не последовало. Я не намерен был ее в чем-то разубеждать. Я не совершал того, что приписывал мне Зайцев, и не набивался в Максимовичи. Как и в монахи, прошу заметить.
– Ты спала с ним? – уши Зайцева вдруг зарделись. – Почему на нем кофта моя наружу внутренней стороной?
Пуловер его я, действительно, напялил в спешке наизнанку.
– Он взял тебя силой?
Зайцев истерично всхлипнул, как-то по-детски топнул обувью, и кинулся на меня с кулаками. В рукопашных поединках редактор не был силен. Я легко уклонялся от его хаотичных попыток заехать мне по физиономии. Он впустую перемол кучу воздуха, постарался боднуть меня затылком в живот и расколотил занимавшую угол мансарды фарфоровую вазу. Зайцев посидел в своем углу, восстановил дыхание, и снова ринулся в атаку. Уверяю вас, ничто так не поощряет агрессию, нежели как пассивное поведение жертвы. На исходе четвертого, приблизительно, раунда Зайцев удачно лягнул меня в больное колено. Короче, надоела мне этот честный бой. Без особенного размаха я саданул ему в челюсть, и Зайцев укрылся под обеденным столом.
– Послушайте, Зайцев. Вы отдаете себе отчет, насколько может быть опасен человек, который грабит с отверткой винные магазины?
Он промолчал, буравя меня из-под стола взглядом, исполненным лютой злобы.
– Тогда отдайте мне ключ зажигания от моторки.
– Двигатель стартером запускается, – угрюмо ответил редактор. – Хотите еще и угон в свою автобиографию внести?
– Хочу, – подтвердил я свои намерения. – И хочу, чтобы вы уяснили, Зайцев: своей автобиографии не бывает. Бывает своя биография. Или автобиография. Но как вы редактор, вы могли этого не знать.
За бессмысленной возней с редактором, я совсем позабыл о присутствии его благоверной. Так она тихо себя вела. Оказалось, она убивала время за чтением газеты.
– Вот же. Здесь опечатано происшествие, – Дарья зачитала вслух криминальную выдержку. – «Эта жалкая тройка матерых злодеев заранее спланировала момент, когда в «Нюренберге» останется мало народу. Каждый из них сыграл свою роль в трагическом фарсе, разыгравшемся на виду полусотни очевидцев. Славянский иуда Агеев, осквернитель хоругвей и заповедей ордена, прикинувшийся паршивой овцой среди стада, зарезал в туалете милиционера Щукина, переоделся в его мундир и ограбил кассу магазина в предварительном сговоре с так называемым продавцом Филипповым. Последний отброс этой комедии масок, некто Флагман из бюро ритуальных услуг цинично выносил награбленные деньги в гробу с телом убитого Щукина, когда подоспевший наряд анархистов задержал всю шайку в непосредственной близости от места преступления. Магазин «Нюрнберг», известный широким потребителям как лидер продаж лучшей в мире водки «Rosstof», создаваемой по утраченным русским рецептам из зерна высочайшей отчистки…». И так далее. И подпись: главный редактор Евгений Зайцев. Дарья отложила газету.
– Как же ты говорил, Евгений, что Максимович убийца?
– Это политика, Даша, – Зайцев покинул свое укрытие, встал и отряхнул испачканные пылью брюки. – У духовенства в Казейнике высокие покровители.
– Прощайте, Дарья. Спасибо за хлеб-соль, – я положил ей на плечо руку, но Дарья стряхнула мою руку.
– Я отвезу вас, – Зайцев, опережая меня, устремился к люку.
– Останься, Евгений, – Дарья встала. – Мы должны выяснить.
– После выясним, – отмахнулся Зайцев. – Лодка за мной числится. С меня спросят. Я должен статьи писать, а не объяснительные записки.
Голова редактора исчезла в квадратном проеме. Я медлил. Дарья направилась к раковине, включила воду, и стала жестоко отдраивать залитую кофе медную турку. Я подошел к ней. Хотел что-то сказать. Как-то успокоить. Но как?
– Есть женщины, произошедшие от Лилит, – я снова тронул ее за плечо. – И есть женщины, произошедшие от Евы. Те, что от Евы, до конца дней своих плавают в кильватере своих мужчин. Те, что от Лилит, способны сами изменять свою жизнь, товарищ Дарья.
Она застыла. Я чувствовал, как напряглась ее спина. И вот она снова драила турку, будто хотела разбудить дремавшего в ней исполнителя желаний. Но, передумав, она развернулась, и прижалась щекой к моему чужому пуловеру.
И вцепилась в него ловкими своими пальцами.
– У меня дурное предчувствие.
– Пора бы ему объявиться, – сказал я, проведя ладонью по волнистым ее длинным волосам. – Пора ему объявиться, Даша. Ему бы давно пора объявиться.
– Как давно?
– Пять лет назад, – сказал я. – Пять лет и два месяца.
Я отцепил ее пальцы, и пошел прочь из мансарды, мастерской и, вообще, из института. Я его бросил. Профессия эколога утратила смысл. Слово «экология» занесено было мною в группу мертвый языков. Я занес его туда как инфекцию, способную поражать умы наивных домоседов, но никак не реалистов, совершивших паломничество в Казейник, обреченный смерти.
ЗВЕРЬЕ
Опередил я с умственным заключением, что зверье в Казейнике вымерло. Водилось, и еще как. Само собой завелось. С пол-оборота. Вой хищников и ржание травоядных заполняли Княжескую площадь, кода я продернулся через толпу, оцепившую лобное место у Позорного столба. Народное вече присудило злодеев, обчистившим «Нюрнберг», к схватке с опасными бритвами. Зрелище привлекло самые разные общественные слои. Поголовье жаждало возмездия скотам, посягнувшим на платный алкоголь. Шерстяные рыла правозащитников шевелились, жадно втягивая запах пролитой крови. Пивные речники, анархия, славяне, голодранцы, купечество, сотрудники производства, и какие ни есть подноготные сословия плечом к плечу встали на оборону частной общественной собственности. Это уже не воспринималось мною как противоречие. За компанию с Перцем и лодочником я уже достиг точки духа, в которой противоречия не воспринимались. Мы уже выпили по три чайника на рыло. Народную мудрость основали века народной глупости, уважаемый читатель. И если такая мудрость декларирует, что дорога в ад благими намерениями вымощена, стало быть, ими она и вымощена. Не битым кирпичом по две тачки за башмаки, не злодейством, в коем на исповеди каются, но благими намерениями. Возможно разве нам покаяться в желании облагодетельствовать и послужить устройству чужой судьбы? Назваться груздем? Что же здесь? Тьма в конце тоннеля, и более ничего. Забрезжила эта тьма, когда я запрыгнул в лодку редактора. Намерение вернуться на сушу и умотать как-либо из Казейника без нахрапов. Осмотрительно. С картой местности. Словом, подготовлено умотать. Итак, я запрыгнул в лодку. Зайцев дернул зажигательный шнурок с такой силой, точно зуб кому-то стремился выдрать, а не двигатель внутреннего сгорания завести. Дернул, и сел на место кормчего. Мотор стрельнул, застучал, и лодка понесла нас к берегу. Под моросящим дождем я прилично устроился на скамеечке в носовом отсеке. Тем более, что резиновые сапоги с плащом, сбежавши с крыши в мансарду, я так и не снял. «И не стану, – я напустил на глаза капюшон пониже, да и привалился к упругому борту. – А редактору впредь окажу любезность. Покрою нанесенный ущерб. Компенсирую. К примеру, избавлю его от излишних носильных предметов. К примеру, от плаща и сапожной пары».
– О чем вы говорили? – справился у меня Зайцев, глядя вбок.
– О вас говорили. Она верит вам. Удивите ее, Зайцев. Мотайте отсюда с ней пока не поздно. Советую взять на карандаш.
– Вы с ней спали?
– Возможно.
– Как это возможно? – он бросил от возмущения руль. – Или вы спали, иль нет!
Почти нагнавшие нас ловцы шифоньера, всей артелью навалились на добычу. Изворотливый шифоньер норовил ускользнуть, и артельщики с ним боролись. Плевали они на то, что наше судно, изменивши курс, решило их баркас отсечь от берега.
– Возьмите руль, Зайцев. Из вас начальство за лодку вычтет.
Зайцев поспешно схватился за рулевой отросток. Опасность миновала.
– Спал, – честно признался я Зайцеву. – Спала ли ваша гражданская половина, у нее извольте запросить. Я с ней в разных комнатах сожительствовал.
Зайцев скорчил презрительную мину. По всему, успокоился. Я развернул газету «Kaseinik Zeitung», и прочел верхний абзац статьи под заголовком «Возрождение Казейника»: «Последние разработки лабораторий российско-немецкого концерна «Франкония» на атомарном уровне дали сенсационный результат, позволяющий
в текущем году ожидать кардинальных изменений экологического климата не только в Казейнике, но и по всей планете…». Я глазам своим не верил.
– Насчет всей планеты, – спросил я Зайцева. – Это что? Зашифрованный шантаж или прямая угроза международному сферическому сообществу?
– Вы не догоните, – надменно ответил редактор.
– Я постараюсь. Когда я стараюсь, иной раз у меня получается.
И я постарался. Я стал читать более вдумчиво: «А что же происходит прямо здесь и сейчас? Казейник, по сути, реальное географическое образование, возродившее свою первозданную экологию не только на словах, но и на практике. Ренессанс окружающей среды неизбежен. Мы не какой-нибудь Суринам, где ежегодный уровень осадков достигает отметки 2 метра 30 сантиметров на равнинах. Как говорится: «голден трессен нихтс зу фрессен». Что значит: «галуны золотые, а покушать нечего». Мы дружно и добровольно отказались от всех видов транспорта, грязнящих атмосферу выхлопными газами. Но лишь ударная семилетка рабочих концерна, бросивших всю технику и людские ресурсы на уничтожение химических отходов, нефтепродуктов и прочих горюче-смазочных материалов, гарантировала нам ликвидацию последствий парникового эффекта прямо здесь и сейчас». Зайцев ошибался во мне. Я понял. «Значит, все-таки, предприятие утилизирует чужие отходы. Возможно, отравляющие вещества. Причем, без затей. Путем простого сжигания. Допустим, – прикинул я в уме, – отходы в Казейник доставляются по скрытым каналам. Открыв каналы, я открою дорогу жизни». Но логика событий подсказывала мне, что уже давно и в самом полном объеме доставлены отходы, и «Франкония» скоро закончит выполнять свои контрактные обязательства. А, закончив, отправится в небытие. Вместе со всем Казейником. Повестка дня оставалась прежней. Рвать когти. Я соорудил из газеты экологически чистый аэроплан. Погода по-прежнему стояла нелетная. Аэроплан плавно приводнился в залив сразу после запуска. Будь на его борту пассажиры, они бы выжили. И тут наползли на меня воспоминания о жертвах моего вчерашнего загула.
– Что светит Агееву и остальным?
– Совесть шевельнулась? – Зайцев шумно высморкался. – Капут им, святой отец. Попишут бритвами друг дружку в назидание потомству.
– Какому потомству? – крикнул я вслух. – Где вы потомство в Казейнике видели?
«Это их жизнь! – крикнул я молча. – Не моя! Они передохнут по любому!». Но Зайцев угодил прямо в яблочко. В Джонатан. В Золотой ранет, мать его за ногу. Что-то шевельнулось во мне, поднялось мутным осадком к самому горлу, точно издержки морской болезни. И я загнулся через борт.
– Позывы совести? – вдруг рулевой Зайцев подал заявку на проницательность и остроумие. – Пустое. Совесть вашу ни что не укачает, святой отец. Не укачает, не убаюкает. Похоронят вас пережитки. Мне-то легко. Я шкура продажная. А вы так запросто не утретесь. Он с интересом наблюдал, как я утираюсь рукавом дождевика. «В яблочко, Зайцев. Так держать. В кадык меня, самонадеянную суку», – внутренне похвалил я редактора. Каково было партизанам, когда за расстрел какого-нибудь эсэсовца до полусотни мирных заложников казнили? Худо им было. И окрепло во мне еще одно благое намерение. Сдаться на милость славянам.
– Водка есть? – спросил я редактора.
– Самогон. У Глухих на пристани.
До пристани оставалось метров двести. Всего ничего. «Потерплю, – я взял себя в руки. – Потерплю, напьюсь и сдамся». Пристань, сколоченная из досок, под которыми плескалась вода у потемневших столбов, еле тащилась к нам. Зайцев, соблюдая правила движения, заглушил мотор. Лодка двигалась по инерции.
Встречал нас худощавый и лысый мужчина в перештопанной тельняшке, в семейных трусах и домашних тапочках. Татарин, судя по физиономии.
– Отдай швартовку! – крикнул татарин Зайцеву.
Зайцев еще раскачивался, когда я уже выпрыгнул на причал.
– Где глухие? – спросил я татарина.
– Почему глухие? – татарин выпрямился, навертевши линек на железную скобу.
– Самогон у глухих на пристани.
– Торговля спиртным в отведенных местах, бачка.
– Ну, так отведи.
Почему-то мы сразу на «ты» пошли. Словно сто лет знались друг с другом.
– Поступай за мной.
Бросивши Зайцева отвязывать линек, мы поспешили к «Морскому вокзалу».
Так, следуя вывеске, звался ржавый буксир, списанный на берег по ранению. Ниже ватерлинии, расцарапанной матерными словами, в буксире зияла рваная пробоина, задернутая брезентовой портьерой. На борту, оснащенном дряблыми автопокрышками, имелся ввинченный по углам пожарный щит. На щите висел пожарный меч с обоюдным клинком и отполированной деревянной рукоятью. Принимая в расчет установленную рядом искрошенную колоду и обилие щепок, можно было догадаться, что мечом татарин колол дрова.
– Удобно, – татарин отогнул край брезента. – Так по сходням карабкайся, потом вниз карабкайся. А так зашел в трюм, и баста. Сразу кают-компания.
Я зашел в трюм, и баста. Кают-компания резалась в домино за круглым столом. Душа кают-компании альбинос месил костяшки. Могила при виде меня буквально взвился. Его партнеры так же поднялись на ноги.
– Ты куда пропал, святой отец? А мы тебя обыскались! – Могила тройным прыжком догнал меня, облапил, смявши мою слабую попытку оттолкнуться, и вовлек в кают-компанию. Старший полицай Митя и эсэсовский унтер Перец тоже как будто мне обрадовались.
– Покурить вышел, – раздраженно объяснил я подонкам свое отсутствие
– Оцени, кто с нами, урки! – Альбиноса распирало. – Я еще утром Перцу плешь проел: такую игру духовенство на баб не меняет! Такую игру наш капеллан черта с два променяет! Глухих, тащи по чайнику на печень! Обмоем нашего капеллана! Глухих, ты где?
Русско-немецкий татарин Герман Глухих уже нес к столу заварные чайники.
Игроки заново расселись. Литых пластиковых стульев оказалось четыре. «Сомнительно, что для Германа четвертый подвинули, – я исподлобья глянул на кают-компанию. – Значит, ждали меня, псы. Но виду не подают».
– Что за баба? – закидывая семечки в пасть, оживился Митя.
– Это наше внутреннее, – проявил альбинос деликатность. – Опечатано. Выпьем за капеллана, братья. Орден подушно ходатайствовал. Кают-компания приложилась к чайникам.
– А ты что, святой отец? – Могила сунул мне чайник в руки. – За тебя гуляем! Обмытое офицерство пьет до дна!
И я выхлестал из носика чайник самогона. Сам надраться хотел. Самогон у Глухих давал сивухой, но в градусах водку обходил.
– Формальности остались, – зашептал мне на ухо Могила. – Ритуал посвящения, присяга там, постановка на довольство, сапоги тебе хромовые. Но представление уже подписано.
Я закашлялся, и Перец треснул меня ладонью по спине. Представление. Охотник был Могила до представлений. В части представлений он бы драматический театр объехал на вороных.
– Я деньги принес.
Выкладывая на стол груду мятый купюр, награбленных в «Нюрнберге», я уже приготовился к развязке. Полицай и эсэсовцы обменялись взглядами.
– Кон по косой? – зажегся Могила.
– Мне слабо, – Митя-полицай, глотнул из чайника и вытер губы черным носовым платком. – Я таких бабок не имею.
Перец тоже поскучнел.
– Ладно, – сдался Могила. – Прячь капеллан свои бабки. Слабо щеглам.
– Это из «Нюрнберга» деньги, – уже сообразив, что Митя не в теме, а эсэсовцы мнут историю, все же я уперся. – Из кассы деньги. Туча фрицев наблюдала, как я Филиппова с голой отверткой чистил.
– Ты, капеллан, погулял вчерашнего дня со своей Дарьей крепко, – альбинос отвернулся. – Грех тебе.
– Это с которой из них? – Митя достал кисет, и обстоятельно взялся свертывать козью ногу. – Часом, не с половиной Зайцева?
– Половина Зайцева Дарьи Георгиевны не стоит, – высказал свое мнение татарин, сидя на пуфике, гревший босые ступни в тазу с кипятком. – И весь Зайцев ее не стоит. И полтора Зайцевых ее не стоят.
– Тебя звали? – ощерился альбинос. – Лечи ревматизм, и заглохни, татарский шкипер.
Собравши купюры, он сунул мне их обратно в боковой карман дождевика. Перец отчужденно месил костяшки домино. Полицеймейстер тоже отвлекся трясти свою бензиновую зажигалку.
– А ты, капеллан, чужой грех на душу не бери, – посоветовал мне Могила. – Опять гордыня выходит. Ты на брата Перца вон равняйся. Он тоже ночью дневального загнал на перекладину. Дедовщину в казарме развел, мотыль отмороженный. Теперь два наряда мотает вне очереди. Третий хочешь?
– Обойдусь, – буркнул Перец.
– Потому, что не гордый, – объяснил мне причину его отказа Могила.
– Славяне должны подтягиваться, – забубнил вдруг Перец. – И отжиматься. Каждый по нормативу. Двадцать раз до подбородка. Нам Казейник чистить от николаевских козлов, а у брата Семенова пузырь до земли. Я его по-хорошему умолял: «Подтянись хоть раза три, баклан ты позорный».
– Да как он тебе подтянется? – Могила, взбеленившись, треснул унтер-офицера по уху с такой силой, что у жилистого гиганта зубы стальные лязгнули. – Как он подтянется, когда ты его за шею подвесил, вредитель?
Митя, свернув козью ногу, так и застыл с ней. Заслушался. Дошедши, что лишний сор уже из казармы выметает, альбинос потянул из голенища заклеенный мятый конверт.
– Беда, – вручая Мите конверт, эсэсовец Могила тяжко вздохнул и размашисто перекрестился. – Дневальный-то наш Семенов-то. Как недоглядели? Взвесился. Руки на себя наложил Семенов. Грех большой. Маляву оставил полиции. «Прошу винить славянина Агеева, склонявшего меня» и так далее.
– Разберемся, – Митя убрал конверт за пазуху, и прикурил от спички русский джойнт. – Добрая махра. Не то, что. Вот вы, святой отец, отвертку называли, с какой отверткой магазин как бы чистили. Описание имеете? Крестовая она, шлицевая, часовая?
– Голубая. С прозрачной ручкой.
– Верно, и скол еще на ней, – добавил эсесовский унтер. – Агеев ее в ПТУ-114 зажулил. Мы с ним ремесло в одной группе оттачивали.
– Про скол не помню.
Что-то заклубилось в мозгах полицая. Задумался полицай.
– Где отвертка? – спросил Митя.
– Отвертку Виктория в зонтике унесла. Вика-Смерть. Вы ее знаете, – поторопился я укрепить его подозрения. – Я ей зонтик отверткой распорол. Там и застряла.
Слова мои были встречены дружным ржанием. Даже босой татарин усмехнулся.
– Здоров ты, святой отец, пули отливать, – у Могилы на глазах от встряски слезы выступили. – Мы-то ее знаем. Тебя бы уже на кладбище с фонарями искали, если бы ты плюнул рядом с ней.
– Ладно, – Митя открыл бумажник размером с кожаную думку. – Нет орудия преступления, нет и состава. Хотя оговор, конечно, тоже карается.
– Отмолим, – заверил его Могила, доставляя на стол пачку замусоленных ассигнаций, перекрученный резинкой. – Всем орденом на коленях отстоим перед святыми угодниками.
– За Агеева пятьдесят ярославских, – полицай отсчитал из бумажника стопку тысячных купюр.
«Бабок он таких не имеет, – полезли у меня досадные мысли в виду Митиных барышей. – Тоже охотник до представлений. Все спектакль. Еще следствие развел, гадюка. «Крестовая отвертка, часовая». Скучно им что ли, гаерам?».
– Сто тысяч за Филиппова, – Могила подтолкнул пальцем свою финансовую пачку.
– Отвечаю, – поразмыслив, полицай отсчитай из бумажника дополнительные деньги. – Глухих, заворачивай костыли варить. Прими ставку.
– А ты, Перец, присмотри за капелланом, чтобы святой отец народ не смешил на Княжеской. Самогона выпейте, – наказал Могила унтеру.
Оба игрока, покинувши кают-компанию, вышли из трюма.
– Куда это они? – я обернулся к Перцу.
– На площадь. За экзекуцией проследить. Там сегодня крутой замес. Филиппов с подельщиками будет резаться у Позорного столба. Сечешь, какие деньжищи?
Унтер с завистью ощупал взглядом груду банкнот, прибираемых татарином со стола, и, затем, потащенным куда-то вглубь трюма. Герман вскоре обернулся со связкой лука на шее, тремя заварными чайниками, стопкой пиал, и банкой расчлененного лосося. Татарин обстоятельно расставил пиалы и заварил в них самогон.
– За погружение, – Герман поддел вилкой кусок лосося, выпил и закусил.
– Почему не за всплытие? – также выпив, я присмотрелся к татарину.
– Казейник погружается, – отвечал Герман, рассекая перочинным лезвием луковицу. – На подводном буксире будем плыть. Пузыри будем пускать.
– Насчет пузыря, – Перец встал, раскачиваясь, как перевернутый маятник. – Чтоб тихо здесь. Кто из катера сунется, попишу.
Унтер уже был пьян до сумерек. Но приказ командования помнил четко.
Пока он опорожнял на пристани свой трудоемкий пузырь, мы с татарином успели потолковать.
– Женат?
– Зачем?
– Трусы на тебе семейные.
– Сожительствую.
– Мне на площадь надо, Герман.
– Одним ударом дерева не срубишь.
– Мне надо, Герман.
– Умный понимает, глупый слушает.
– Я тебя выслушал.
– Как хочешь.
Перец ввалился в трюм, путаясь в брезенте, матерясь и отмахиваясь.
– Темную? – пропыхтел унтер, когда Герман освободил его из портьеры. – Кому? Перцеву? Отоварю!
– Смирно! – приказал я унтеру как старший по званию.
Перец шатнулся, и замер по стойке смирно: локти полусогнуты, ладони по швам.
«Палками их, что ли, муштруют?», – удивило меня такое дисциплинарное послушание унтера.
– Выйти из строя! – отработал я командирским голосом. – Два чайника вне очереди!
Эсэсовец послушно допивал второй чайник, когда Герман вернулся к столу с чугунной сковородой, и сзади накрыл ей унтера по затылку. Связавши унтера канатом так затейливо и ловко, что Перец и шеи не мог свернуть, а мог только ворочать глазами, когда я выплеснул на него тазик с водой от ревматизма, Герман посоветовал мне расслабиться.
– Для собранности.
И подал пример, осушив пиалу.
– На площадь не прись, капеллан, – задушенным голосом предупредил меня эсэсовец. – В бритвенной полосухе как ноготь состригут.
– Тебе что за горе? – я закусил самогонку луком.
– Мне разбор. Я присягой связан.
– Концом ты связан, – объяснил ему Герман истинное положение. – Хочешь, дергайся, хочешь, я тебе вслух почитаю.
– Это у него конец такой? – унтер дернулся, и скосил зрение, пытаясь разглядеть свои путы. – Славяне баяли, да я не поверил.
– Вы очень испорченный человек, Перцев – осудил я эсэсовца.
– А тебе, мусульманин, я лично собью, – не унимался Перец.
– Двадцать палок вне очереди, – вынес я унтеру взыскание.
– Германа замени, святой отец! – унтер напрягся так, что у него жилы на шее вспухли. – Очко-то не резиновое!
– Тебе что будет, Герман? – пнув эсэсовца по ребрам, я скосился на Глухих.
– Что мне? – лодочник набил трубку, прикурил, рассосал, и выпустил облако смердящего дыма. – Мы с Викой сожительствуем. Анархисты ее страшатся.
Да и Могила обходит сзади.
– С Викторией?
Признание лодочника застало меня врасплох. И хотя о слабости бывшего цензора к мужским крупнокалиберным достоинствам из прошлого знала вся литературная Москва, но все же как-то.
– Отставить надо Германа, капеллан! – пыхтел, ворочаясь, Перец. – Изувечит!
– Наряд вне очереди, – отмахнулся я от унтера. – И как тебе?
– Нежная баба, – попыхивая трубочкой, прищурился татарин. – Тельняшку заштопала. Белье стирает. Нормально.
– Ну, пора мне, Герман, – я выпил грамм сто пятьдесят прогонных, чтобы в ногах не ослабеть.
– Какой наряд? – притихший, было, унтер снова заерзал. – Какой наряд мне после Германа?
– Женский.
Я кивнул хорошему татарину, и спешно покинул трюм, опасаясь, что передумаю.
Когда я с наброшенным на лоб капюшоном кое-как пропихался к Позорному столбу, колодник Филиппов, уже полосовал опасной бритвой колодника Агеева. Продавец ловчее лезвием фехтовал, да и злее. Короткими выпадами, отскакивая, он разил наискось Агеева в туловище. И обратно же, Агеев пятился. Он был страшно бледен, и трясся до поджилок, наугад кромсая бритвой пустоту. Третий назначенный грабитель некто Флагман, известный мне из газеты, валялся в пыли, обливаясь кровью. Горло несчастного гробовщика было почти отхвачено до шейных позвонков. Зверье вокруг бесновалось, поддерживая дуэлянтов диким ревом. Плотоядный Митя с альбиносом азартно дергались в переднем ряду и, кто на кого деньги поставил, воплями гнали своих бойцов.
– Заделай его, Филиппок! – орал Могила. – Скис любитель! Раза в кадык ему, и амба! Магазин пойдешь открывать!
– Рукой прикрывайся, тормоз! – охрипший полицай отчаянно подсказывал Агееву, как отбиться. – Левой кабину прикрой! И под хобот снизу руби!
Агеев, поскользнувшись в луже крови, упал на брюхо. Продавец оседлал его и, вцепился в кудри, задрал подбородок обреченного славянина. Уже и лезвие в пальцах его блеснуло под дождем. Могила, осклабившись, уже победно взметнул руки. Уже смолкло зверье, пораженное ожиданием развязки. «Замедление смерти подобно», – я выхватил из полы арматурный прут, взятый в трюме, и наискось рубанул им плечо Филиппова. Продавец только охнул, и выронил бритву. Прочая тишина осталась. Я смахнул капюшон, и по стадам пробежал невнятный ропот.
– Я водку грабил! – закричал я обрывками. – «Нюрнберг» ограбил! Куйте меня в поножи наместо Агеева! Моя вина, олухи! Имел я вас!
Среди атмосферы бездействия прутом я намерился сбить замок с колодки Агеева, в лице которого утвердились оторопь и горькое недоумение, должно быть, еще с той поры, как я разоблачил его в туалете. Полицай Митя очнулся, и во всю приступил к исполнению обязанностей. Пока мы с ним сцепились за обладание арматурой, в замешавшуюся массу вклинился Могила.
– Опять в кураже, преподобный! – пожурил он меня во всеуслышание. – Братья! Рассолом отпаивать святого отца!
Отряд славян в купе с Могилой потащил меня за ноги прочь, но толпа уже не пускала. Поголовье оттеснилось, давая проход какому-то всклокоченному типу.