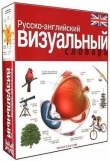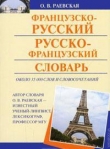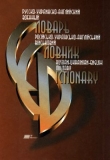Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
ДОМАШНИЙ АРЕСТ
– Эрст денкен, дан ленкен! – материл на смешанном языке Дмитрий Кондратьевич отрядного командующего, когда мы с Вьюном покидали магистрат. – Это что за шведская столовая, многочлен тебе в дупло? Голодные массы провоцируешь, Веригин? Сдайте рашпиль!
Анархисты суетливо разбирали по карманам вареные яйца, резаный хлеб и плоские банки со шпротами. Разжалованный Веригин, спасая офицерскую честь, ломал о колено рашпиль.
– Ладно, оставь, – махнул рукой полицмейстер.
«Знатно формулирует, – спускаясь по ступеням, перевел я на свой текущий адрес немецкую поговорку, – Сначала подумай, потом руководи». Метаться по Казейнику в поисках выхода, да еще и Вьюна гонять вхолостую далее было позорно и бессмысленно. Настал черед пораскинуть мозгами. Склеить что-то авантажное из мелких черепков информации, подхваченных мною за четверо суток моего брожения в Казейнике. «Этвас ист бессер ден нихтс», – как, после заметили сторожа порядка , засадивши в острог славянского унтера Перца, – «Лучше мало, чем ничего». Склеивать я начал с анализа прошлых контактов. Хомяк, приятель школьных лет, шапочно был знаком с прожектером Семечкиным, но Словаря только на моих свадьбах видал, а с Викторией Гусевой и вовсе не встречался. Словарь, военный мой командир и друг на долгие лета после демобилизации, напротив, когда-то ударял за цензором Викторией Гусевой, но про Семечкина слыхом не слыхивал, а Хомяка вряд ли помнил. Вика-Смерть, моя товарка по институту и наперсница по жизни советского периода, отлично знала Колю Семечкина, отдаленно Словаря, и решительно не имела понятия кто таков прилипала Хомяк. Коля Семечкин, соратник мой по диссидентству, общался более-менее тесно с Викой, и Шурика встречал от случая к случаю, но с тем же Словарем ему прежде столкнуться не довелось. А главное, ничего общего эту влиятельную в Казейнике четверку, кроме близких со мною прошлых отношений, никак не связывало. Все они попросту вращались на разных орбитах. Допустить, что сюда они съехались по какому-то нечаянному совпадению, мой рассудок отказывался. Собрать их вместе был способен лишь Анкенвой. Фигура вне поля зрения, для чего-то затянувшая мою скромную персону в свою глумливую игру. Все мои догадки были, однако, сырыми, как здешняя атмосфера. Кроме, пожалуй, вывода, извлеченного мной из реакции политических лидеров Казейника на мое же вызывающее поведение. Очевидно, имелся четкий наказ Анкенвоя спускать мне любую выходку, любое нарушение общих правил, любой скандальный поступок. Казалось, Анкенвой мне выписал индульгенцию на всякий грех. Иначе бы его инквизиторы давно уже меня распяли, колесовали, переломали мне кости железной палкой, сожгли бы меня на постепенном огне, и развеяли мой прах над Княжеской площадью. Больше того. Казалось, дан еще и наказ оберегать меня от случайных стычек с аборигенами, для чего, собственно, и раздулся успешный миф о моей святости. Словом, я был неприкасаем. Нечто вроде священной коровы. Казалось, Анкенвой занес меня в красный фолиант и так занес, точно какую-нибудь сибирскую язву. Казалось, начни я выкашивать и николаевских, анархистов, а хоть бы и славян, они только шапки снимут по убитым, да тот же полицеймейстер, не моргнувши, выразит свое общее мнение: «Допустимые потери. Нормально». И вдруг подумалось мне, того-то и ждет Анкенвой. Когда смоют мертвые воды Казейника с меня все незапятнанное, что осталось в моей периодической таблице идеалов. Когда я сдамся, понявши, что нет мне пути назад. Когда я запью и сорвусь. Потеряю чувство реальности. Когда я, подобно Вию навыворот, опущу мои веки и увижу врага моего. И обрушусь я на врага моего, гневом ослепленный, как на котенка пятой осенью. Кем окажется тот котенок? Могилой, Перцем, Викторией, Словарем или безобидным, в сущности, Хомяковым? Это не важно. Важно, что я вышибу из него дух. Такой и себя на кон поставит. Такому Анкенвою сорвать с меня человечью маску равно, что банк сорвать. Может, он азартен. Или выигрыш, или к черту все. Допустим, когда я вызвался Агеева заменить у позорного столба, как удачно Коля Семечкин вылез. Могила с Митей инструкции хозяина придерживались, а Семечкин проявил инициативу. Почему? Да потому, что шанс. Могила с Митей не знают меня, а Семечкин знает. Семечкин видел, как я на Ленинградском рынке одним ударом лицо хулигану разбил. Да так разбил, что он до приезда милиции собственной кровью умывался. А дай мне отвертку в руки, шило, да еще пьяному, когда инстинкты бушуют, шанс? Конечно, шанс. И если бы выгорело, Анкенвой Семечкину такие премиальные заплатил бы, что можно бы и к жене молодой вернуться в Сокольники. И зажить сам-барин: доброе пиво с утра, к вечеру и джин-тоник, и на курорт на Сейшельские островки тоже не дурно. Здоровье и гражданство поправить. То-то он вспыхнул, и зверинец на площади зажег. Даже какой-то Маратов закон из котелка своего точно кролика вытряхнул. Любопытно, отчего это Николаю на ум пришла именно Шарлота Корде? Мне известно, что Семечкин всегда о бабах думал. Но почему не Фани Каплан? Верно от того, что Корде своего «друга народа» зарезала хорошо, а Каплан своего плохо застрелила.
– Хотя скотине на Княжеской площади, что Марат, что Кондрат. Кричи, кого хочешь.
– Разница есть. Марат Зеленин первым как-то вызвался к позорному столбу
за старую женщину, – Вьюн спустила меня на землю. – Ее приговорили за кражу мешка из-под картофеля. Против нее были прикованы двое сильных грузчиков.
Марат вызвался и замочил их. Возник юридический прецедент.
– Откуда знаешь?
– Дядя поделился, – Вьюн чихнула. – Устные мемуары. Он потом этого Зеленина тихонько пристрелил за изнасилование и убийство. Но в Казейнике Марат все равно ежегодно празднуется. Двенадцатого мая.
Мы добрели уже до безлюдного переулка, где почти все дома были разобраны до фундаментов. Лишь копченый битый кирпич, да обугленные бревна оставили на развод блошиные маклеры. Давно, видать, сгорели строения. Прежде, чем дождь пошел.
– Присядем?
– Здесь в ста метрах пешком инвалид знакомый буржуйку стережет. Учитель географии Марк Родионович, – Вьюн, продрогши до костей, глянула на меня вполне сурово.
– Присядем.
Не дожидаясь ее согласия, присел я на битые кирпичи. Вьюн постояла, и села рядом. Я накинул на нее мой чужой дождевик. Она не вступала в сопротивление. Видать, совсем ей скверно уже сделалось. Но пока я не склеил все, что собрал, мне требовалось уединение. А у Марка Родионовича уединение достигалось разве что в общественной уборной. Итак, сидя на битых кирпичах, я продолжил склеивать. Получалось примерно следующее. В автобусе Могила и его шестерки всерьез хотели меня прикончить. Но их остановил Гроссмейстер Словарь. Значит, Могила тогда еще не знал об инструкциях относительно меня, или они разыграли комедию. Скорее, разыграли. Вряд ли Могила особенно дрожит перед Словарем. После отъезда автобуса с конечной остановки что было? Словарь показал мне плацкарту. «Сбор на плацу», – сказал мне Словарь. Плац, должно быть, где-то рядом с казармами славян. Туда я еще не добрался. Что дальше? Прежде, чем «срезать в обход», он к магазину меня настойчиво подталкивал. До «Нюрнберга» я добирался часа два с половиной. Там я застал капитана Щукина, и это важно. Щукин успел мне сказать, что ход из Казейника есть. Кое-кто знает о нем. «Найдешь меня завтра, сообщу подробности», – таковы были его последние слова. Потом в наш разговор вмешался Могила. А через полчаса он зарезал участкового. Могила давно мог это сделать. Значит, наш разговор с капитаном прослушивался. Кто же знает о ходе из Казейника? Возможно, гений Максимович. Щукин долго прятал Максимовича у себя. В том же погребе. Или в другом каком-то погребе. От кого? Наверняка от Анкенвоя. Анкенвой эколога хотел позарез. Для чего похитили племянницу Щукина. Что сказал участковый Вьюну про лаборанта? Если б не Вьюн, шиш бы немцы гениального химика в свою лабораторию получили. Значит, Максимович теперь где-то есть. Где-то химичит в заводских корпусах.
– Нам нужен свой человек в охране.
– Что?
Дремавшая Вьюн соскользнула с бревна, но я успел подхватить ее за шиворот.
– Мы еще возвращаемся в Москву?
– Да.
– Нам нужен свой человек в славянском ордене.
– Ты свой человек.
– Нужен из тех, кто охраняет заводы концерна.
– Прямо сейчас?
– Нет. Прямо сейчас мы идем к чертежнику. Я у него под арестом.
– Хорошо. Там печка. Я тоже хочу под арест.
Минут через пять мы приступили к стенам уже знакомого барака. От крыльца отлепился верзила с большим целлофановым пакетом в руке и алюминиевым коленом удилища, криво сунутым за пояс. Я узнал в нем валдайского славянина Лавра.
– Ты зачем здесь?
Лавр отвесил поклон, и ткнул в меня увесистым пакетом.
– Пожевать принес, батюшка. Выпить кое сколько. Двойной рацион.
– Ну, идем с нами.
– Нельзя. Я на посту. Могила хотел двоих отправить, да я отказался. На кой вам побег из тепла, да под сырость?
– Ну, как знаешь.
Я забрал у Лавра пакет с продуктами. Лавр подозрительно осмотрел мою спутницу, взлетевшую на крыльцо барака.
– А эта куда прыгнула? Она же из николаевской шайки.
– Обернулась. Она теперь служка в нашей часовне.
– Могила знает?
Я отвел великана чуть в сторонку, и посмотрел в его серые валдайские глаза, пытаясь прочесть работу мыслей. Мысли у Лавра, похоже, отдыхали. Похоже, я смотрел в глаза ребенка, принимающего на веру все, что взрослые говорят.
– Послушай-ка, Лавр. Здесь духовные планы, врубаешься? У нас церковь отделена от славянства. Могиле известно, что эта девушка племянница Щукина. Щукина подло грохнули в магазине. Ты помнишь, как Могила отреагировал?
Лавр взъерошил пятернею мокрые вихры, силясь припомнить реакцию воеводы.
– Он сказал выпить за упокой мусора Щукина.
– Примерно так. А потом? Велел он племянницу Щукина бросить на растерзание контре николаевской? Тебе известно, что эти козлы ее изнасиловать пытались?
– Сволочи. Могила знает?
– Послушай-ка, Лавр. Ты парень честный. И я плутовать не стану. У Могилы свои заботы, как думаешь?
– Ясно. Я в упор ее не заметил. Только ты мне грех потом отпусти за нарушение караульной службы.
– Я тебе сейчас отпущу. А не заметил ты ее зря. Девушка славная. Чемпионка Москвы в боях без правил. Ты присмотрись к ней, Лавр.
Он кивнул, и присмотрелся. Вьюн, согреваясь, высоко подпрыгивала на месте. Сотня косичек взлетала вместе с нею, как будто мелькал и пропадал в пелене дождя рыжий подосиновик.
– Еврейка?
– Тебе что за разница?
– А нам лекцию Могила читал на политзанятиях. Избиение младенцев.
– Во-первых, не все евреи младенцев избивали, во-вторых, избивавшие, опять же, избивали еврейских младенцев.
– Меня папаша в детстве тоже избил, – в голосе Лавра звучало понимание и сочувствие. – И потом еще бил.
– Тем более.
– Ну, я-то ему ответил рано или поздно. Когда в секцию тяжелой атлетики записался.
– Родителям принято отвечать, когда они строго спрашивают, – отпустил я Лавру и этот грех. – Но известно ли тебе, Лаврентий, что Христос еврей по матери?
– Врешь. Наша Иверская Богородица, что ли, еврейка?
– Именно. И сводные братья Царя Небесного. И апостолы. И композитор Шостакович.
– А Петр и Павел?
– И Петр, и Павел. И Андрей Первозванный. И Осип Мандельштам.
– Это как же российский флот плавает под стягом еврея?
– Хорошо плавает. Плавал, плавает и дальше поплывет.
– Ну, долго вы там? – крикнула Вьюн.
– Учиться тебе надо, Лаврентий, а не на лекции ходить.
Я хлопнул богатыря по плечу, и оставил его на улице.
По счастью, Марк Родионович оказался дома. Тотчас мы с Вьюном уже засели у раскаленной печки. Мы выставили перед ней растопыренные ладони, точно пытались ее остановить, и от нас валил пар, точно от славных камчатских гейзеров. Марк Родионович суетливо разбирал мешок с провиантом.
– Я уголь нашел. На карьере открылся пласт. Геологические сдвиги. Теперь осень протянем года четыре, а там и Казейник затонет.
В комнату проник худой сутулый мужчина баскетбольного роста с верхними конечностями такой длины, что правильней называть их бесконечностями. Сам он еще раскачивался в дверном проеме, а бесконечности его уже ставили на клеенку сковороду с пожаренным картофелем. Весь он походил на подвижный состав, сошедший с рельсов какой-то детской железной дороги. Все его туловище, точно составленное из вагонов, дергалось и шаталось при всяком движении. Головной вагон его имел бороду наподобие щита, каким сбрасывают сугробы с заметенных путей. Одет он был исключительно паршиво. Из джемпера один рукав у него был сорван, второй по ветхости материала был охвачен дырами.
– Владимир Свеча, – густо представился этот поезд ближнего следования. – Сосед, учитель и друг Марка Родионовича. Позвольте к вам, святой отец на совместный ужин.
– Но позвольте, – я встал, протянул ему руку для пожатия, и сразу отдернул, как только состав изогнулся на крутом повороте, а головной вагон захотел мою руку облобызать. – Вы младше. Хотя… и чему же вы обучаете Марка Родионовича?
– Я учитель гимназии, то есть да, – состав подошел к платформе и кое-как пристроился на табурет. – Средней школы. Мы с Марком Родионовичем коллеги. Владимир. Преподавал биологическое учение. Теперь так.
На столе уже были разложены продукты из моего двойного рациона, стояли три бутылки водки «Rosstof», и пять приборных вилок для жареного картофеля уже прислонились к сковороде.
– Владимир наиинтереснейший собеседник, ваше преподобие, – Марк Родионович, потирая ладони, сел на место хозяина. – Прошу к столу. Именно по рюмочке. Володя, зови дирекцию.
Впрочем, директор уже и без Володиного звания, пожаловал. Директор краеведческого музея и нудист-любитель Виктор Сергеевич Пугачев на этот раз явился в вечернем костюме. То есть, с обнаженным торсом, но в тренировочных штанах и забинтованной шее.
– Солил? – Пугачев, спрятавши руки за спину, двинулся на Владимира.
– Солил.
– А я соль принес, – директор вынул из-за спины граненую антикварную солонку из тех, что разъезжают в пассажирских купе. – Отнести?
– Еще посолим, – возразил, наливая водку в тоже граненые стаканчики, Марк Родионович.
Из краткого разговора между соседями я понял, что в интеллигентном бараке не принято было с пустыми руками в гости являться. Мы с Вьюном тоже присели к столу. Затем уже все молча выпили аперитив, съели жареный картофель, заедая сырокопченой колбасой и шпротами, затем еще выпили по граненому стаканчику, и еще по граненому стаканчику. Вот тогда-то Марк Родионович взял из угла шестиструнную гитару с бантом на грифе и запел, и заиграл переборами на удивление хорошо. Пока инвалид спрашивал у ясеня, где его любимая, краевед Пугачев пригласил Вьюна с моего дозволения на плавный танец. Они станцевали.
Пугачев со своим голым торсом держался исключительно деликатно, смотрел строго перед собой, вел партнершу на дистанции, и довел на место, когда Марк Родионович расспросивши, наконец, все деревья выяснил, что любимая вышла замуж за друга. Свеча погрустил, слушая танец, а затем подал состав чуть вперед.
– Так знайте, – он погрузил окончания волосатой бесконечности в бороду, и поведал нам. – Случилось наяву, что мой друг пришел с фронта. Друзья постоянно с фронта приходят. Я взвесил эту последовательность. На всем отрезке человеческой эволюции друзья приходят с фронта.
– Что они делают на всем отрезке? – спросил я, ибо Владимир как-то очень задумался.
– Они истребляют своих друзей, – пояснил Марк Родионович за коллегу. – Точнее, врагов. Истребленными врагами наполняются верхние слои геосферы. Друзья их вспоминают как героев, павших за отчизну. Они все падают за отчизну. И друзья, и враги.
– Продолжайте, Володя, – оборвал Пугачев витийство чертежника. – «Ваш друг пришел с фронта».
– Да. И пришел не так, чтобы шибко, но как-то, – головной вагон дернулся, и замер. – Как-то, словом, пришел. А в отсутствие друга его любимая скончалась от гонореи.
– Гонорея не смертельна, – мягко возразил Пугачев.
– Смертельна, – бесконечность вознеслась над составом, чуть не разбивши декоративную лампу. – Когда парочка друзей столкнут любимую с крыши двенадцатиэтажного дома.
– Безусловно, – поддержал я Владимира, чтобы он скорее окончил свою новеллу.
– Но друг пропустил сообщение о смерти любимой женщины, – далее состав проследовал без остановок. – Я ввел его деликатно в обстоятельства, но он даже и не удосужился вникнуть. Друг ответил искренне: «желаю, мол, на танцы ее позвать. Она славная. Потанцуем». И, знаете, так улыбнулся как-то. Миновало, думаю, месяца три или же более того, когда я встретился с ним в филармонии на струнном концерте. Он, знаете ли, бодрый такой, обрадовался мне. Потрепал меня по шее. «Ты, – говорит, – обожди, Владимир, у буфетной стойки. Любимая в дамскую комнату отлучилась. Губы красит. Она тебе обрадуется. Ты верь у буфетной стойки». Вообразите же, все это время он жил с ней. С ощущением, будто любимая вот-вот появится, и в целом прижмется к нему, и так далее. Словом, друг мой так любил свою любимую, что попросту не поверил в ее гибель. А в Арктике 40 процентов паковых льдов растаяло. Они просто испаряются под воздействием атмосферного парника. Еще лет через двадцать Арктика исчезнет, выкинув полтора триллиона тон двуокиси углерода, которые скопились под ее ледниковыми кернами. Значит, и еще в два раза увеличится ее содержание в атмосфере. И все это следствие антропогенного фактора, товарищи. С чем я и поздравляю грядущее поколение мутантов.
– Вы уклонились, Володя, – тронутый его сентиментальным рассказом, инвалид отхлебнул водки прямо из горлышка.
– Ни на градус, – мрачно отозвался учитель биологии. – Мы так любим свою планету, что попросту не поверили в ее гибель. Планета уже мертва, а нам все кажется, будто она в дамской комнате губы красит.
– Это теория струн, – Марк Родионович отставил гитару. – Лучше выпьемте за здоровье молодых.
– Что-то я не заметил в Казейнике молодых.
Пугачев бросил на меня проницательный взгляд. Он определенно хотел что-то сказать, но задержался. Бесконечность Владимира отняла у инвалида бутылку и разлила всем аккуратно поровну. Вьюн толкнула меня локтем и красноречиво уставилась в потолок.
– Зови, – разрешил я снисходительно.
Вьюн без лишних церемоний покинула наше застолье. И Пугачев, наконец, раскололся. Действительно, мягкий человек. Не хотелось ему в присутствии юной особы поведать мне краткий курс новейшей истории Казейника.
– Видите ли, – начал он, разглядывая вытертую клеенку. – Вы здесь недавно. То, что кажется вам абсурдным обстоятельством, для нас обстоятельство грустное, но естественное. Средний возраст обитателей Казейника 40-70 лет. Есть и те, кому не более тридцатки, но меньше сорока им не дашь. Больной климат, отсутствие витаминов, пьянство и отчаянная нужда состарили их прежде времени. Бабы в Казейнике рожать перестали после 95-го, когда случились необратимые изменения окружающей среды.
– Стало быть, еще остается молодежь, – напомнил я Пугачеву.
– Не остается, – Виктор Сергеевич как-то вжал голову в плечи, а, может, мне и привиделось, ибо шеей он обладал весьма короткой. – Не осталось, батенька. Тех, кому сейчас было бы к двадцати, успели переправить в областной стационар. Эпидемии скарлатины, кори, ветрянки, прочих именно детских заболеваний обрушились на Казейник сразу, как изменился химический состав атмосферы. А которым было бы к 30-ти из женского пола, съехали в столицу в поисках женихов. Согласитесь, юным особам трудно без любви. Юность, конечно, привилегия сама по себе, но именно, чтобы влюбляться, и рожать, и быть счастливыми.
– Разве молодые люди из поселка ни на что не годились? Трудно поверить. Первая любовь настигает на месте.
– Молодые их сверстники пали в подавляющем большинстве.
– Пали?
– Я, видите ли, хронику веду. Полагаю своей обязанностью перед потомством.
– О каком потомстве речь?
– Верно, – Пугачев затеребил подбородок. – Этого я не предусмотрел.
– Вернемся к падению, уважаемый собутыльник.
– Да. Почти все они пали в криминальной войне, мною названной как 1-я Паническая война. Молодежь тогда исповедовала культ силы. Мальчишки стремились в гангстеры. Еще и подпали под влияние уголовной среды с ее романтикой легкой наживы. Сами знаете, рабочий поселок.
Я знал. Меня самого воспитала улица. Близкое соседство с фабричными районами воспитало меня. Именно улица, но не армия привила мне начатки достоинства, преподала урок чести, отучила бояться врага, ибо не так страшен разбитый нос, как страшна потеря уважения уличного братства. Мы отчаянно дрались и самозабвенно дружили. Мы были взрослее своих родителей. Наши слова не расходились ни с поступками нашими, ни с убеждениями. После школы мы скидывали мышиные костюмчики, кое-как приготавливали уроки, а, чаще, и совсем не готовили, ели наскоро, влезали в расклешенные брюки, обували обувь с подковками, и шли вон из тесных квартир туда, где нас ждали братские объятия, алжирское вино, сигареты «Прима», и внезапных крик запыхавшегося мальчишки, прискакавшего Бог весть откуда: «Наших бьют!». Мои отважные хулиганы, но не трусливый комсостав полка ракетных войск втолковали мне истинную присягу: «Будь верен себе, товарищ». А как раз таки зависимость от советского офицерства 70-х с его бесчестием, ханжеством, равнодушием и жестокостью дала мне объяснение, почему революционные советы солдатских депутатов мочили его без суда и следствия. Ибо следствие всегда результат причины.
– За что же они воевали?
– Да за коммерческий ларек, – по праву хозяина влез Марк Родионович в нашу беседу. – Видали сгоревшую лавочку сразу за «понтонами»? Там и обменный пункт валюты помещался. Там нынче таможню восстановили.
– За один ларек?
– Второго-то в Казейнике и не было, – пожал плечами географ. – А владелец его, армянин по национальному признаку, теперь главным сантехником в николаевской общине. За перебойную циркуляцию пива отвечает. Говорят, он сам эту циркуляцию изобрел. От пивного заводика через перегонные трубы химического комбината и обратно. Круговое течение.
– Ловко. Армянина, случаем, не Геннадий зовут?
– Зовут изредка, – подтвердил мою догадку Марк Родионович. – Чаще зовут армянином.
– И за чей же это счет бесплатное пиво гоняется?
– Интервенты, – головной вагон Владимирского поезда от ненависти дрогнул и сдал назад. – Акционеры «Франконии». Пивное производство с молотка приобрели. Считай, задаром. Конкуренции здесь нет. Теперь мещан спаивают, чтобы экологическое равнодушие поддерживать.
В кабинет географии зашли Вьюн с Лаврентием.
– Погреться, – снимая форменную черную фуражку, молвил, точно извинился, Лаврентий. – Вы пейте-закусывайте, господа интеллигенция. Мы у печки тихо присядем.
Застолье встретило извинение молча. Смолчать интеллигенции было о чем. Штык-юнкер славянского ордена равнялся для обитателей барака примерно гестаповскому начальнику где-нибудь в гетто.
– Присаживайтесь, – разрешил я за всю компанию. – Угля совок подкиньте в топку.
– Что он делает здесь? – тихо процедил Владимир, бессильно сжимая бесконечности в огромные кулаки.
– Караулит, – успокоил я собеседников. – Я у них под домашним арестом.
Лавр, впрочем, демонстративно сел к обществу спиной и о чем-то увлеченно зашептался со служкой. Возможно, о преимуществах ближнего боя, или же об иных преимуществах, а только интеллигенция, выпив короткую серию из граненых стаканчиков, забыла о нем.
– Вернемся к молодежи, Виктор Сергеевич, – напомнил я Пугачеву. – Черт с ней пока, с интервенцией. Что же, они перекокали друг дружку из-за маленького киоска?
– Не думаю, – Пугачев, однако, именно думал, закусывая рыбой. – Автоматов системы Калашникова у них как-то сразу много появилось. На какие, вопрос, деньги? Через уголовников кто-то поставил. Тогда, как везде, раскручивалась приватизация комбината, производящего мочевину и прочие удобрения. Паны дрались, у мальчишек чубы трещали.
– А милиция?
– Смеетесь? Что районную милицию, что уголовников, разумеется, плутократы скопом приобрели. Щукин переживал. Это правда.
– И Геннадий, – вставил Марк Родионович. – Армянин хотел прекратить это чудовищное кровопролитие. Запалил обмен валюты собственными руками. Я рядом стоял, когда его имущество полыхнуло. Какая-то бабушка злорадно крестилась тут же: «Красота! Армянина-то подожгли!». А он печально смотрел на полыхание, и одно только произнес: «Красота спасет мир».
– Значит, не спасла, – подвел итог Виктор Сергеевич. – Мир наступил, когда почти все пали. Сколько мальчишек здесь похоронено за рекой. Почти все учились у Володи с Марком.
– А почему первая? – спросил я у Пушкина. – Полагаете, будет и вторая Паническая война?
– И скоро, – убежденно кивнул Пугачев. – Именно скоро. Анархисты, я случайно подслушал на площади, обсуждали. Я уловил только «ан дер цвайтен криг». Через два дня? Через две недели? Этого я не разобрал.
– Вы и немецкий знаете?
– Только русский, да немецкий.
– А мне сказывали, будто вы специалист по угро-финскому языку.
– Суровая ложь. Мой отец штурмовал угро-финскую линию Маннергейма. Память о нем живет в моих сердцах.
Я обернулся к печке. За разговорами я не заметил, как ускользнули из учительской Вьюн с моим надзирателем. Я этого ждал, потому сразу же отметил событие граненым стаканчиком водки.
– Часто врете? – я глянул на Марка Родионовича, закусывая.
– Часто, – сознался инвалид. – Вернее, редко.
– Нога под «Нюрнбергом», или поглощена аномалией?
Головной вагон поезда низко рассмеялся.
– Ему ногу заводская дрезина отмахнула, – утерев слезу бесконечностью, сообщил Владимир Свеча. – На день педагога задолго до интервенции.
На этом наше веселое застолье кончилось. Митя его закончил.
Вышибленная мощным ударом, дверь повисла на верхней петле, а затем и грянула на пол учительской. В пустые ворота влетели пятеро нападающих с клюшками. Все из команды анархистов. Капитан команды Митя, замыкавший штурм ворот, обогнул нападающих и поставил у ног моих стальную канистру.
– Гутен абен. Кто Пугачев? – Митя осмотрел нас, как будто не знал он каждого, сидящего за столом, а знал он только свое дело.
Заметивши старенькую пишущую машинку в руках одного из нападающих, Виктор Сергеевич очень побледнел, метнулся к сетке с глобусом и начал ею размахивать
на все стороны.
– Жандармы! – орал при этом Виктор Сергеевич. – Каратели! Не пропадет мой скорбный труд! Оковы тяжкие падут!
– Вряд ли, – снимая перчатки, Митя криво усмехнулся. – Это ваш скорбный труд?
Он достал из кармана смятый лист бумаги, развернул его и показал историку. На бумаге заглавными буквами был отпечатан какой-то текст. Виктор Сергеевич все еще продолжал размахивать глобусом, но уже молча.
– Вы арестованы, гражданин Пугачев. Отдайте глобус. Глобусы брать запрещено. Из личных вещей можете взять с собой только смену белья, и зубную щетку.
Нападающие вырвали глобус у Виктора Сергеевича, закрутили ему руки за спину и вывели из комнаты. Митя тронул сапогом стальную канистру.
– Их превосходительство Хомяков к медицинскому спирту представили тебя, пастор. За их героическое спасение от пули мятежников. Лечись пока.
Митя крутнулся на каблуках и, насвистывая, покинул чертежный кабинет.
Владимир, доселе безмолвствующий, смел со стола бесконечностью многое.
– Какая низость! – вскричал он отчаянно. – Боже, какая низость! Ведь это для нашей организации Пугачев листовки печатал! Ведь он даже и не зеленый!
– Что ему будет?
На мой вопрос Владимир только дернулся всем своим поездом.
– Партия зеленых официально террористической организацией объявлена, – Марк Родионович едва не плакал. – За любое содействие смерть без права переписки.
Бичевание арматурой у позорного столба.
Мне сразу сделалось ужасно холодно. Я сразу понял, что случившаяся беда целиком на моей совести. Нарочно же Виктория при мне велела Мите взять Пугачева. И Митя нарочно при мне час ареста назвал. Отрепетировали. Но я о себе только думал, точно здешние обитатели не из плоти состоят, не страдают, не жертвуют собой, а так. Пустые места. Я подошел к буржуйке, и прислонил обе ладони к раскаленной поверхности бака. Но что с того?
– Помилуй, отец, – бормотал Марк Родионович, обмазывая обожженные ладони мои какой-то гадостью. – Ты-то здесь причем? Для чего терзаться?
Я же сидел на табурете, не смея взгляда поднять на географа. Подловил меня Анкенвой. Скоро и верно становился я в Казейнике падалью.