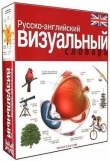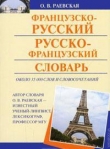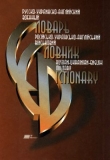Текст книги "Казейник Анкенвоя (СИ)"
Автор книги: Олег Егоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Анкенвой 365-го дня тогда уже отстроился. Его золотая пирамида под названием «Фонд народного строительства» обещала вкладчикам 640 процентов годовой прибыли. В валютном, само собой, эквиваленте. Это значило, что при вложении миллиона долларов через год успешный вкладчик получал шесть миллионов четыреста тысяч. Торговля оружием или наркотиками, возможно, и гарантировала такую прибыль. Но Князь не торговал ни оружием, ни наркотиками. Он вообще ничем не торговал. И ничего не строил. Строил бы, да времени совсем не имел. Сотрудникам его пирамиды едва хватало времени, чтобы принимать вклады физических и юридических лиц. Лица стояли на улице в огромных очередях. По записи. Отходили и приходили отмечаться. Блатные, то есть в буквальном смысле, а также знаменитости, начальники ведомств, члены партий и лица, прошедшие по одномандатным округам, разумеется, сдавали свою чужую зелень вне очереди.
«Из каких же денег ты им через триста шестьдесят пять дней два с половиной миллиарда вернуть собираешься?», – недоумевал я по простоте душевной. «Из тех, что через год следующие вкладчики подтянут, писатель», – ответствовал мне по душевной сложности Борис Александрович.
Анкенвой 365-го дня тогда уже постоянно держал за собою в одном из наиболее фешенебельных отелей Москвы пентхаус для приема иностранных делегаций и персон под номером VIP, арендовал реактивный самолет для срочных вылетов на Багамские острова по делам своих вкладчиков, и, кажется, яхту «Президент» с крейсерской скоростью 18 узлов. С учетом арендованных скоростей Борис Александрович взлетел так высоко, что рассмотреть я его при моем слабом зрении уже более не мог, и более мы не виделись. Пресса, публиковавшая интервью с Анкенвоем 365-го дня или восторженные панегирики его годовым благотворительным акциям, вскоре умолкла. Громких судебных процессов, связанных с его именем, не гремело. Какая-либо информация в, казалось бы, вездесущем Интернете отсутствовала о нем, точно и не существовало в помине Ростова Бориса Александровича. Конечно, я вспоминал его за пятнадцать лет разлуки. В моем воображении он покуривал ручной катки на девичьих животах сигару где-то на гасиенде в аргентинских джунглях, потягивал скотч, и, возможно, читал последние 63.242 из моих опубликованных знаков. Но я с вами, господа агностики. Видать, минули не пятнадцать лет, а вся тысяча, и вышел сатана обольщать народы по четырем земляным углам.
ЛЕВИАФАН
Где-то везде я слышу: «убивает не оружие, убивает человек». Вопрос. Убивает ли человек, создающий оружие? Если да, то до какой степени он убийца? До степени кандидата, доктора, члена-корреспондента? Ученые – публика спортивная. Как и легкоатлеты по тройному прыжку ученые обязаны достигать. Достиг, ты ученый. Не достиг, ты лжеученый, порочащий флаг, значок, твоего учителя и сам предмет. О пользе науки из китайского фольклора известно следующее: наука полезна умным господам. Глупым господам наука вредна. Умный господин есть господин, умеющий отличить разные штуки, рассуждающий критически и совершающий глупости по объективным причинам. Глупый господин есть господин, поддающийся стадному инстинкту, массовой агитации, различным порывам, и совершающий глупости, следуя природе своей. Каких господ на белом свете больше отрасль науки статистика не сочла. К тому же ученые за чужую глупость не отвечают. И это правда. Любой глупец подтвердит. Спросите любого глупца: «Зачем ты, любой глупец, первое начало термодинамики применил, и тем уничтожил крупную цифру народа?». Он ответит вам: «Чтобы сломить врага, сокративши количество потерь среди мирного населения». То есть, мы (а глупец всегда отвечает от лица коллектива) убили сразу максимально больше публики, чтобы сократить среди нее количество потерь. Разве ученый выступит с глупым заявлением: «цель оправдывает средства»? Да Господь с вами. Любому ученому, в отличие от политика, известно, что цель, особенно пораженная наповал, лишена дальнейшей возможности оправдывать средства. И вообще что-либо осуждать или оправдывать. Такие примерно мысли осаждали меня ввиду неизбежного разговора с Анкенвоем относительно производства русско-немецкой лавочкой RM20/20.
С утра меня разбудил стук в дверь. Стучали настойчиво и с паузами, как будто прислушивались. Давно, видать, стучали, мерзавцы. Первая ночь из всех, проведенных в Казейнике, когда мне обломилась возможность нормально выспаться. В паузах Вьюн похрапывала за проницаемой занавеской. Видать, на спине устроилась. Видать, ночью к ней штык-юнкер прошмыгнул. Я протер ладонями органы зрения, накинул согретое одеяло на плечи и раздраженно дернул засов. Дверь на образцово смазанных петлях отворилась внутрь сама собою. У порога топтался вчерашний охранник знамени с очередной повязкой желтыми буквами на рукаве: «дневальный».
– Что надо?
– Вас дама ожидают на плацу, господин епископ.
– Какая к дьяволу дама?
– Ответственный секретарь.
– Ответственный за что?
– Не могу знать, господин епископ.
До меня, наконец, дошло. Ответственно секретарствовать, за что бы то ни было, в Казейнике могла только Виктория Гусева. «Зря к парню прицепился. Он и без меня из нарядов, кажется, не вылезает. Белки совсем красные, физиономия обратно белая в муку, ноги еле держат. Видать, Перец, его муштрует за какую-то провинность, – подумал я, вскользь глянув на бойца, суетливо обыскивающего собственные карманы. – Дневальный. Он и дневальный, он же и ночевальный».
– Нашлось, – боец протянул мне сложенную бумагу, найденную в результате за отворотом форменной черной кепки. – Пропуск велели срочно доставить. Сказали, господин епископ догадаются.
Я развернул бумагу. «Ну, приходи. Борис». Таково было краткое содержание пропуска, подписанного Анкенвоем.
– Как ты ко мне обернулся? – складывая записочку, я, среагировал, наконец, и на «епископа». – Обратился, черт. Ты что, боец, кардинала от епископа не в состоянии отличить?
– Никак нет, ваша патриархальность! – выпучив натруженные глаза, проорал дневальный славянин. – Отличаем! В газете приказ! Официально! Уже и табличку на дверях перебили!
Тут я заметил торчащую у него из бокового кармана трубкой свернутую газету, выдернул, размотал, и прочел на лицевой стороне заметку, помещенную в траурный прямоугольник: «Редакция от лица городского магистрата приносит публичное извинение господину епископу Славянского ордена, за ошибочное упоминание о нем в официальных документах и сводках новостей, как о чуждом православию кардинале. Главный обозреватель«Kozeinik Zeitung» Ев. Зайцев».
«Обозреватель, – подумал я, возвращая газету дневальному. – Что он там, интересно, обозревает, этот Ев. Зайцев без очков?»
– Доложи, епископ скоро будет. Рыло протрет, похмелится «Монастырским», и будет. В часовне пусть просохнет госпожа ответственный секретарь. Чай, не лето на плацу.
Дневальный кинулся исполнять приказание. Бесшумно прикрывши дверь, я прислушался. В душевой келье моей послушницы было тихо. Видать, разбудил ее славянский докладчик. Пауза.
– Пойдешь? – вопрос из-за ширмы прозвучал напряженно и как-то взвинченно.
– Да.
Я пошел умываться. Рукомойник без крышки, но полный воды был прилажен к стене за голландской печью, здесь же на гвозде висело полотенце из вафельной материи. Под рукомойник предусмотрительно было подставлено цинковое ведро. На полочке рядом с рукомойником хранились маленькая одежная щетка, тюбик пасты, заправленный бритвой станок и банка с вазелином. Перец, управлявший обстановкой нашей обители, видать, определил для себя, что православные кардиналы одежными щетками зубы чистят. Зубы я пальцем почистил, выдавив на него из тюбика полоску с каким-то земляничным привкусом, напоминавшим пионерское детство. Затем облачился я в редакторский пуловер и грязные плисовые штаны, навертел суконные портянки, забытые прежним постояльцем в одежном шкафчике, и обул свои чужие сапоги, брезгливо посматривая на тумбочку в углу, где был аккуратно сложен пошитый, видать, на глаз черный китель с эполетами. На каждом эполете была вышита гладью золотая буква «К». «Не успели букву «Е» перешить», – подумал я, распечатывая пачку сигарет «Rosstof» и выглядывая в окно, залепленное снаружи дождевыми разводами.
– А я? – вопрос из-за ширмы достался мне с такой выдержкой, будто Вьюн долго размышляла, что бы еще у меня спросить.
– А ты изволь одеться и выйти. Не в кукольном театре.
Пленка на кольцах отползла. Вьюн уже в куртке, застегнутой на молнию и с капюшоном на голове, сидела прямо, точно застывший маятник. Под ней была перина, думается, притащенная заботливым штык-юнкером ночью, пока я спал.
– Далеко намылилась?
– Я с тобой.
– В столовую не лезь. Опасно тебе. Наслушаешься гадостей, ответишь кому. Потом Лаврентий добавит, и все. День судом офицерской чести окончится. Могилу мясом не корми, дай только повод слить штык-юнкера, если он ваш любовный роман прочтет.
– Я с тобой. Не верю я этой отложенной личинке. Тебя там зарежут, как Щукина, пока я буду на измене сидеть.
– Не будешь. Позавтракаешь, и тихо смоешься. Найдешь Владимира в бараке, скажешь, чтобы он общее собрание зеленых подпольщиков устроил. Скажешь, епископ хочет консолидировать оппозицию.
– Для чего?
– Разработаем план совместных действий, пока их не съели поштучно.
– А ты?
– За меня трястись не надо. Меня и в часовне зарежут, если потребуется.
Прикурив сигарету, я вышел в коридор. Дежурный по штабу, какой-то раньше не замеченный мною уголовник с татуировкой прямо на лбу в виде левосторонней свастики приветствовал меня отданием чести. Я кивнул ему, докурил сигарету, выскочил под ливень и дунул к часовне, чтобы не промокнуть заранее. Внутри часовни было пусто за исключением стоящей на коленях у иконы «Благовест» Виктории Гусевой с волосами, убранными под скромную косынку. Разумеется, она, погруженная в молитву, не могла заметить моего присутствия, хотя створки часовенных ворот на сильных пружинах грохнули за мною так, что вся постройка содрогнулась. «Горлица ты наша, ядреный корень, – подумал я, осматривая чертоги. – Орлеанская дева, не меньше». На всем убранстве лежала печать славянского аскетизма. Пластиковый клозет, какие, платные, устраиваются по двое у станции метро. Исповедальная кабинка. Трибуна фанерная, выцветшей покраски с более ярким отпечатком содранного герба. Аналой. Скамейки от стены до стены, точно в клубе все того же пионерского лагеря. Посредине вырезан узкий проход в президиум. Из образов на боковой стене часовни против трибуны одна потраченная икона с архангелом Гавриилом и пресвятой Богородицей. Перед ней на коленях ответственный секретарь. Я присел сзади на скамью, ожидая, когда Вика-смерть грехи замолит.
– А что же вы не служите, господин епископ? – спросила она, обмахнувши себя финальным крестом, и поднявшись с коленей.
Под коленями у нее оказалась газетка, тотчас мелко свернутая и отправленная в сумочку.
– Служу.
– А братья-славяне жалуются, что некому исповедаться. Часовня пустая, как ни зайдут. Грехов некому отпустить.
– Твое какое свинячье дело?
– А я куратор Славянского ордена.
– Передай своим братьям-славянам, что у епископа запой. Что коли у епископа запой, он в лучшем случае бороду отпустит.
К моему заявлению Гусева отнеслась вполне ответственно. Как и подобает секретарю. Из прошлой нашей редакторской жизни Гусева извлекла вполне содержательный урок. Когда я запил, меня на службу и авансом не заманишь.
– Надолго запил?
– Надолго. Пока в Москву не вернусь. Веди меня к Ростову, куратор. Только молча. Еще раз калитку откроешь, я в нее плюну.
К полезным советам Виктория умела прислушиваться, и весь путь до городской свалки мы прошагали, думая каждый о своем. Мои думы, коротко изложенные в начале текущей главы, завершились у знакомых ворот из колючей проволоки, где нас поджидал уже полицмейстер.
– Доброе утречко, – при виде меня, он ухмыльнулся и поднял руки. – Холод собачий. Промок до исподнего. Не тяни резину, товарищ епископ.
– Я пленных не беру.
– У меня их и нет, – весело отозвался Митя. – Давай, обыскивай. Холодно.
– Зачем?
– Ты завязывай комедию ломать, преподобный. К Борису Александровичу в гости без обыска не ходят.
– А ты в гости собрался?
– Вряд ли.
– Меня боишься обидеть?
– Типа того.
– Ну, валяй, сторожевик.
Я поднял руки. Митя со знанием дела ощупал меня от шеи до сапог, приговаривая:
– Чисто формальность. А то пистолетик Щукина пропал, чисто канул. И ружьишко типа обрез. И еще пару стволов. Пол ящика осколочных гранат вообще с концами.
Но это к слову. До тебя это не относится, епископ. У тебя непротивление злу насилием. Ты, вон, даже и Филиппова заточкой пырять отказался. Всю грязную работу на других перепихал.
– А секретари у нас типа исключение? – спросил я Митю, когда он закончил меня щупать.
– Какие секретари?
– Justitia nemini neganda est, – заметил я злорадно.
– Согласен. Исключение превыше всего.
– Только попробуй, – предупредила полицмейстера Виктория.
Митя попробовал. Обыск затягивался. Наконец, Вика вздрогнула всем телом, издавши короткий стон, и отвернулась.
– Вот и все. Вот и ладно.
Полицмейстер зачем-то вытер мокрым носовым платком такие же мокрые ладони, отомкнул замок на воротах, и пропустил меня с Гусевой на свалку. Мусорный массив и узловатое ущелье между ним остались прежними. Но ротвейлеры исчезли. Мы давно пропустили место, где обрушилась на меня дикая домашняя свора, но псы-оборотни так и не повылезли.
– Где ротвейлеры? День пограничника отмечают?
– В загоне, – отрезала скупо мадам Вергилия.
И, погодя, все ж таки прибавила к отрезу.
– Они только Бориса Александровича слушаются.
«Лишняя прибавка, – смолчал я, глядя под ноги во избежание битого кафеля и стекла. – На двадцать верст любая живность его только слушается». Мы обогнули пропасть отходов, одолели подъем к седловине меж двух помойных гор, и предо мною внезапно распахнулось чистое пространство, выложенное каучуковыми плитами. Метрах в пятидесяти хода стоял белый представительский лимузин размером со среднего финвала. Как и впервые, когда ступил я на улицы Казейника, отчего-то мне вспомнился именно кит, приютивший и обогревший Иону, сброшенного язычниками за борт после жеребьевки. На крыше кита была установлена спутниковая чаша. Тонированные скважины кита были наглухо задраены. Кит настолько забрал мое внимание, что я не сразу приметил взвод ротвейлеров, молча бродивших за стальными прутьями просторного вольера на отшибе упругой возвышенности. У клетки были штабелями сложены мешки собачьего корма. Ответственный секретарь уже топала к белому левиафану.
Чуть погодя, я нагнал ее. Самая задняя дверца кита бесшумно распахнулась. Вика-Смерть замерла на страже отверстия. Нагнувши свою плешь, я сунулся в механическое брюхо. Анкенвой тонул в кожаных подушках на боковом сиденье уютного кишечника, покуривая, как мне и представлялось, благовонную сигару.
Он изменился. Прибавил килограммов пятнадцать-двадцать, и лет на тридцать постарел, хотя не виделись мы лишь половину из них. Остальное все прежнее: короткая стрижка, синева вместо щетины, костюм, белая рубашка, стильный галстук, завязанный сухопутным узлом, туфли в тон с носками. Тот же взгляд. Обманчиво ленивый. Против бокового сиденья, в какое он погружался, была установлена панель с мониторами. Всего тридцать два монитора: четыре вниз и восемь по горизонтали. Все, помимо крайнего, крутили сериал из жизни Казейника. По крайнему шла трансляция матча между футбольными командами «Нюрнберг» и «Штутгарт». Среди прочих фамилий, как раз выходящих на второй тайм, диктор объявил Саенко. «Значит в записи, – оценил я обстановку, – Саенко давно уже играет за московский клуб «Спартак». Значит, в прямом эфире его спутниковый телевизор только помехи транслирует». В салоне, полностью обитом вишневой кожей, было еще заднее сиденье, на которое он мне и указал угольком сигары.
– А ты пока собачек покорми, – сказал он Вике так, что едва ли его можно было расслышать снаружи за шумом дождя. Но ответственный секретарь все же расслышала, и направилась к загону. Я прикрыл дверцу.
– Спрашивай, – Борис Александрович продолжил смотреть футбольную передачу, точно мы с ним расстались накануне, или же я интересовал его не более, чем игра, результат которой был ему известен заранее. «Ладно, – задел меня грязный прием Анкенвоя вроде того, когда ниже пояса бьют. – Мы тоже гордые. Обождем.
Хотя гордиться нам особо нечем. Успехов у нас кот наплакал. Особенно, после добровольной сдачи показаний лаборанта Максимовича».
– Какой счет? – спросил я ехидно.
Ростов искоса глянул на меня, и в зрачках его на секунду вспыхнули вольтовы дужки, сопровождавшие обычно либо внезапный интерес, либо приступ закипающей злости, но тотчас погасли.
– Выпьешь?
– Это с тобой-то?
– А я выпью, – Анкенвой отрыл дверцу бара у заслонки, отделявшей салон от водительского отсека, достал бутылку бренди со стаканом и выпил. – Есть повод. На семьдесят третьей минуте «Нюрнберг» отыграется.
– Иди ты.
– Хороший клуб, – будто не заметив моей иронии, Борис Александрович пыхнул сигарой, уронил на брюки пепельную гусеницу, и проводки в его темных зрачках заново раскалились. – Куплю его. Клуб с традициями. После двух мировых чемпионатов Бундеслигу выигрывал. В 1920-м и 1948-м.
– А твои сотрудники заранее болеют? – поддал я еще и сарказма.
Мой сарказм он пропустил.
– Рабочие на фабрике болеют. Им один хер за кого болеть. Охрана, падлы, тоже, конечно, болеют. Но это, я тебе скажу, не болезнь. Вот если ты за клуб готов бутылку раскроить о голову кого-либо из фанатов «Штутгарта», и напиться в дрезину, и орать так, чтобы закладывало уши, это я скажу тебе болезнь.
– Слушай, а что я здесь вообще делаю?
– Занятный вопрос, – Анкенвой налил в стакан бренди, и толкнул мне, чуть не расплескавши. – Со мной не хочешь, один выпей.
Один я выпил.
– Сам давно интересуюсь. Как увидал тебя в товарном вагоне с местными хлыстами, Вику сразу на блошиный рынок отправил, чтобы тебе, лоху, кишки не выпустили за первую же глупость.
Судя по сочувствию в глазах Анкенвоя, выглядел я плачевно. Известие о том, что я вопреки его желанию петляю в Казейнике, деформировало меня. Обрушилась к чертовой матери точно карточный домик вся моя логическая постройка. Но сдался я не сразу. Быстренько провертевши в мозгу свою заезженную пластинку, я вспомнил мотив. «Главное мотив. Анкенвой соврет, не дорого возьмет. Аферист высшей пробы, – снова утвердился я на прежних позициях. – Надо с другой стороны подвалить, и я дожму его».
– Словарь, Вика, Семечкин, Хомяков. Странный выбор сотрудников. Это что же? Твои четыре всадника Апокалипсиса? – поинтересовался я, отложив стакан.
– Это, мой милый, твои четыре всадника. У меня свои четыре всадника. У каждого свои четыре всадника.
– Ладно, высший математик. Скажи мне, какова, по-твоему, вероятность, что пять человек, связанных общим прошлым одновременно и случайно окажутся в пункте икс, где их вообще не должно быть?
– Теоретически она стремится к нулю. Но теория вероятности сама по себе аппарат, описывающий случайные события и процессы.
– К чему ты клонишь?
– Допустим, Хомякова я нанял, когда мне надо было кабельное телевидение наладить. Как ты помнишь, он задолжал моей женщине по твоей, кстати, рекомендации. А я помню старые долги. Хомяков справился. А поскольку он всегда мечтал попасть в большую политику, я назначил его Бургомистром. Дальше. Виктория сама ко мне обратилась. На любую работа была согласна за приличный оклад. Мне нужен был смотрящий в поселке, а мужчинам я, как ты знаешь, не особо доверяю. Тем более, уголовникам. Дальше Словарь. О нем я вспомнил, когда подбирал конченого типа с юридическим образованием на место заведующего кадрами. Заметь. Я всего лишь описываю случайные процессы. Но случайные процессы могут содержать внутри себя общую закономерность.
Да. Я понял, к чему он клонит. В какой-то момент по разным причинам я отвернулся от Словаря, и от Хомякова, и от Виктории. Отвернулся, когда они нуждались во мне. Чем не закономерность? Встретившись в Казейнике, они и без княжеского участия могли запросто упаковать мне поганку. А мог и Словарь безо всякого сговора. Самостоятельно. Осталась неясной роль и место Семечкина.
– Семечкин твой, Никола-Чревоугодник, уже кантовался здесь, когда я разоренный комбинат приобрел по надобности, – точно прочтя мои рассуждения, Анкенвой наполнил отложенный стакан. – Добавь. Корешкам твоим бывшим я велел тебя не трогать, иначе головы сорву. Сложнее с Могилой. Пока я его стимулирую, он в конструкции. Но это «пока» скоро закончится.
– Скоро здесь все закончится. Ты, вообще, на улицу выглядываешь? Может у тебя научные консультанты есть? Может они тебе графики чертят?
Добавлять я больше не стал, но закурить – закурил. Сигарету имени Бориса Александровича.
– И консультанты есть, и графики чертят. А еще у меня есть возможность отправить твое преосвященство домой. Прямо сейчас.
Я закашлялся от глубокой затяжки. И пока я кашлял, я вспомнил мою жену, и кота Париса, и дочек моих, и продюсеров, которым не успел я отправить завершенный сценарий, и сердце мое защемило.
– Подумай, – Борис Александрович опустил окно и выкинул измочаленный кубинский окурок под оглушительный шум, ворвавшийся на какое-то мгновение внутрь левиафана. – Можешь со мной остаться. Уедем вместе, когда я дела закончу.
Он вытянул из часового кармашка за витую цепь массивный брегет, украшенный изящной миниатюрой с черно-белым орлом на желтом поле, выглядывающим из-за фрагмента пограничной будки.
– «Кениг-рей» подключили, пока мы спорим. Девять к одному, что синтез живее пойдет.
– А мы спорим?
– Расслабься. Максимум через две-три недели вернешься. Посмотрим футбол, помянем прошлое.
– А будущее?
– Что «будущее»?
– Его мы тоже помянем? Если ты намерен вывести из Казейника RM 20/20, поминки по нашему будущему лучше не откладывать.
Голкипер «Штутгарта» не успел выбить мяч в поле, хоть и очень торопился. Борис Александрович нажал на кнопку паузы, и, глядя под ноги, замер, точно кнопка и его остановила вместе с трансляцией. Наконец он ответил, и совсем без подъема, свойственного идейным психопатам.
– Каждый хочет оставить потомству что-то после себя. Оправдать смысл своего существования. Даже те, кто не верят в Господа. А те, кто верят, и подавно. Тем, как известно из библейской притчи о сыне, зарывшем в землю талант, сам Бог велел.
– Что ж ты хочешь оставить после себя?
– Как можно меньше людей.
Анкенвой потряс меня. Я-то был уверен, что он попросту бешеный куш сорвать стремится, загнавши запасы красной ртути на подпольном аукционе.
– Что? Поразил я тебя? По глазам вижу.
– Пока только меня, но послушай. Ты создал оружие массового поражения. И ты всерьез намерен его использовать? Зачем? Ты ненавидишь людей?
– Напротив.
– Это абсурд. Это вздор и бессмыслица.
– Естественно. Ты, милый, далек от высокой математики. Но если простая арифметика еще доступна твоему скудному интеллекту…
Не закончив, он подобрал с бархатного коврика, застилавшего брюхо кита пульку от преферанса, исписанную цифрами и сокращениями. Положил мне на колени. Итоговые значения расписанной пульки соответствовали общеизвестным фактам. Численность населения Земли в начале 20-го века 1,5 миллиарда. В начале 21-го века 6,5 миллиардов. Промежуточные цифры: 1-я мировая война 10 миллионов убитыми на полях сражений и 20 миллионов гражданских лиц. Общее число жертв «красного террора» в СССР около 50 миллионов. 2-я мировая война еще минус 55 миллионов. «Странные Князь пульки расписывает внутри кита, – обсудил я с кожаной вишневой обивкой моего собеседника, свернувши калькуляцию, – здоров ли он?».
– Результат противостояния сверхдержавного еще где-то полтора лимона долой, если по всем континентам, – между тем, продолжил вслух устные подсчеты Борис Александрович. – Результат примирения сверхдержав продуктивнее, но в целом пустяшный. Лимона два с половиной. Допустим, король бельгийский Леопольд заслужил благодарность потомков. За какие-то 20 лет его трудовые «отряды общественных сил» десять лимонов конголезского дерева в Преисподнюю вывезли. Дрова для грешников. Юмор.
Его юмор я пропустил. Поквитался за мой пропущенный сарказм.
– Красные кхмеры отпахали достойно. Положительная динамика на транспорте, стихийные бедствия, эпидемии хуже, криминал более-менее, наркоманы и алкоголики отлично работают. И, вроде все правильно: чаще дохнут молодые самцы. Производители. Короче, никогда мы с таким усердием не истребляли себя, как за последний стольник, а результат унизительный. Мизер.
– О чем ты говоришь? Что за бред?
Анкенвой расчехлил дополнительную сигару, казнил ее серебряной карманной гильотинкой, подкурил и окутался дымом.
– Трудно с тобой. Но если ты сам о поминках заговорил, буду краток. Сейчас население Земли превышает в 3 раза допустимый порог. Даже с учетом всех энергетических резервов человечество протянет еще 100 лет. По оценкам ЮНЕСКО мы должны урезаться в 10 раз, чтобы вписаться в естественный цикл биосферы. По моей оценке это слишком оптимистичный взгляд на реальность.
Я слушал. И я уже знал, что его аргумент в виде RM 20/20 весьма убедителен. Заряд красной ртути, равный по мощности 5 мегатоннам ружейного плутония легко уложится в керамического пингвина Дарьи Шагаловой. Рассовавши такую дичь, предположим, на рейсах авиалиний с математической точностью Анкенвой в одночасье, подорвет их на высоте 10 километров и, возможно, лишит способности к оплодотворению все женское человечество. Или проявит еще большую изобретательность. Кто знает, что клубится в его мозгах?
– Допустим, ты прав. Но то же ЮНЕСКО, или ООН, или, наконец, большая восьмерка, в курсе демографической проблемы, и справятся эффективней.
– Как именно?
Ко мне потянулось перистое кубинское облако.
– Отменят смертную казнь? Не обманывай себя, милый. Опыт человеческой цивилизации говорит об одном. Все решения, серьезно повлиявшие на ход событий, принимались в одиночку. Все великое просто. Все простые числа делятся только на себя.
– Ты уже знаешь, как использовать RM 20/20?
– С максимальной эффективностью.
Намекая, что тема исчерпана, Борис Александрович демонстративно извлек из-под сиденья толстый номер газеты «The Times». Развернул. Углубился.
Хмыкнул. Повернул ко мне заметкой.
– Прочти.
– Я только по-немецки читаю.
– Дочь изобретательницы лекарства от старения погибла при испытаниях препарата. Лекарство помогло. Теперь дочь этой суки не состарится. Люблю англичан. Ты остаешься?
– Подумаю.
– Подумай. Митя присмотрит за тобой. Партию в нарды?
– Можно.
Мы сыграли партию в нарды. Потом еще партию.