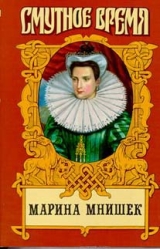
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Да, пошел на такой брак седмиградский воевода – стал королем Стефаном Баторием.
– И сколько за двенадцать лет своего правления урону московитам нанес – сердце и сегодня радуется.
– Только сначала бунт в Данциге усмирил, казацкого атамана Подкову, что своими походами на Валахию, Польскую державу с Оттоманской Портой ссорил, казнил прилюдно, а уж там в войну с Иваном Грозным вступил. Беспощадную войну!
– Что ж, иного выхода у него не было. Иван Грозный к тому, 1577, году почти всю Ливонию захватил – все Ливонское наследство, кроме Риги и Ревеля. И ведь как ловко Баторий все устроил: кавалерия наша, артиллерия и пехота наемных венгров и немцев, к ним же и королевских крестьян присоединил. А дальше будто по маслу все пошло. В том же году взял Динабург и Кесь, через два года отнял у Грозного Полоцк, еще через год – Великие Луки, Велиж, Усвят, а там и Псков осадил.
– На Пскове и споткнулся – больно затянулась осада.
– Добился бы своего, кабы сейм со средствами жаться не стал, деньги высчитывать. Пришлось Запольский мир Баторию заключать в Киверовой Горке. Хотя, моим мнением, совсем неплохой для Польской державы мир.
– Тут уж заслуга не седмиградского воеводы – посол Поссевино постарался. В дипломатии лучше иезуитов переговорщиков не найти. В результате осталась за Краем вся Ливония, Велиж и Полоцк.
– А мог бы еще немало Баторий сделать. Как думаешь, канцлер? Плохо ли задумал – завладеть Москвой и через Москву на Турцию двинуться?
– Так ведь и приготовления уже начались. И шляхта вся согласие на такой поход дала, и посол Поссевино от папы Сикста V благословение необходимое получил, да умер Стефан Баторий.
– Со смертью не поспоришь. А у нынешнего нашего короля взгляды иные. К Габсбургам австрийским да испанским его тянет. От Швеции мыслей своих оторвать не может. Хорошо, что сумел ты, канцлер, хоть Молдавию да Валахию под польскую руку подвести. Нашел, кого поддержать там. Сначала в Молдавии Иеремию Могилу, а с нынешнего года в Валахии – Могилу Симона.
– Вот и будем теперь ждать конца твоей миссии у московитов, ясновельможный пан. Скрывать нечего, непростая миссия у тебя, куда какая непростая. Слышал, в свите берешь шляхтича некоего. Что о нем думаешь? Чего от него в Москве ждешь? Прости, что вопросами тебя донимаю, – больно дело нешуточное. Тут и промахнуться можно. А главное – веришь в бастарда?
– Съездим в Москву, тогда и ответить тебе смогу, канцлер.
– В сомнении находишься.
– Как иначе? С лица как будто никто не сомневается: уж очень нехорош на свой особый манер – запоминается. Да сходство – не чудо. Говорят, и по характеру похож. Болезнь одна и та же, о которой в донесениях говорилось. Поутихла, но не оставила его. Только не это для меня важнее. Знаешь, то ли он сам глаз положил на сиротку-племянницу князя Константы Острожского, то ли девица сама мимо не прошла. Разговор у них состоялся в библиотеке замковой. Не знали молодые люди, сколько их ушей слышало. Высокородный он, канцлер, тут никто не засомневался. Что язык, что манеры. Собой куда как некрасив, а златоуст – говорит, заслушаешься. И к даме с положенным почтением. Такое не подглядишь, с подгляда не научишься.
– А Москва тут к чему? Его же в малолетстве оттуда в ссылку вывезли.
– Все верно, только дети памятливы. Может, что вспоминать станет, может, его кто признает. Еще важнее – как среди обычаев московитских чувствовать себя будет. Надо бы еще и речь его русскую с тамошним говором на слух сравнить.
– Одного не пойму, ясновельможный пан, ты и впрямь правды о нем дознаться собираешься? Зачем? Если нам понадобится, то хоть с правдой, хоть без правды – все едино в дело сгодится. Разве нет? А впрочем, твоя воля. Как захочешь, так и поступай. В возке его повезешь или как?
– Какой возок! Такому наезднику всякий позавидует: будто родился в седле. Маленький, сухонький – коню не в тяжесть.
В 1600 году ожидали великое посольство из Польши, чтобы на несколько лет заключить мир и начать жить в дружбе с новым царем Борисом, а также принести ему поздравления и подарки.
Итак, 6 октября посольство прибыло в Москву с большим великолепием и было встречено всеми дворянами, одетыми в самые драгоценные платья, а кони увешаны были у них золотыми цепями. И посольство разместили в приготовленном для них дворе, отлично снабженном всем необходимым, и оно состояло из девятисот трех человек, имевших две тысячи отличных лошадей, как нельзя лучше убранных, и множество повозок.
16 ноября посол получил первую аудиенцию и передал царю подарки: четыре венгерских или турецких лошади, которых, невзирая на то, что ноги их были спутаны, нелегко было привести, и они были весьма богато убраны; кроме того, небольшая весьма искусно сделанная карета на четырех серебряных колонках, много кубков и других вещей. Передав царю свою грамоту и подарки… затем посол остался у царя обедать.
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Потянуло весной над Вишневцом. Еще зелени нет. Почки чернеют. А на «рабаках» – цветочных грядках у дворца ландыши проклевываются. То там, то тут стрелки выскакивают. Воробьи галдят, стайками собираются. Прелью тянет – земля от стужи и снега раскрывается. Дороги развезло – все равно приехал воевода Юрий Мнишек. Дела прежде всего. И зять гонцу своему строго-настрого наказал без воеводы не возвращаться.
– Вот и я, зять. Давно не видались. По весенней ростепели из дому лучше не трогаться. Да пока ехал, глядишь, дороги уже и обсыхать стали. Как вельможная пани Урсула? Детки?
– Всех, пане Ежи, увидишь. Все, хвала Богу, в добром здравий. Не из-за них тебя беспокоил. Передохнешь с дороги или сразу к делу перейдем? К вечеру канцлера Замойского жду. До него бы все обговорить хотелось.
– К делу, к делу, зять, давай. Чай, не в седле ехал – в каптане. Где вздремнул, где повалялся.
– Зенек! В беседку нам с дорогим гостем закуску неси. В ту, дальнюю. Там и стол накроешь на первых порах.
– Вельможной пани доложить ли?
– Сама не спросит, не докладывай. Успеется.
– Слыхал, зять, гость у тебя?
– Гость и есть. В Москву с послами нашими ездил. А как вернулся, князь Константы посоветовал его в мои владения перевезти. Для безопасности.
– Охотиться за ним кто начал?
– Суди как знаешь. Гонец из Москвы в Острог примчался, чтобы князь Константы ему гостя своего немедля выдал.
– Ишь ты, забеспокоился царь Борис.
– Крепко забеспокоился. Войны не начнет. Больше на дружбу налегает. Но на своем твердо стоит: отдай гостя, и все тут.
– Отказал ему князь Острожский?
– А как иначе! Известное дело, отказал. Кто б там ни был, чтобы шляхтич польский выдавать московитам кого стал, не бывало такого. Ни с чем гонец уехал.
– А просто ли отказал князь Константы или…
– Зачем отказал – отвечал, что не видал такого. Ярошка предупредил, чтобы вся челядь рты на замке держала. А потом ночным временем гостя-то и ко мне.
– У тебя надежно ли?
– Сам знаешь, у Константы Вишневецкого рука тяжелая, да и на расправу скорая. Кто из местных осмелится. Вот только определиться бы надо, как дальше быть. Одни мы тут с тобой, так и можно без опасения сказать: не удался нам король. Канцлер Замойский и не кроется с судом своим: не удался.
– Что ж, пан Ян Замойский душой и телом с Баторием был связан, не говоря, что на племяннице королевской женился. Пани Гризельда и по сей день дядюшку оплакивать не перестает, так и в муже памяти затухнуть не даст.
– Я тут на досуге вспоминать жизнь канцлера стал. Ему ли не доверять. Оно верно, что отец его покойный, Станислав Замойский, каштелян Холмский, в кальвинизме сына воспитал. Для окончания образования за границу отправил. Где только пан Ян ни учился – ив Парижском университете, и в Страсбургском. В Падуе латынь досконально превзошел, диссертацию о римском сенате на ней же написал. Там и в католицизм перешел.
– А когда решили Генриха Анжуйского на наш престол выбрать, только он французского принца и уговорил в Польшу приехать. Другому бы принц не поверил.
– Правда, и канцлер наш в накладе не остался. За старания свои Кнышинское староство от нового короля получил. Анжуйский во Францию сбежал, а староство-то осталось.
– Тогда и поверить было трудно, что не вернется принц в Варшаву. Словно бы прижился у нас.
– Э, там, пане Ежи, да неужто тебе на ум не приходило, что сам ясновельможный пан Замойский ему обратно путь перебежал. Разве не помнишь, как хлопотать стал, чтоб непременно короля-поляка выбирать, чтоб иноземцев на польский престол не возводить.
– Думаешь, до Анжуйского дошло?
– Конечно, дошло, вот только как – это дело другое. Сам же пан канцлер королевскую канцелярию в порядок приводил, сам со всеми иностранными послами и дружбу водил, и секретную переписку вел. Неужто бы способ не нашелся!
– Верно, зять, говоришь. Да если так умом пораскинуть, ведь это он же Батория выдвигать стал, хитрость такую придумал – о муже для последней Ягеллонки. Не каждому в голову придет.
– Я тебе и другое еще, пане Ежи, скажу. Свою службу сослужило то, что Замойского шляхта любила.
– Не магнаты.
– Так и Бог с ними. На выборах шляхта важна. Чем больше набежит, чем громче кричать станет, тем вернее дело решится.
– Но уж надо сказать, служил Замойский Баторию верой и правдой. Все дела государственные проворачивал. В походы с ним ходил – себя не жалел. О плане московском сколько хлопотал.
– Так-то так, да ведь снова ошибся наш канцлер: Зигизмунту помог на престол вступить.
– Помстилось ему: раз Ягеллонке племянником приходится, так настоящим польским королем, продолжателем дела Баториева станет, ан все наоборот вышло. Сердцем король прилежит скандинавским краям. От Московии только отмахивается.
– Да, кстати, и от канцлера.
– Забыл, как Замойский другого, магнатами выбранного претендента, австрийского эрцгерцога Максимилиана в битве при Бычине на голову разбил, еще и в плен для полного позора взял.
– Одно скажу: за державу Польскую по-прежнему канцлер болеет. Знает, сколь велика опасность татарская, тем более что королю нашему победных труб на ратных полях не искать, не слышать. О Московии тоже думать не хочет, а ведь время сейчас самое что ни на есть подходящее. Все агенты в один голос твердят: не приживается царь Борис в Кремле.
– Так что же канцлер о госте твоем думает?
– Не то что большие надежды возлагает, а из рук выпускать не советует. Должен был гость ему по душе прийтись: книги читает, на языках разных говорит, науками не пренебрегает и от военного ремесла не отшатывается. Ловко как-то тут ввернул, что хотел бы в академию, которую канцлер в своем новом городе – Замостье открыл, увидеть. Слышал, что по образцу итальянских университетов устроена, так очень, мол, любопытно ему – лекции послушать, в диспутах поучаствовать.
– А смог бы?
– Не мне судить. Коли берется, верно, сможет. Зачем иначе на себя позор навлекать?
– И то правда. А ты говорил, будто собирался он с твоими людьми в молдавском походе канцлера поучаствовать.
– Он бы, может, и поучаствовал. Молодой, кровь кипит. Только никому такое не нужно. С ним все время отец Пимен, так через Пимена понять ему дали – не надобен нам в общем строю.
– Обиделся, поди.
– Монах сказывал, вскипел, а потом рассудил и согласился.
– Отходчивый?
– Нет, где там! Расчетливый.
– Как у тебя-то он, зять, живет? С семейными твоими?
– Упаси меня. Боже! Как можно. Отдельно живет. С монахом. И с доктором итальянским. На полном моем викте. С челядью не мешается. Князь Константы присоветовал, когда много гостей собирается, ему бы с шляхтичами встречаться. Сам он встреч таких не ищет. Гордый.
– Так о чем же с канцлером толковать можно?
– Замойский присоветовал королю его представить.
– И всю тайну его раскрыть? А вдруг Зигмунт воспротивится? От него никогда не знаешь, чего ждать. Велит Москве выдать, тогда что? Выдашь.
– Никогда. И не скажет такого король – уж об этом канцлер позаботится. Дружбы между ними нет, так ведь Замойский только что из похода удачного молдавского вернулся. Сколько король ни капризничай, а добрых отношений рушить не станет. Это точно.
– А кто ж его представлять ко двору станет? Князь Константы?
– С чего бы? Отказался от гостя, мне его с рук на руки сдал, я и представлю. Вместе с канцлером.
– Так и я бы с вами, зять, ко двору поехал. Уж как моя воеводина о королевском дворе мечтает! Распотешил бы тещу-то, пан Константы. Может, иного случая представиться ко двору и не дождаться.
– Пани воеводина! Пани воеводина! Никак с Марыней справиться не можем. К ясновельможной пани рвется. Хочу матечку видеть, сейчас хочу! И ножки, и ручки, и зубки в ход пустила. Плакать-то, как всегда, не плачет, а покраснела вся, что твой бурачок. Не знаем, как унять. Не до дочки ведь пани, сами знаем.
– Господь Милосердный! Сил у меня никаких. Ну пусть войдет. Не уймется, пока своего не добьется. Только бы на постель не садилась – болит все, в глазах темень. Подержите ее. Или на стульчик какой в сторонке усадите.
– Матечко! Матечко моя? Почему они закрыли тебя? Почему меня к тебе не пускают? Прикажи им! Слышишь, матечко, прикажи, негодная!
– Тихо, тихо, Марыню. Не можется мне. Сильно не можется.
– Опять не можется! Сколько же так продолжаться будет, матечко? Сколько праздников отец из-за тебя отменил. Люди к нам приезжать перестали.
– На все Господня воля, Марыню. Видно, прогневала Господа я…
– Прогневала, так покайся, прощения попроси, вели пану ксендзу за тебя молиться. Не лежи так, матечко, не лежи!
– Не доходят молитвы мои, дочка.
– А зачем лекарю отец платит? Зачем его держит, если он ничего делать не умеет? Гнать его надо! Нового найти!
– Вон ты какая у нас, Марыню, – ни в чем терпежу не знаешь. А мне что сказать хотела? Слаба я, дочка, трудно мне с тобой.
– А Урсула приезжает – часами с тобой сидит. Ее матечка не гонит – слов обидных не говорит. Сама под дверью слышала, как смеетесь, не то что со мной. И проводят к матечке Урсулу сразу, как приедет.
– Мала ты еще, Марыню. Урсула вон уж своих деток имеет. Советов просит. Разных. Лекарства привозит.
– Мне сказали, что и матечка скоро нам нового братца или сестричку принесет. Это как Урсула? Значит, Урсула такая же старая, как матечка, стала?
– О, Господи, Господи! Да что же это за ребенок такой – ни угомона, ни покоя от Марыни нет. Поди, Марыню, поди прочь. Завтра придешь. Может, полегче мне станет. Отлежусь немножко. Голова кружиться перестанет.
– Нет, не завтра! Сейчас мне, матечко, пусть скажет, когда меня замуж отдадут!
– Тебя? Замуж? Десяти-то лет?
– Ну и что, что десяти. А когда же, матечко? Долго еще ждать?
– Да зачем тебе, Марыню? Замуж зачем? Дома тебе плохо?
– Плохо. Очень плохо. Ни платья нового сшить, ни по моде французской причесаться. Куафер только смеется да мимо проходит.
– Вот вырастешь…
– Конечно, вырасту. Да я сейчас хозяйкой сама себе быть хочу. У служанок противных ни о чем не спрашивать – приказывать! И чтоб сразу все делали! От работы не отлынивали. По углам не шептались с парубками.
– Ишь ты, какая строгая.
– Как же не строгая, если хозяйка. Уж так лежать, как матечка, не стану. У меня девки с утра до ночи над платьями моими сидеть будут. И чтобы все по французской моде!
– Не умеют они так, Марыню. Где им!
– Учатся пусть! Не к французскому же их двору посылать. Лучше мастера для обучения выписать.
– Так вот Урсула и без французских платьев замуж, слава Богу, вышла. Живет себе припеваючи.
– Урсула может, а я не хочу. Да и не пошла бы я за Вишневецкого. Ни за что не пошла.
– Чем же тебе зять не нравится? Мало он тебя балует?
– Вина много пьет. Лицо красное. От стола встает – шатается. Танцует плохо. И голос у него громкий, грубый. Сразу видно, не велика шляхта.
– Не смей так говорить, Марыню, не смей. Не дай Бог зять услышит – на всю жизнь обидится.
– И пусть обижается. Я сама его принимать не стану, как замуж выйду. Не нужен мне родственник такой.
– Так это зависит, за кого тебе удастся замуж выйти. А может, и наоборот – у Вишневецого охоты не будет тебя принимать.
– Меня не принимать? Да я никогда ни за кого ниже него родом не пойду. Уж лучше в монастыре сидеть, чем с каким-нибудь худородным в люди показываться. Стыд какой! Мнишкувна ведь я. Мнишкувна!
– И откуда ты глупостей таких набралась, Марыню? Откуда? Все у тебя в глупой твоей головке перемешалось. Не иначе пан библиотекарь одурманил ребенка. Касю! Где ты там, Касю? Чтобы никогда больше Марыню к пану библиотекарю не отпускать. Совсем паненка наша из-за него здравого смысла лишилась! Не под силу ей в делах семейных разобраться, так одна глупость заварилась.
– Вот и объясни, почему глупость, матечко. Я знать хочу. Все о родах знатных, с нашим родственных.
– Тогда посиди тихо и послушай. Лучше сама тебе все расскажу, чтобы не посмела зятя нашего высокочтимого оскорблять. Была ты в Вишневце? Помнишь тамошний замок?
– Помню. Замок огромный. Леса вокруг. И река широкая, широкая. И портретов в залах много-много.
– Вот-вот. А почему портреты? Повели Вишневецкие свой род не от кого-нибудь – от самого великого князя литовского Ольгерда. Это один из его правнуков – Золтан в Вишневце поселился и фамилию такую себе взял. От Золтана земли Вишневецкие сначала брату его Василию перешли.
– Это что бездетен, что ли, Золтан был?
– Если и не бездетен, видно, ко дню его кончины иных наследников не оказалось. Зато у Василия остался сын Василий, знаменитый полководец. Вишневец татары ему сначала в 1494 году разрушили, а спустя восемнадцать лет здесь же князь Михаил вместе с Острожским князем Константы и гетманом Конецпольским, у деревни Лопутны, двадцать шесть тысяч татар уложили. Слышишь, Марыню? Двадцать шесть тысяч! Холопы не знали, как побитых закопать, как поля хлебные под запашку очистить. Рук не хватало. Мотыг и подавно.
– А это какой же Константы Острожский? Нынешний, что ли?
– Как можно, нынешний! Родитель его. А князь Михаил Вишневецкий вместе с четырьмя сыновьями сражался. Таких храбрецов, говорят, люди и во сне не видали. Вот из этих четверых Иван да Александр начали две линии Вишневецких: старшую ветвь, от Ивана, княжескую, и младшую, от Александра, королевскую.
– А наш зять из какой?
– Из королевской, Марыню, из королевской. Может, хватит с тебя? Устала я.
– Нет, еще расскажи, матечко! Обо всех расскажи.
– Зачем тебе? Неужто в твои-то годы любопытно?
– Еще как любопытно! Рассказывай же, матечко, очень прошу!
– Пусть тебе нянька сказок расскажет.
– Не хочу сказок! Хочу правды! Про князей мне не надо – про королей, матечко, расскажи. Значит, что после Александра было?
– Ну, как хочешь, детыно. Был Александр Вишневецкий старостой Речицким и имел двух сыновей: Михаила Второго и снова Александра, Михаил больше хозяином был, чем воином, а особенно сын его Ежи – Юрий, каштелян Киевский. Войско свое он, по обычаю, имел – две тысячи вооруженных всадников, чтобы татар отбивать. Но сам никогда на поле боя не выезжал.
– Это как же? Князь и не в бою?
– И без него обходились. Зато на всяких сеймах, судах, комиссиях разных лучше него никто выступать не умел. До Рима его слава как краснослова дошла. Шляхта съезжалась специально Михайлова сына послушать. Двор себе в Вишневецких владениях такой построил, что королю впору. Библиотеке его вся Европа дивилась. Ученые со всех стран к нему приезжали, да и вообще чужестранцев у него всегда полон двор был – денег Ежи на них не жалел. Духовными науками очень интересовался, с духовными лицами конференции всяческие проводил, а там, по размышлении долгом, многолетнем, первый среди Вишневецких католичество принял, откуда раздоры в семье пошли.
– Из православия в католичество перешел?
– Перешел. А брат его родной, Михаил Третий, староста Овруцкий, от ортодоксии ни на шаг. Супруга его, дочь Иеремии, господаря Валахского, мужа во всем поддерживала. О папском престоле слышать не хотела. Так и строили они с мужем монастыри православные и церкви в своих владениях повсюду – в Прилуках, в Подгорце. А уж какой богатейший монастырь устроили в Лубнах, люди только диву давались. Сокровище князь Михаил хранил великое – среди множества памятников церковных книгу «Бесед Апостольских».
– А где же пан Адам?
– Пан Адам родился у брата Михаила Второго, у Александра. Вот он и царствует в своем Брагине. Была же ты там, Марыню.
– Была… Знаешь, матечко, я все портреты вспоминаю. Если бы у нас такие были! Около них стояла бы все время, не отрывалась.
– Ну, художники-то не всегда так уж и хороши.
– А помнишь, матечко, Анну Ягеллонку, супругу Стефана Батория? – Ткани у нее какие! Будто волшебница в тумане вся. Я только королевские портреты люблю. Мне бы в таком платье оказаться!
– Может, разочек и окажешься. Если король у князя Острожского Константы гостить будет, тетка твоя Урсула, княгиня, может, и сумеет дать тебе глазком взглянуть. Сестра сама до нарядов великая охотница.
– О каких нарядах ты, матечко, толкуешь? Не народы мне дороги – одеяния королевские. Чтобы одна я такая во всех залах была! Чтобы королевой! А на один раз не надо мне. И смотреть в щель дверную не стану.
– А теперь, вельможная паненка, пора и честь знать. Пойдешь с няней. Совсем пани воеводину замучила: как восковая стала. И что ж ты такая неугомонная, Марыня, все о себе, все о себе – на других и не посмотришь. Матушку ведь жалеть надо, а не норов свой тешить. Чистый пан воевода, прости Господи!
Посла, верховного советника польской короны, звали Львом Сапегою, и он был у царя раз двадцать, и они расставались то друзьями, то врагами, и ежели расставались друзьями, то послу оказывали большой почет: довольствовали его со свитой и лошадьми; а когда расставались врагами, то строго следили за послом; он должен был по дорогой цене покупать воду в Москве и не смел ни с кем говорить. Наконец, был заключен мир или перемирие на двадцать два года между царем и королем польским; и это случилось 22 февраля по старому стилю, в 1601 году. И в тот день все посольство с утра до поздней ночи пировало у царя на пиру, таком пышном, как только можно себе представить, даже невероятно, не стоит рассказывать.
1 марта помянутый посол Сапега и вся его свита получили прощальную аудиенцию у царя; и было ему выдано содержание на людей и лошадей; можно себе представить, сколько это стоило; 3 марта он в сопровождении великолепной свиты отбыл в Польшу.
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Знамений боялся. Смертельно боялся. И раз за разом поступался страхом: уходило время, иссякало здоровье. Жил, болезнуя, как толковали монахи. Задумывал, начинал многое, был уверен: дождется свершения. Каждая задумка, строительство, даже замужество дочери должны были помочь немедленно. Лишь бы продержаться. Лишь бы устоять перед невзгодами, которых оказывалось слишком много на одного человека. Помощников не было. Сочувствующих – тем более.
Удача, казалось, все время была рядом и всегда ускользала. В последнюю минуту. В Самборе толковали: судьба. Значит, судьба. Значит, надежды Дмитрия Иоанновича все растут и растут.
Жених для Ксеньи нашелся. Не сразу. Зато не Густаву Ириковичу чета. Младший сын короля Фридриха II Датского. Брат правящего короля Христиана IV. День за днем только одним ожиданием и стали жить.
14 марта 1602 года прибыл гонец с известием, что брат датского короля со всем своим двором отправился в Москву. Месяц продержал его царь Борис в Москве, щедро одарил, богато принимал и только 14 апреля отправил в обратный путь.
А кругом множились знамения. Однажды ночью караул у дворца увидел, как промчалась по воздуху колесница с шестеркой лошадей, и сидел в колеснице поляк, который со страшной силой и криками хлопал над Кремлем кнутом. А кричал небесный всадник так ужасно, что стража убежала во внутренние покои дворца. Не на земле – на небе продолжались всяческие видения, и по утрам на московских торжищах москвичи шепотом пересказывали друг другу страшные картины. Тут же доходили тревожные слова и до царя. И только тогда чуть легче вздохнул Борис, когда 26 июня отпустил в Ивангород для встречи датского принца боярина Михаила Глебовича Салтыкова и известного мастера улаживать самые трудные дела – дьяка Афанасия Ивановича Власьева.
А спустя месяц добрался до Москвы новый гонец с известием, что корабли герцогские отплыли из Дании и герцог уже в пути. Этого гонца Борис ни задерживать, ни особо одаривать не стал. Через день в обратный путь отправил.
19 сентября, на день памяти благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина, состоялся въезд герцога в Москву с великой пышностью, под звон колокольный.
28 сентября, на день Харитона Исповедника и родителей Сергия Радонежского – преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, последовало приглашение герцога на обед к Борису.
Празднествам не виделось конца.
В продолжение этих трех лет (1601–1603) совершались вещи столь чудовищные, что выглядят невероятными… Не считая тех, кто умер в других городах России, в городе Москве умерли от голода более ста двадцати тысяч человек; они были похоронены в трех предназначенных для этого местах за городом, о чем позаботились по приказу и на средства императора, даже о саванах для погребения.
Причина столь большого числа умерших в городе Москве состоит в том, что император Борис велел ежедневно раздавать милостыню всем бедным, сколько их будет, каждому по одной московке (полкопейки)… так что, прослышав о щедрости императора, все бежали туда, хотя у некоторых из них еще было на что жить; а когда прибывали в Москву, то не могли прожить на эти деньги… и, впадая в еще большую слабость, умирали в городе или на дорогах, возвращаясь обратно.
В конце концов, Борис, узнав, что все бегут в Москву, чтобы в Москве умереть, и что страна мало-помалу начинает обезлюдевать, приказал ничего больше им не подавать; с этого времени начали находить на дорогах мертвыми или полумертвыми от перенесенных голода и холода, что было необычайным зрелищем.
Сумма, которую император потратил на бедных, невероятна; не считая расходов, которые он понес в Москве, по всей России не было города, куда бы он не послал больше или меньше для прокормления нищих…
Яков Маржерет. «Записки очевидца Смутного времени»
Престол престолом, а породниться с семействами королевскими все едино нужно. Как иначе? Для бояр Годуновы навсегда худородными останутся. Каких богатств ни набери, попрекать отцовской бедностью будут. Не от хорошей жизни отцов брат, Дмитрий Иванович Годунов, во дворец племянника с племянницей брал – известно, чтоб одну-единственную наследную деревеньку не делить, на жизнь их не тратиться. Оттого и с грамотой нам с Ариной совладать не пришлось. Сестра-то еще какой-никакой премудрости книжной поднабралась – много ли бабе надо! – а у брата ни времени, ни случаю не выпало. Все в службе дворцовой, все с утра до ночи на виду. Теперь одна забота – неучености своей государю не выдать.
Зато уж деткам все науки преподал, всех учителей самых что ни на есть ученых предоставил. Ни за Федора, ни за Ксенью краснеть не придется – хоть сегодня в какой ни хошь европейский дворец. Послы все говорят: залюбуешься – заслушаешься. А у царевны еще и характер легкий, веселый. Все бы ей шутки шутить, сказки сказывать. Исподтишка даже пляски новомодные разузнала – в тереме нет-нет да пройдется, лишь бы боярыни не заметили.
Казалось, посчастливилось. Сразу пришлось с Данией о границе в Лапландии толковать. Тут и сказал, что зятем желал бы датского царевича иметь. Король у них молодой, только что на престол вступил – старший сын Фридриха II Датского, Христиан IV. Он брата своего Иоанна предложил. В Москву без проволочки снарядил. Ксеньюшке приглянулся. Царица Мария Григорьевна слова супротивного не сказала. Со свадьбой торопиться стали.
Одно сомнение: больно отец королевичев на государя Ивана Васильевича похож. Четырьмя годами всего государя нашего покойного моложе. Королем Дании и Норвегии в поход Казанский объявлен был. Поначалу воевать принялся со Швецией – семь лет разделаться не мог. Потом зарок дал, одними художествами да науками заниматься стал. Споров церковных – и тех не поощрял. В мире великом с народом своим жил. А нравом куда как не сдержан. Все толковали: оглядки да рассудительности королевской от него не жди.
Решили мы с царицей Марьюшкой обождать. Лучше к жениху приглядеться. Чем ему плохо на московских хлебах-то пожить, к порядку привыкнуть, а теперь что? Теперь-то как? Не смолчит Москва! Сердцем чую, не смолчит…
Как могла смолчать Москва, когда 16 октября, на день памяти мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни, разошлась на торжищах весть: занемог царевич-жених.
Царь верить не захотел. Решил, от обильных яств. Может, от напитков крепких. Кто знает, как пришлись непривычному человеку.
Дни шли. Секретарь герцога раз за разом отказывался принять приглашение к царскому столу. Борис заподозрил неладное – хитрость какую, хоть до окончательных условий брачного договора дело еще не доходило. По старому своему обычаю велел людишек порасспросить – возчиков, что дрова на двор герцогский доставляли, водовозов, служек с Кормового двора.
В один голос подтвердили: лежит герцог. Который день в покое своем лежит. Врач при нем и монах-иезуит. Никому к больному проходу не дают.
Посла своего отправил. О здоровье осведомиться. Собственными глазами посмотреть. Убедиться.
Провели посланника к ложу герцога. Вернулся боярин во дворец – подтвердил: худо герцогу. С лица совсем спал. Кожа позеленела вся. Лежит – лихоманка его бьет. Под сколькими полостями меховыми согреться не может.
На день великомученика Дмитрия Солунского, 26 октября, царь сам с царевичем к гостю собрался. Понял: не сбыться его планам. Плакать, в голос вопить начал, за что ему наказание такое, испытание не по силам.
А через день, на Параскеву Пятницу, герцога не стало. Преставился второй жених царевны Ксении.
19 октября утром в 9 часов к герцогу Гансу с Симеоном Микитичем (Годуновым) явились пятеро царских докторов медицины, а именно: доктор Каспар Фидлер из Кенигсберга, доктор Иоганн Хильке из Риги, доктор Генрих Шрейдер из Любека, доктор Давид Васмар из Любека и доктор Христофель Райтингер, уроженец страны Венгрии… В это самое утро царь приказал собрать у ворот Кремля по крайней мере тысячу бедняков, каковые все получили милостыню, причем у ворот Кремля был такой шум и крик, что слышно было на нашем подворье, и мы могли предположить только, что это пожар.
Аксель Гюльденстерн. Дневник
27 октября его царское величество сам был на подворье у моего господина, несмотря на то, что никто из побывавших у больного не смеет в течение трех дней являться пред очи царя – и даже (не смеет явиться перед царем) побывавший на подворье, где есть больной или покойник, если не прошло трех дней после его выноса, – так боятся русские болезней, – несмотря на это, в этот день царь сам приехал к моему господину посетить его в болезни, и как он нашел герцога очень больным и слабым, то стал горько плакать и жаловаться.
28 октября царь Борис снова посетил герцога и несколько раз принимался горько плакать, и все бывшие с ним бояре выли и кричали так, что сами не могли друг друга понять; наш толмач тоже не мог ни расслышать, ни понять, что они выли и кричали, и делали они это всякий раз, как начинал плакать царь.
Аксель Гюльденстерн. Дневник
И царь сильно предавался горю. Тут герцог Ганс два или три раза весьма быстро и с силою поднялся и повернул голову к царю, но ничего понятного сказать не мог.
Аксель Гюльденстерн. Дневник
По замку вести быстро расходятся. Заболел. Заболел московит. Видно, не на пользу пошла ему Москва. Приехал – еще на ногах держался. Потом слег. День ото дня слабеть начал.








