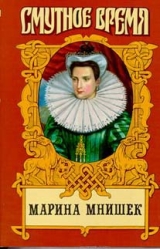
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Так сильно прогневался всемогущий Бог на эту страну и народ, что по его попущению люди от снов и размышлений уверились в том, чего, как они сами хорошо знали, не было, сверх того заставил царя Бориса и жестокосердую жену его, бывшую главной причиной тирании Бориса, против их воли тому поверить, так что они послали за матерью царевича Дмитрия, убиенного в Угличе…
Эта бывшая царица была инокинею в одном дальнем от Москвы монастыре, и как только впервые разнесся слух об этом Димитрии, ее перевели в более дальнюю пустынь, куда не заходил ни один человек и где ее строго стерегли двое негодяев, чтобы никто не мог прийти к ней.
Борис повелел тайно привести ее оттуда в Москву и провести в его спальню, где он вместе со своею женою сурово допрашивал инокиню Марфу, как она полагает, жив ее сын или нет; сперва она отвечала, что не знает, тогда жена Бориса возразила: «Говори, б… то, что ты хорошо знаешь!» – и ткнула ей горящею свечою в глаза и выжгла бы их, когда бы царь не вступился, так жестокосердна была жена Бориса; после этого старица Марфа сказала, что сын ее еще жив, но что его тайно, без ее ведома, вывезли из страны, но впоследствии она узнала о том от людей, которых уже нет в живых.
Борис велел увести ее, заточить в другую пустынь и стеречь еще строже, но когда бы могла ею распорядиться жена Бориса, то она давно велела бы умертвить ее, и хотя это было совершено втайне, Димитрий узнал об этом. Всемогущий Бог знает, кто поведал ему о том…
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Ведун сказал: имя! В нем все дело, государь. В имени твоем, Борис Федорович. Нет ему удачи на русских престолах. От века так повелось.
Ведь в святом крещении наречено! – Головой покачал: это другое. Сам соименников своих вспомни.
Отмахнуться бы от старика. Крестным знамением себя осенить. От него. А от памяти?..
Владимир, Киевский князь. Равноапостольный. Христианство принял. Русь крестил. Сын у него любимый. Борис…
Отца почитал. Старшему брату Святополку ни в чем не противился. Господу служил – богомольца да молитвенника такого поискать.
От Святополка убийцы пришли. Вечерним временем. Когда на молитве стоял. Отпел псалмы – копьями пронзили. Не на смерть – живым в полотнище от шатра завернули. В Киев торопились. Там уж Святополк двух варягов послал – мечами сердце проткнули. Великомученик, на Руси просиявший…
Внук другого великого князя Киевского – может, ведун и не знает? Борис Коломанович, венгерского короля сын. Не признал король. Вместе с матерью в Киев обратно отослал. Вся жизнь за престол отцовский воевал. Сестру императора византийского в жены взять сумел, а власти не достиг. Убили…
У ведуна свое. Сын князя Долгорукого Юрия, что начало славе московской положил. Пять лет после кончины отца на уделе пробыл – скончали.
В соборе Архангела Михаила нашем, кремлевском, гробница Бориса Васильевича, шестого сына Василия Темного. До сорока пяти лет дотянул, в боях да изменах, – скончали. В Рузе.
В Ростове Великом, в Успенском соборе, литии отправляют по другому Борису Васильевичу. Ростовскому. Как Орду ни ублажал, как перед ханом ни гнулся, едва, по приказу, со всем семейством до столицы татарской доехал, конец нашел.
…Одной царице Марье признался: хочу ведуна спроситься – правда ли. С Литвой. Белее полотна стала. Брови черные широкие тучей сошлись. Едва губы разжала: твоя воля, государь. Может, и впрямь хмару разгонит. Силушки нет. Это она-то! Малюты Скуратова любимая дочь!..
Теперь понял: сам надежду имел – если что, поопасится ведун государя огорчать. Душой покривит. Только этому, поди, за сто лет. Страх весь изжил. Глаза светлые. Не замутились. Только ободки красные. Слезятся. Руки большие. Жилистые. Как коренья дубовые.
Глядит, будто досадует: чего еще ждешь, государь?
– А Дмитрий… Дмитрий – имя удачливое?
Вздохнул: так ты о литовском человеке. И до государевых палат правда дошла…
13 апреля (1605) по старому стилю Борис был весьма весел или представлялся таким, весьма много ел за обедом и был радостнее, чем привыкли видеть его приближенные. Отобедав, он отправился в высокий терем, откуда мог видеть всю Москву с ее окрестностями, и полагают, что там он принял яд, ибо как только он сошел в залу, то послал за патриархом и епископами, чтобы они принесли ему монашеский клобук и тотчас постригли его, ибо он умирал, и как только эти лица сотворили молитву, постригли его и надели на него клобук, он испустил дух и скончался около трех часов пополудни.
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Добрых два часа, пока слух о смерти Бориса не распространился во дворце и в Москве, было тихо, но потом внезапно заслышали великий шум, поднятый служилыми людьми, которые во весь опор с оружием скакали на конях к Кремлю, а также все стрельцы со своим оружием, но никто еще ничего не говорил и не знал, зачем они так быстро мчатся к Кремлю; мы подозревали, что царь умер, однако никто не осмеливался сказать.
На другой день узнали об этом повсюду, когда все служилые люди и придворные в трауре отправились в Кремль; доктора, бывшие наверху, тотчас увидели, что это случилось от яду, и сказали об этом царице и никому более.
И народ московский был тотчас созван в Кремль присягать царице и ее сыну, что и свершили, и все принесли присягу, как бояре, дворяне, купцы, так и простой народ; также были посланы во все города, которые еще соблюдали верность Москве, гонцы для приведения их к присяге царице и ее сыну… и так Марья Григорьевна стала царицею и сын ее, Федор Борисович, царем всея Руси 16 апреля 1605 года.
Борис был дороден и коренаст, невысокого роста, лицо имел круглое, волосы и бороду поседевшие, однако ходил с трудом по причине подагры…
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
1 июня 1605 года, около девяти часов утра, впервые смело въехали в Москву два гонца Димитрия с грамотами к жителям, чтобы прочесть их на большой площади во всеуслышание перед всем народом, что поистине было дерзким предприятием, так явиться в город, который был еще свободным и за которым стояла вся страна, где еще был царь, облеченный полной властью…
Оба помянутые гонца, прибыв верхом на площадь, тотчас были окружены тысячами простого народа, и тут узнали, что одного гонца звали Гаврилом Пушкиным, а другого Наумом Плещеевым, оба дворяне, родом из Москвы, кои первыми бежали к Димитрию; и они прочли во всеуслышание перед всем народом грамоту, которая гласила:
«Димитрий, Божиею милостию царь и великий князь всея Руси, блаженной памяти покойного царя Ивана Васильевича истинный сын, находившийся по великой измене Годуновых столь долгое время в бедственном изгнании, как это всякому хорошо ведомо, желает всем московитам счастья и здоровья; это уже двадцатое письмо, что я пишу к вам, но вы все еще остаетесь упорными и мятежными, также вы умертвили всех моих гонцов, не пожелав их выслушать, также не веря моим неоднократным правдивым уверениям, с которыми я столь часто обращался ко всем вам. Однако я верил и понимал, что-то происходит не от вас, а от изменника Бориса и всех Годуновых, Вельяминовых, Сабуровых, всех изменников Московского царства, притеснявших вас до сего дня: и мои письма, как я разумею, также задержаны ими, и по их повелению умерщвлены гонцы. Того ради прощаю вам все, что вы сделали против меня, ибо я не кровожаден, как тот, кого вы так долго признавали царем, как можно было хорошо приметить по моим несчастным подданным, коих я повсегда берег как зеницу ока моего, а по его, Бориса, повелению их предавали жалкой смерти, вешали, душили и продавали диким татарам; оттого вы легко могли приметить, что он не был вашим законным защитником и неправедно завладел царством. Но все это вам прощаю опять, схватите ныне всех Годуновых с их приверженцами, как моих изменников, и держите их в заточении до моего прибытия в Москву, дабы я мог каждого наказать, как он того заслужил, но больше пусть никто в Москве не шевельнет пальцем, но храните все, и да будет над вами власть Господня».
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Те же советники его пришли к Москве и повеление его, окаянного, исполнили. Патриарха Иова свели с престола – привели его в Соборную церковь (Успенский кремлевский собор) и стали снимать с него святительское одеяние. Он же… положил панагию у иконы Пречистой Богородицы. Посланники же те схватили его и надели на него черное платье, и вывели его из Соборной церкви, и посадили его в телегу, и сослали его в Старицу… в монастырь Пречистой Богородицы (Успенский Старицкий монастырь). Всех же Годуновых, и Сабуровых, и Вельяминовых разослали из Москвы по тюрьмам в понизовые города и в Сибирские…
Об убиении царевича Федора с матерью. Князь Василий Голицын, да князь Василий Мосальский взяли с собою Михалка Молчанова да Андрея Шерефединова да трех человек стрельцов, и пошли на старый двор царя Бориса, где сидели царица и царевич под стражей, и вошли в дом…
И те стрельцы-убийцы развели их порознь по помещениям. Царицу же Марию убийцы удавили тотчас; царевича же пытались удавить в течение долгого времени, потому что по молодости в ту пору дал ему Бог мужества. И ужаснулись те злодеи убийцы, что один с четырьмя борется, и один из тех злодеев убийц схватил его за тайные уды и раздавил.
И сказал князь Василий с товарищами миру, будто царица и царевич от страха зелья испили и умерли, а царевна едва жива осталась. И повелели их тела во гроб положить.
«Новый летописец». 1605
Те же мужики красносельцы (из Красного села, ныне – Красносельские улицы в Москве) гонцов приняли и обрадовались им… И пришли в город на Лобное место. Многие же и служилые люди к ним присоединились, иные своею охотой, а иные из-за страха смертного. И вошли миром в Кремль, и взяли бояр, и привели их на Лобное место, и прочитали его, окаянного, дьявольские прелестные грамоты, и воскликнули единым голосом, и провозгласили его, Расстригу, на государство.
И, придя в Кремль, царицу, и царевича, и царевну схватили и свели их на старый двор царя Бориса, и заключили под стражу. Годуновых же, и Сабуровых, и Вельяминовых всех схватили и заключили под стражу. Дома же их всех разграбили сообща – не только имущество пограбили, но и хоромы разломали; и в селах их, и в поместьях, и в вотчинах пограбили…
«Новый летописец». 1605
Москвичи сомневались. Слухи о Гришке Отрепьеве ходили настойчивые. Хотя, если рассудить, даже слишком настойчивые. Будто кто-то своего добивался. Отчаянно. Настырно.
В рядах говорили, если бы и впрямь беглый монах, кто ни кто да узнал бы. Должен был узнать. Хотя бы те же монахи в Чудове монастыре. Почему-то не узнавали. Со стороны свидетели называли. Тоже беглых. Тоже необстоятельных.
Речь царя все слышали. На русском языке говорил. Никогда не ошибался, даром на чужбине столько лет провел.
Должен был бы к венчанию на царство стремиться – нет, пожелал с родительницей увидеться. Великую старицу из монастыря привезти. Чтоб сама на том венчании была. Чтоб сама сына благословила.
Иные слухи поползли, и все против Дмитрия. Мол, не зря на Белоозеро доверенный постельничий Дмитрия помчался, Семен Шапкин. Мол, уговорить царицу-иноку должен был, улестить, а коли понадобится, то и припугнуть.
И снова в Торговых рядах народ не соглашался. А кого же иного мог царь с радостной вестью к родительнице послать. Бояре все как один в горе да ссылке ее повинные. Разве поверила бы? Разве в подвохе каком не заподозрила?
Меньше месяца прошло, как приехала под Москву инока Марфа, былая царица Нагая. Семнадцатого июля положено молодым царем было встретиться с родительницей. И не в четырех стенах, не во дворцовых покоях, скрытых от посторонних глаз, – в чистом поле, на глазах у всего честного народа. Глядите, православные! Сами глядите, сами и судите, на чьей стороне правда!
Царицу-иноку в селе Тайнинском поместили. С поклонами к ней племянник опальных князей Шуйских – Михаил Скопин-Шуйский царем отправлен был: пусть и он поглядит, пусть в деле царском семейном участие примет.
День для встречи матери с сыном не случайно выбран был – великомученицы Марины. Сколько святая претерпела, каким мукам подверглась. За веру свою трезубцами была остругана до костей, к кресту прибита, замертво в темницу брошена и пришла в себя невредимой, во всем сиянии юности и красоты.
Царь, выбирая день, словно нарочно при всех кондак читать стал: «Марина днесь вражию голову сокрушает, победы венец с Небесе приемши. Его же бо пророцы удержати не возмогоша, того она, увязавши, уязви. Сего ради показася мучеником украшение, вкупе нее и похвала».
Семнадцатое июля – лета середина. В поле под Тайнинским толпы собрались несметные. Над полем марево дрожит, всеми цветами переливается. Жаворонки высоковысоко вьются – одна песня слышна. Рожь стеной стоит. Ветер по ней волнами ходит. От леса смолой сосновой тянет, что твой ладан.
Первым царь Дмитрий подъехал. Округ наемное войско – нарядней во сне не приснится. На конях гарцуют. Красуются. Бояре каждый со своей свитой. Что кафтаны золотные, что оружие, каменьями драгоценными высаженное. Иноземцы перекликаются. Бояре молчат.
Каптана царицына не спеша приблизилась. Кучер коней белых осадил.
Дети боярские к дверцам кинулись. Настежь распахнули. Бояре царицу-иноку под руки подхватили, на землю поставили. А царь уже у ног ее: «Государыня! Матушка государыня!» Слезами зашелся.
Царица подняла Дмитрия, на шею ему кинулась, да так и замерла. Водой обливать стали. Доктор-итальянец соли какие-то достал – чтобы понюхала, в себя пришла. Больше от царицы ни на шаг.
Толпа ахнула: сын! Чего уж! Что бояре ни говори, глаз человеческий не обманешь. Царица только очнулась, царя к сердцу прижимает и говорит, говорит… Быстро-быстро так, негромко так, словно дитя малое уговаривает. А он от слез и голоса лишился. Только и твердит: государыня-матушка! Матушка!
С полчаса прошло. Доктор забеспокоился. Известно, полуденное солнце июльское крепко припекает – не повредило бы семейству царскому. Царицу-иноку еле от сына оторвали, снова в каптану посадили. А она к окошку прильнула. Стекло ей спустили – руку к царю тянет, тянет. Худую. Почти что бескровную. Пятнадцать лет в келье сырой да темной – на кого ни доводись, здоровья не сохранишь.
В толпе вспоминать стали: хороша была царица, когда царь Иван Грозный во дворец ее ввел. Венчаться, все знали, не венчался. Надо полагать, по благословению церковному жил. Да с невесты какой спрос. Девка она и есть девка: куда родитель отдаст, там и жить будет.
А хороша! Брови соболиные на переносье сошлись. Глаза темные. Неулыбчивые. Румянец во всю щеку. Губы – что твое вишецье, соком алым налиты. Жалели, когда царь отрешил Нагую от себя. Почему? Да какой с венценосца спрос!
Лик царицы-иноки тоже иные исхитрились рассмотреть. Прядь седая по щеке бьется. Щеки ровно плугом распаханы. Губы едва не белые. В трещинках. Все она ими перебирает, перебирает.
В путь к Москве тронулись, царь около каптаны пешком пошел. Нет-нет до руки царицыной дотянется. И все слезы утирает.
Еле уговорили на-конь сесть – от кареты наотрез отказался: от царицы, мол, далеко. Столько лет ждал, наглядеться не может. Счастью своему поверить.
Не успели оглянуться, сумерки пали. Легкие. Прозрачные. До Москвы не доехать. Порешили на ночь остановиться. Царице спальню устроили, а она всю ночь с сыном на молитве стоять осталась. Говорить с ним не говорит, только молитвы читает.
Попа позвала, чтоб из Священного Писания о преподобном Иоанне Многострадальном Печорском – в его день вступили – почитал что положено.
«Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи! Зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый господин сильным и крепким рабам поручает тяжелую работу, немощным же и слабым – легкую»…
Только на рассвете царь к себе уехал – передохнуть. День ждал обоих куда какой нелегкий.
С утра сесть в свою карету царь не согласился. Верхом у оконца царицыной кареты всю дорогу оставался. Шапки не надел – с непокрытой головой скакал. Только в городе шапку надел, впереди кареты место занял.
Москва давно такого праздника не видала. Колокола во всех церквах пасхальным благовестом залились. Звонари рук не пожалели. Улицы народом запружены, а на Красной площади истинное столпотворение. Одних купцов, гостей заморских самых богатых несколько сотен выстроилось.
Патриарх Игнатий в дверях Успенского собора ожидал. С крестом и благословением. Царица в ноги ему упала. Еле подняли. Игнатий ее, как малое дитя, усовещевать принялся. Только и сам – народ видел – ненароком слезу смахнул. Кто бы подумать мог, что свершится такое! Мало что царевич из гроба встанет, еще и с родительницей своей воссоединится.
Не знал патриарх раньше царицы. Не знал и царевича. В Москву после Углического дела приехал. Из Рима. Туда из епархии своей на острове Кипре от турок бежал. В сане архиепископа.
До 1603 года назначения ждал. Патриарх Иов не торопился. Греков, не скрываясь, не любил. Только незадолго до кончины Годунова согласился иноземцу Рязанскую епархию в управление дать.
А как двинулись полки Дмитрия на Москву, первым из русских иерархов царевича в Туле по царскому чину встретил. Новый царь службы верной не забыл – приказал духовенству Игнатия на патриарший престол избрать.
Многие тогда из князей церкви засомневались. Воля-то царская, да не утвердится ли с новым патриархом дух униатства. Как-никак не один год в Риме прожил. Выходит, с Ватиканом, папским престолом, ладил.
Царь Дмитрий хотел, чтобы все по чину сталось. Благословения у свергнутого Иова для нового святейшего просил. Иов уперся. Не потому, что взревновал преемника к утраченной власти, а, по его словам, «ведая в Игнатии римские веры мудрование». Только иных церковнослужителей в их сомнениях укрепил.
Царь Дмитрий спорить не стал. Его власть – его и воля. Стал Игнатий и без благословения Иова патриархом. Теперь, отслужив торжественный молебен, сам государя с его матушкой на соборную паперть вывел. Сам благословил милостыню, что начали щедрой рукой раздавать.
Надо бы по чину тут царице-иноке в свои покои монастырские удалиться. Сын не дал. От себя не отпустил. Во дворец увел. За достойную трапезу вместе с собой посадил. Боярину Шуйскому после долгой трапезы сказал: теперь и на царство венчаться можно. Матушка-царица благословила. А так – куда мне без нее.
День коронования патриарх выбирал. Назначил на память пророка Иезекииля – 21 июля. Дмитрию все объяснил. Иезекииль один из четырех великих пророков. На 30-м году жизни было ему странное видение. Будто отверзлися небеса и предстало глазам его облака, а в облаке четыре животных, и у каждого по четыре лица: человека, льва, тельца и орла. А еще у каждого животного по четыре крыла, по две руки и по одному колесу. А над ними – хрустальный свод с сапфировым престолом, на престоле Господь в виде человека с книжным свитком. И услышал Иезекииль слова: «Съешь сей свиток и иди с проповедью к непокорному народу израильскому». Иезекииль выполнил приказ, исполнился с того времени пророческого духа и стал поучать иудеев в плену.
Стихиру прочел: «Иезекииле Богоприятие, яко Христов подобник, чуждаго долга томительство претерпел еси, люте истязаемь, преднаписуе хотящее четнаго ради Креста быти миру спасение. Богоявление, и избавление. Его же причаститися всем ныне умоли, воспевающим тя».
Об украшении Кремля Шуйский побеспокоился. Царский дворец всеми дорогими ярчайшими тканями и светильниками разукрасили. Дорогу из дворца через площадь к собору Успенскому золототканым бархатом застелили… Цветов в собор внесли, что твои райские кущи.
Порядок Игнатий подсказал. Дмитрий у алтаря рассказал народу о своем чудесном спасении. Чтобы иным всяким слухам конец положить. При царице-матери. Патриарх увенчал его венцом Ивана Грозного. Бояре с великим почетом поднесли скипетр и державу.
Дмитрию мало показалось. Приказал себя вторично венчать, теперь уже в соборе Архангельском, у гробов всех предков своих. Поклонился земно каждому гробу. Каждый облобызал. Последним к гробнице Ивана Грозного в приделе подошел. Перед ним наземь упал. Лежал долго, молитвы творил. Тут же архиепископ Арсений возложил на Дмитрия Шапку Мономаха. На паперти бояре золотыми монетами толпу осыпали. Никто не поскупился – своими тратились. Обо всем, чем им новый царь обязан, заранее договорились. Уверились: их волю Дмитрий Иванович станет творить. Не сможет отступиться.
Думали заставить молодого царя вернуться к старым порядкам. Главное – лишить его наемников, с которыми вступил в Москву. Они его особу охраняли. Они же и караул в Кремле несли. Трудностей на своем пути не видели. Наемникам платить надо было. На землю и поместья они не соглашались. Требовали золота, а его-то в царской казне всего ничего оставалось. Должен был Дмитрий сам понять: не по карману ему его гвардия.
Да и какая, к слову сказать, гвардия! Сброд один. Жалованье не копили. Золото тут же на гульбу спускали. На улицах бушевать принимались. Кого ограбят, кого обидят. Против таких другое войско держать надо было. Только какое?
Дмитрий первые недели в столице и слышать ни о чем не хотел. Да ведь на правду глаз не закроешь. А главное – Москва стала неспокойной, бунташной. Сама царя себе выбрала. Сама его встретила. Сама решила и порядок наводить. Постельничий что ни день стал царю доносить: пошумливают москвичи, все громче пошумливают. За дубины браться принимаются.
За всяческие безобразия пришлось шляхтича Липского арестовать. Суд приговорил иноземца к торговой казни: вывели его на торг и начали наказывать батогами. Наемники на выручку товарищу кинулись, москвичи – к приставам.
Такой жаркой битвы старики со времен татарских нашествий не помнили. Бились насмерть. Одних положили на месте, других изуродовали. Поначалу наемникам оружие помогло потеснить толпу. Потом москвичи верх взяли. Наемники в бегство припустились. Еле до Посольского двора в Кремле добежали, все ворота накрепко закрыли. Москвичей к тому времени тысячи собралось. Со всех концов города сбежались. К осаде готовиться стали. Камни в ход пустили, бревна. Того хуже – факелы смоляные кто-то посоветовал в ход пустить. Моря огненного – сколько раз оно Кремль дотла уничтожало! – не побоялись.
Семен Шапкин со двора примчался. Дмитрий у оконца стоит, на площадь смотрит. Краска с лица сбежала. Руки сжимает. Не шелохнется.
– Государь! Плохо дело! Не знаешь ты еще москвичей. На штурм пойдут – кровищи видимо-невидимо прольется. Никто не остановит. Не гоже это, ой не гоже, еще столы после коронования твоего толком не разобрали. Еще гости не разъехались – и такое.
– Знаю, Семен, что плохо.
– Выйди к ним, государь, выйди, не медля. Слова какие найди, чтоб унялись. Только что видели они тебя в Шапке Мономаха, видели со скипетром и державой, Бог даст, послушают.
– Выйти? Думаешь, сейчас?
– Сейчас-то сейчас, да не в таком платье.
– Это еще почему? Чем оно плохо?
– Не плохо, государь, в полном царском облачении выйди. К кафтанам-то самым богатым народ привык, а перед царем оробеет.
– Нешто Борис его не надевал?
– Прости на вольном слове, государь, что из того, что Годунов в том же облачении был. Не имя народу важно – власть!
– Что палач, что жертва – все едино!
– Справедливости у Господа Бога нам, грешным, искать надобно, не у толпы. Это каждый человек сам по себе Бога нет-нет да и вспомнит, в душе держит, а как в стадо люди собьются, тут уж никто себя не помнит. Не гневись, государь, распорядился я, походя, чтобы платье тебе для выхода принесли. Вот, облекайся, да и утишь народ свой, утишь, пока не поздно!
На Красное крыльцо ступил – по площади ровно вздох пронесся: «Государь! Государь с нами! Говорить будет! Государь!..» Бояре, дети боярские кольцом окружили. Рынды на ступени встали.
– Москвичи! Люди русские! Дети мои! Николи не дам вас в обиду! Никому не позволю руки на вас поднять! Жить под моей державой будете в мире и благополучии. Суд справедливый вам буду вершить, сам за приговорами смотреть. Посмели иноземцы безобразие учинить, пусть немедля зачинщиков выдадут. Слышите, жолнежы? Немедля! Обороняться захотите, пушками велю весь Посольский двор снести, чтобы камня на камне, бревна на бревне не оставалося. Мое в том слово, царское.
Ревет народ от радости. Обнимаются. Шапки об землю кидают. Здравицы царю Дмитрию выкрикивают. Патриарх Игнатий из Успенского собора нежданно-негаданно появился. Толпу благословляет. Дьяконы хоругви вынесли.
Посольский двор ровно замер. Ни стука, ни крика. Царь обернулся:
– Приставам двор сторожить. Никоим разом ворот не открывать, никого со двора не выпускать. А вы, дети мои, спасибо вам за службу верную, по домам расходитесь. Сейчас казначей вас деньгами наделит – за труды и обиды. Идите по домам, ваш государь бдит за вас.
Расходиться стали. Не сразу. Будто нехотя. У каждого монеты в руке. Переговариваются. То ли поверили, то ли не верят.
Во дворце к Дмитрию начальники рыцарей кинулись, объяснений требуют. Грозятся. Не оставят, мол, товарищей. Лучше все разом со служен уйдут, чем позор такой терпеть. Голоса все громче. Один другого перекричать хотят. Злобятся. Волками глядят.
Царь распорядился всем в столовую палату пройти. В междучасье успел повелеть, чтобы трапезу приготовили. Вина побольше выставили. Беседа, мол, непростой будет. Боярам иное место назначил: нечего все дела между собой мешать.
– Господа рыцари, похвалять вас не буду. Зря своим жолнежам волю такую дали. Но и судить за убийства никого не буду. Так скажем, обе стороны виноваты, но зачинщики из войска вашего больше всего. Придется вам их выдать. Принародно. Приставам моим передать, чтобы все видели, все слышали.
– Не бывать этому, ваше величество! Не бывать!
– Для вашего же блага стараюсь, или народ московский сам волю возьмет, или вы добровольно мне виновных доставите.
– Что делать с ними собираешься, царь?
– Мог бы не отвечать, почтенный рыцарь, но отвечу. Ничего.
– Как ничего? А зачем же тогда…
– Затем, чтоб народ утихомирить. Чтобы видели все, как их в тюремную башню отведут, как за ними все запоры закроются. А там темным временем можете приходить за ними: тюремщики отпустят. Только чтобы тем же ночным временем из Москвы исчезли. Не дай Бог кто в лицо узнает.
– Королевское слово?
– Пусть так. И чтоб дальше вы за своими воинами крепче следили. В кабаках солдаты могут только жалованье оставить, на московских улицах – и головы свои в придачу. Завтра же мои дьяки начнут рассчитывать гусар и жолнежей. В обиде никто не будет. И лучше, если все они, тут же по получении жалованья, вернутся на родину. Московскому царю их услуги больше не нужны. Дни стоят погожие, летние. Дороги удобные, доступные. Так что – с Богом.
Ишь, как – с Богом! На дворцовой лестнице рыцари дают волю гневу. Расплатиться давно царю с жолнежами пора, а вот дальше… Вернуться – кто захочет, а большинству и дороги такой нет. Все равно надо искать, к кому наниматься. Так что неплохо и в Москве пожить. У всех дворы. Кто приторговывать стал. Кто ночным временем на дорогах опустевший кошелек пополнить может. Даже и шляхта и та еще с царя не одну плату получить собирается.
Думает, обойдется без них? Думает, с одними казаками останется? Какое сравнение – казацкая вольница и жолнежи. Если в свободное время и побуянят, в бою куда какую пользу принесут. Не так все просто, как ты, царь Дмитрий, думаешь. Совсем непросто.
Титулы Дмитрия I:
Мы Дмитрий Ивановичь, Божиею милостью. Царевич Великой Руси Углетцкий, Дмитровский и иных. Князь от колена предков своих и всех Государств Московских Государь и дедичь.
Мы пресветлейший и непобедимейший Монарх Дмитрий Ивановичь, Божиею милостию Цесарь и Великий Князь всея России и всех Татарских царств и иных многих Московских Монархий покоренных областей Государь и Царь.
В Самборе смятение. Шум. Гонец из самой Москвы примчался с новинами. Одна другой важнее. Повстречался Дмитрий со своей родительницей. Все видели. Если и сомневался кто, убедились. Настоящий он сын Ивана Грозного. Настоящий сын царицы Марьи Нагой. Оторвать их друг от друга не могли. Народ кругом и тот слезами зашелся.
– Ваше величество, можете быть довольны. Наконец-то!
– Что за радость, Теофила? О чем ты? Лучше позови ко мне няню. А сама пойди в саду повеселись. Радость!
– Недовольна, горлиночка моя? Чем огорчилась, доню?
– Няню, не только повстречался Дмитрий с родительницей своей. Уже вступил на престол – венчали его на царство в главном их соборе.
– Так что же, доню?
– Гонец новины привез. А мне – мне ни словечка. Ни грамотки.
– Ой, Марыню, Марыню, подумай только, сколько Димитру перенести пришлось. Столько лет без матери…
– Никогда не скучал он о ней. Да и все говорили, ребенком к ней не ласкался. Она к нему, а он в сторону. А тут…
– Пожил, доню, да понял, каково без матушки.
– Будет тебе, няню, будет! Не скучал он о ней, говорю. Словом не вспоминал. Мне слова всякие говорил, а теперь ничего! Будто нет меня. И сватовства не было, и венчания!
– Его коришь, Марыню. А сама, ты-то сама хоть словечко ему послала? Иным, гляди, какие письма сочиняешь. Сама видала, как королю Зигмунту грамоту днями отправляла. Слыхала, какие наказы гонцу давала, чтобы без ответа к тебе не возвращался.
– Так я о деле. Да и что тебе говорить, няню! Все равно не поймешь – время только тратить.
– Не пойму, не пойму, горлиночка моя. О другом я, Марыню. Поживете с Дмитрием…
– Поживем, думаешь? А что если мысли у него теперь другие? Если раздумался, как корону на голову надел? Как мне теперь к шляхте выйти – без его послания? Да что послание! Приглашения поторопиться с приездом тоже не прислал – ни на бумаге, ни на словах.
– Приглашения?
– Кому я в этом признаться, кроме тебя, пястунка, могу? Матери? Пану ясновельможному родителю? Они же меня учить начнут, укорять – не то, мол, сделала, не так, мол, поступать должна была.
– А ты, Марыню, не толкуй с ними. Уж лучше больной скажись, горлиночка, из покоев своих не выходи. Побереги себя.
– Вот тогда-то и скажут: с горя. Вот тогда-то и станут остальные в меня пальцами тыкать. Я, няню, бал устроить хочу.
– Полно, горлиночка, какой тут бал!
– Бал! И чтобы музыкантов много! И чтобы фейерверк! И чтобы гостей отовсюду созвать. Мол, радуется Марина Мнишкувна за своего супруга. Мол, скоро в дорогу готовиться станет.
– А как же без письма-то обойдешься?
– Скажу, знак мне условный прислал. И письмо потаенное. Так-то!
– Ты, Басманов? Один? И без предуведомления? Ведь мы недавно виделись с тобой. Что-нибудь случилось?








