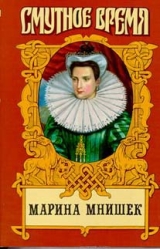
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Не знаю, святой отец. Петр царевич не успел добраться до Москвы. Он узнал о гибели государя еще где-то на Волге. Позже рассказывали, что он повернул свое войско назад, а затем отправился на Дон, чтобы соединиться с Иваном Болотниковым.
– Значит, все-таки добрался до Москвы.
– Добрался. Говорят, показал чудеса храбрости, сражаясь против войска царя Василия Шуйского. Но, в конце концов, весь израненный был схвачен боярами.
– И казнен?
– После страшных мучений. Так говорили.
– Отец Николай сказал, что тебя не радует Астрахань, государыня. Не хотел бы тебя огорчать и выбрал бы другой путь, но этот более выгоден, для наших дальнейших планов. Одно могу обещать вашему царскому величеству, вас ждет там достойный прием. Весь город и округа готовятся к этой встрече.
– Ты хочешь сказать, Заруцкий, что твоя государыня оказалась под действием дурных предсказаний. Ты знаешь, пан, я не суеверна.
– Ты не суеверна, государыня, но тем не менее тебя что-то смущает.
– Между прочим судьба царевича Петра.
– Ты смеешься надо мной, государыня! Царевич Петр! Да знаешь ли ты, сколько их здесь, в астраханских степях, разных царевичей?
– Царевичей? Каких царевичей?
– Во всяком случае, они так себя величают. Хочешь, я развеселю тебя, моя государыня. Лешка, зови к государыне пана библиотекаря.
– Ты все еще настаиваешь, чтобы в моем штате находился библиотекарь. Вот если бы у нас установилась спокойная жизнь…
– Государыня, твоя жизнь так удивительна, полна таких событий, что задним числом ее никто не сможет восстановить. У каждой коронованной особы должен быть свой летописец, если их имеют даже польские магнаты.
– Отец такого не имел и смеялся над амбициями князя Острожского.
– Бог с твоим отцом, государыня. У тебя своя жизнь, и на твоей голове царский венец. Ты должна позаботиться не только о себе, но и о своем наследнике и преемнике престола царе Иоанне Дмитриевиче. А, вот и пан библиотекарь! Не будешь ли ты добр рассказать государыне о скольких царевичах в здешних краях тебе пришлось слышать? Ты ведь интересовался и их родственными связями?
– По вашему приказу, пресветлый боярин.
– Кто там занял место Петра царевича?
– Некто, называвший себя также сыном царя Федора Иоанновича по имени Ивашка Август. Ничего не скажу о его происхождении. Воевода уверяет, что происходит он из понизовой вольницы. Будто бы долго скрывался по разным ватагам. Объявился под царевичевым именем у терских казаков и уже от них добрался до Астрахани.
– Э, нет, так нё пойдет, пан библиотекарь. Ты сбился с толку.
– Ивашка Август заявил себя сыном государя Ивана Васильевича Грозного от Анны Колтовской. Воевода поинтересовался сведениями из монастыря, где была заточена эта царица, и узнал, что царь удалил ее именно из-за беременности и торопился с постригом, чтобы ребенок не имел к нему отношения.
– Разве ему не нужен был наследник, Заруцкий? И чем бы государю мог помешать несчастный младенец?
– Государыня, поверь, ни у кого не хватит сил разобраться в этой путанице супруг и наложниц Грозного. Кажется, царь увлекся в то время какой-то очень красивой женщиной, которую взял во дворец. Может быть, появление ребенка помешало бы его сладострастию.
– Итак, пан библиотекарь, я поправил тебя. А теперь можешь продолжать. Воевода Хворостинин, выходит, поверил этому Августу – вот что важно.
– Ясновельможный пан, воевода поверил и царевичу Лаврентию, которого называли сыном царевича Ивана Ивановича.
– Убитого Грозным?
– Именно его. Известно, что супруга царевича в момент его убийства была на последнем месяце беременности и родила уже в монастыре, куда ее немедленно отправил Иван Грозный.
– И все это могло быть вероятным, пан библиотекарь?
– Ты у меня спрашивай, государыня, не у этого книжного червя, да простит пан библиотекарь мою резкость. Но жизнь я знаю много лучше него. И вот что тебе скажу, государыня. Такое множество выдуманных потомков говорит о том, что народ не хотел расставаться с родом Рюриковичей. Что людишки готовы были принять любого из этого семейства, но не бояр, всегда жадных, злобных, старающихся обеспечивать только свое собственное семейство.
И еще – народу нравится сильная держава, которая может их хранить от татарских и прочих вражеских набегов.
– Вельможный боярин, я еще не успел коснуться всего многочисленного потомства даря Федора Иоанновича.
– Но он же не мог иметь детей, мне говорили.
– Это не имеет значения, государыня. Для людишек царствующая особа не может быть ущербной, если даже на престоле сидит сущий дурак.
– Мы слушаем тебя, пан библиотекарь!
– Так вот, в степных юртах называли царевича Федора, царевича Кдементия, царевича Савелия, царевича Семена, царевича Василия, царевича Брошку, царевича Гаврилку и царевича Мартынку.
– И воевода ни с кем из них не стал бороться? Никого не схватил, не предал пыткам и допросам?
– Меня не слишком интересовало, как именно Хворостинин управлялся с этим множеством. Важно иное – он допускал самую возможность их существования.
– А другие воеводы?
– Ты правильна спрашиваешь, государыня. С другими воеводами дело обстояло иначе. Они сохраняли верность Москве. Хворостинин же очень давно стал подумывать о том, чтобы отложиться от столицы и образовать отдельное государство. Ему помогали настроения казаков – они не хотели московского правления.
– А мое? Почему ты думаешь, что они согласятся на правление царицы Всея Руси?
– Потому что на этом можно будет закончить местные раздоры. Да и кому не польстит иметь государыню, коронованную и возведенную на престол в московском Кремле?
– Но в русских землях, тем более в такой дали, вряд ли есть привычка видеть на престоле женщину.
– Что же, все меняется. И кто знает, то, что у тебя нет супруга, может пойти нам на пользу.
* * *
Птицы… Сколько птиц поднимается на заре над гладью воды. Крылья полощутся в небе огромные и маленькие, розовые, белые, серые, черные. Как лепестки дивных цветков. Шумят, шумят… Застят солнечные лучи и снова дают им дорогу. В поднимающемся мареве августовской жары тают. Опадают на землю. Сливаются с огромными чашами лотосов. Широкими зелеными листьями.
Вдали тает в розово-стальном небе Кремль. С дивными башнями. Церковными куполами. Колокольнями.
– Вот и твоя столица, государыня Марина Юрьевна. Гляди, сколько народу собралось! Какие ковры под твои ноги положили. Видишь, видишь, вон и пан воевода в золотом кафтане, и все духовенство с крестами и хоругвями! Вели-ка ты пока своему монаху с глаз сойти.
– Но почему и здесь я должна прятаться со своей верой?
– Должна, государыня, если хочешь такой столицы. Селиться ты будешь, царица Московская, не где-нибудь – в Троицком монастыре. Вон его стены и башни внутри Кремля. Что твой сказочный город.
– Но нас почти нигде не встречало духовенство.
– А здесь монахи слишком многим обязаны твоему супругу государю Дмитрию Ивановичу. Поддержали они государя, когда он еще только в Москву из Польши направлялся. Игумен Иона специально в Москву выбрался, чтобы поклониться новому, правильному государю – с Борисом Годуновым дела иметь не захотел.
– И государь его обласкал?
– Обласкал ли? Государь Дмитрий Иванович подтвердил всю былую земельную и водную монастырскую собственность, дал новые послабления в податях на добычу соли и жалованье свое царское – денежную и хлебную ругу. Как за такую щедрость государя не благодарить, как за здравие и благополучие не молиться?
– Москва, поди, не успела их упредить о моем приезде?
– Не успела? Как же, упустит Василий Шуйский хоть малейшую возможность! Не знаю, каков боярин в седле да с саблей, а с пером да во главе крючкотворов вряд ли лучше него найти. Хочешь, покажу тебе, государыня, какую грамоту задолго до нас с тобой сюда гонцы московские доставили. Ну-ка, пан библиотекарь, давай лист гончий. Вот государыня, читай:
«Против государевых изменников Ивашки Заруцкого и иных битися до смерти и иного Государя кроме Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, Всея Руси Самодержца, и их царских детей, из московских иноземцев иродов и самозванки Маринки с сыном не искати и не хотети».
– Так это уже Романов?
– Нарочно тебя, государыня, удивить хотел. Слово в слово с грамоты Шуйского переписано.
– Но ведь ты, Заруцкий, и его войско побить успел.
– А чего ждать-то мне было. Помнишь, взяли мы города Епифанов, Дедилов, Козельск. Два дня билися с ним, а ничего Одоевский не навоевал, а уж в Астрахани и вовсе никто противу нас ничего не навоюет.
Говоришь, грамоты опасные из Москвы шлют. Поглядим еще, каково-то они противу моих грамот стоять будут. Ну-ка, пан библиотекарь, прочти нашей государыне, какие мы ее именем грамотки по всей округе разослали, да что разослали – уж сколько народу по ним к нам пристало да сколько еще пристанет! Читай, читай, пан!
«А которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сомнения и боязни, всем им воля и жалованье будет, как и другим казакам».
Каково, государыня ты наша, Марина Юрьевна? А и ты сюда подоспел, святой отец. Как на твое разумение грамотки-то наши?
– Не мне судить, какими средствами, ясновельможный боярин добивается возвращения престола и державного блеска для нашей повелительницы и покровительницы. Да пребудет с тобой Господь, ясновельможный боярин.
– А раз так, святой отец, просьба у меня к тебе одна – не показывайся местному люду на глаза до поры до времени. Что хошь во дворце делай, государыне угождай, а людишек местных не смущай. Не то чтобы они православию привержены были. Тут и магометан, и всяких прочих племен предостаточно – путь-то отсюда и на Персию, и на Китай. Пусть лишних бы разговоров попы местные не заводили – у них государыня гостевать будет. Так что поостерегись, отец.
– Рада тебя видеть, боярин. За гостеприимство твое, за службу верную прими благодарность от малолетнего твоего государя Иоанна Дмитриевича. Сам знаешь, править не женское дело – разве что по малолетству сына приглядывать за властью.
– Всегда тебе служить готов, царица Марина Юрьевна, а уж о государе нашем и говорить нечего. Испокон веку так было на Руси, что родительницы малолетних наследников престола великокняжеского али царского опекали. Ничего здесь чрезвычайного нет. Скажем, родительница государя Ивана Васильевича, великая княгиня Елена Васильевна, из дому Глинских, как супруг ее преставился, всю власть в опеку свою взяла и сыночку своему, как и всему народу русскому, государство сохранила. Да ведь, по правде говоря, не безгласной была и покойная государыня Арина Федоровна. От многих бед государя нашего Федора Иоанновича оберегала. Конечно, рядом братец ее находился, только, сколько мне известно, у государыни и своя воля была. Скажи только, государыня, чем еще услужить тебе могу.
– Полно, полно, Иван Дмитриевич, все, кажется, ты сделал, воевода, – лучше не устроишь. И дворец такой распрекрасный. Как это он в степях пустынных только вырос.
– Сказать, государыня, не поверишь. Твоя правда, нет здесь заводов кирпичных, мастеров таких нету, чтобы из камня что выложить. Так это москвичи Михайла Вельяминов и Дей Губастый соорудили. В год кончины государя Ивана Васильевича начали, спустя семь лет к окончанию привели. Да и Кремль весь произволением государя Федора Иоанновича устроился. Кирпич от столицы Золотой Орды Сарая Бату взят. Красавец, одно слово!
– И вот еще, Иван Дмитриевич, распорядилась я в Троицком монастыре и казакам нашим расположиться – не так в городе тебе мешать будут.
– Как велишь, государыня. Да и то правда, чего в монастырь лишнему люду заглядывать. Место у нас бойкое, что твой проходной двор. Воров всяческих предостаточно, а тебе с государем в покое жить надобно. Вот только…
– Слушаю тебя, вельможный воевода.
– Не вели казнить, вели слово вымолвить.
– Говори, говори, Иван Дмитриевич.
– Монаха тут люторского людишки видели. Как он – веру свою проповедовать собирается или так только, без дела шатается?
– Веры своей проповедовать не будет. Достаточно тебе царского слова?
– Не гневись, не гневись, государыня, а то в московских грамотках все про веру говорится, людишки-то и настораживаются. Так что я с твоих слов успокоить их могу. Спасибо тебе, государыня Марина Юрьевна. Пожалуй великой милостью, разреши ручку государеву поцеловать, чести великой удостоиться.
Думала, не дождаться. Заруцкий согласился: можно во дворце церковь устроить. Настоящую. Католическую. Отец Миколай за всем приглядел. Невесть откуда Распятие большое достал. Крест на беленой стене. Черный. Угрюмый. Ни тебе облегчения. Ни радости. Как глянешь, пасть ниц хочется. Господи, Всемогущий, Справедливый и Многомилостивый, по мне ли испытание это – и нет ему конца.
Нет! И что бы Заруцкий ни говорил о том, что прибывает к нему народ. Как волны речные – то набегут, то от берега уйдут. Люди вольные. Ни к чему в жизни не привязанные.
Привыкнуть надо: ни семей кругом, ни жизни простой, обычной. Все, как в таборе военном. Который год. Даже Заруцкому не признаться, как устала. Ему главное – ни под каким видом. Отцу Миколаю? А к чему? Все, что мог сказать в утешение, он уже сказал. Одно и то же слушать: терпение, терпение, терпение… Он-то чего ждет? На что надеется?
Освящение домовой церкви на день покровителя его ордена монашествующего – августинцев назначил, двадцать восьмое августа – память святого Августина.
С попами православными к согласию пришел. Канун великого их праздника – Усекновения главы Иоанна Предтечи. В день памяти преподобного Моисея Мурина. Игумен Иона каждый день приходит веру свою толковать. Заруцкий сказал, отказать нельзя. Какую хочешь в душе молитву супротивную твори, а виду не показывай. И отец Миколай о том же толкует: не хозяева мы себе здесь, государыня, терпеть надобно. Опять терпеть!
Игумен о дне Моисея Мурина так рассказывал. Что был Моисей Мурин эфиопянином – чернокожим. Что смолоду не захотел себе на жизнь трудом зарабатывать, в шайку разбойников вступил, на большой дороге людей без жалости грабил. А до тридцати лет дожил, ушел в монастырь, прося Бога о ниспослании ему более спокойного состояния духа. Так дожил он до 75 лет и сказал перед смертию: «На мне должны исполниться слова: взявший меч, погибнет от меча». Что с ним и случилось.
Намекал? Снова поучал? Где ему понять, что если бы не вера, давно бы не стало сил, а пока есть еще силы, есть.
Янека, сына, потихоньку от всех стала приводить в домовую церковь. Ничего не объясняя – где ему понять? Пусть постоит, посмотрит. Голос отца Миколая, читающего молитвы, послушает.
Никогда еще одиночество не казалось таким страшным… Для себя на дню по многу раз переодевалась. Для себя приказывала волосы укладывать, диковинные куафюры делать. Все равно царица! Все равно государыня!
Когда совсем тошно становилось, заставляла отца Миколая рассказывать. Не любил свою жизнь вспоминать, но отказывать государыне не хотел.
Португалец. Дивными путями попал за океан в Мексику – как себе такую страну вообразить! В монастыре, на побережье мексиканского залива, вступил в Орден нищенствующих монахов-августинов. Было это во времена государя Ивана Васильевича Грозного.
Один раз признался: потому и вступил, что свет хотел посмотреть. Ни о каком богатстве, имуществе, хлебе насущном и то не думать. Нищенствующий Орден – куда как легко по свету идти. Через пять лет жизни в Ордене отправился на Филиппины, где прожил до 1599 года – без малого пятнадцать лет. Пальмы, что на шпалерах видеть можно. Океан безбрежный. Теплый. Произрастаний и птиц множество. Земной рай!
Не прижился. С каким-то доном Хуаном из Испании отправился не куда-нибудь – в Россию. Но только спутники новые не показались монаху. Решил искать счастья у государя Дмитрия Ивановича.
Уж на что недоверчив был государь, принял монаха. Письма с ним решил испанскому королю отправить – во все страны тогда грамоты свои именные рассылал.
Отъехать не успел – люди боярина Василия Шуйского на дороге перехватили. В Борисоглебском монастыре близ Ростова Великого заточили. То ли лазутчиком признали, то ли еретиком – и так, и так пощады не жди. Вот тогда-то и сумел государыне Марине Юрьевне в Ярославль весточку о себе дать. Ответ коротенький получил. Снова написать царице опальной изловчился. А 12 июля 1607 года – навсегда тот день помнить будет – длинное письмо написал. День памяти святого Яна и Вероники. Об одном просил, чтобы к себе взяла, чтобы разрешила при дворе ее служить.
Удивилась: какой двор. Заточение ведь! Но сумела милости себе такой добиться: отправили к царице Марине Юрьевне босоногого монаха. Все равно неизвестно было, что с таким делать!
– Отец Миколай, это правда? Это правда, что воеводу Хворостинина вельможный пан Заруцкий…
– Ты о казни, дочь моя?
– Да, о казни. Я не могу себе представить: мы в его городе, среди его людей. Что же будет? Что может быть? И неужели с воеводой нельзя было договориться?
– Твои вопросы к вельможному пану, дочь моя, не ко мне.
– Но Заруцкий стал избегать разговоров со мной. Он не хочет ничего объяснять, хотя действует именем царевича Ивана Дмитриевича. Я хочу, я должна знать правду. Мне страшно. Мне страшно за сына, святой отец!
– Я не могу быть за казни, дочь моя, но…
– Ты согласен с Заруцким? Да, отец мой?
– Если бы все дело было в согласии. Если бы все было так просто. Воевода Хворостинин, мне трудно говорить об этом тебе, государыня, стал тяготиться твоим двором и особенно казачьим войском. Вольница никогда не уживается с торговцами и простыми горожанами.
– Я начала замечать какую-то неловкость в его словах, но и только. Он мне ни на что не жаловался, ни о чем не просил.
– О чем же он мог тебя просить, дочь моя? Разве в твоих силах унять казаков и главное – остановить дороговизну, из-за которой жизнь в городе становится все более и более тяжелой для простых людей. Они радовались нам, пока надеялись, что твой приход внесет порядок в их быт. Но этого не случилось.
– Подожди, подожди, святой отец, но разве само по себе пребывание монарха не является праздником для простых людей? Разве присутствие царского двора не делает их жизнь значительней?
– Люди не могут постоянно воспринимать жизнь в таких высоких понятиях. Их простой ум откликается на то, что хлеб стал стоить десять алтын за пуд пшеницы, тогда как на соседнем Тереке его и сегодня можно купить за гривну – в три раза дешевле.
– Но разве так будет всегда?
– А что может поменяться, когда купеческие караваны грабят на дорогах, продовольствия привозят в город все меньше и меньше и вся торговля приходит в упадок.
– Ты говоришь, святой отец, так, как будто нет выхода. Но ведь меня только что так радостно встречали. Они же чему-то радовались и вдруг из-за проблем с хлебом, из-за обычных жизненных неустройства изменили свое отношение ко мне.
– Дочь моя, тебе трудно понять их горести и беды. Но еще важнее – у них забрезжила новая надежда. Люди, как дети, они стремятся к каждому новому огоньку и легко бросают только что собранные цветы. Теперь им стало казаться, это стрелецкие головы принесут им мир и порядок и избавят их от бремени пребывания твоего двора. Пан Заруцкий решился на крайнюю меру, чтобы вызвать у этих людей страх. Они и в самом деле немного притихли. Так, во всяком случае, говорят наши лазутчики. Но твой последний приказ заставил их забыть о страхе.
– Ты об этом несносном колокольном звоне, святой отец? Во-первых, я не привыкла к нему. И к тому же он каждый раз пугает царевича. Ты же сам, знаешь, колокольни находятся прямо перед нашими окнами. Царевич начинает плакать и затыкать себе уши. Разве можно допустить что-нибудь подобное?
– Дочь моя, твое войско еще не одержало победы, и тебе необходимо мириться с местными обычаями. Тем более это их церковный праздник, который они почитают как ни один другой, – Великий пост.
– Кажется, я не дождусь того времени, когда все эти люди войдут в лоно истинной церкви.
– Государыня, слишком многие брали на себя бремя приобщения к истинной вере этих земель, но пока еще никому это не удавалось. Ты еще молода, дочь моя, и, возможно, со временем…
– Ты веришь, что у меня будет это время, отец мой?
– Будет, если ты будешь осторожней в своих решениях.
– Мне кажется, что я всю жизнь только и делаю, что применяюсь к обстоятельствам. Это невыносимо!
– Время государственной власти не всем по плечу. Но раз Господь избрал тебя для этой цели, тебе грех роптать. Значит, у тебя хватит сил.
– Федосевна, а Федосевна! В церкву пойдешь, ай нет?
– Как не пойти-то в канун Вербного – Бог накажет.
– Так чего стоишь, вроде сумлеваешься. Поспевать надобно, а то и в храм не протиснешься.
– В какой храм-то, Лукерьюшка, с мыслями не соберусь.
– Нешто к Троице ходить передумала? С чего бы?
– Да ты, Лукерья Митревна, часом не оглохла ли?
– Чегой-то поносить меня вздумала, соседка?
– Какой поносить! Нешто не слышишь, звону-то нету.
– Ай, правда! То-то гляжу, вроде чудно на улице как-то. Нету звону – отродясь такого не бывало. И чтоб такое значило?
– Неужто не слыхала: царица звоны запретила. Весь город только про то и гуторит, а ты и знать не знаешь.
– Как это Божью службу царица запретить может?
– А вот так – взяла да и запретила. Колокольни в монастыре Троицком казаки по ее приказу на замки позакрывали, чтобы мышь к звонам не пробралась. Дите, мол, ее малое звоны тревожат. Полошится, мол, дите царское колокольного звону.
– А попы наши что? Неужто слова не вымолвили?
– Откуда мне знать? Коль и вымолвили, до нас то слово не дошло.
– Никак отец Ларивон идет. Вот у него и можно правды дознаться. Вона как людишки со всех сторон к нему бегут. Айда и мы, пока толпа не привалила.
– Батюшка! Отец Ларивон! Что ж это будет-то? Что будет? На Страстную без звонов, на Светлое Христово Воскресенье без благовеста? Да на какой же земле мы живем – на православной аль на басурманской? Так пойдет, лба по-божески не перекрестишь, крестным знамением себя не осенишь! Батюшка!
– А то, люди добрые, что пришла пора и вам за церкву святую постоять, за веру отцов наших! Слово свое сказать, хотите ли, нет ли по обычаям отцов и дедов наших жить аль по иноземческим?
– Как? Как постоять-то? Что мы можем, святой отец? Подскажи, научи люд христианский.
– Как что? Собираться всем миром надо да и в Кремль идти, в Троицкий монастырь, что иноземка с отродьем своим опоганила.
– Про кого это ты, батюшка? Никак про царицу?
– Про нее про саму, про Маринку-люторку.
– Ой, горе мне! Да как же можно? Ведь, чай, не из чужих земель сюда пожаловала. Сам, батюшка, говорил, что царица она в Успенском соборе на Москве, по всем обычаям царским на царство венчанная. Уж коли сам патриарх со всем духовенством венец царский на нее возложил, стало быть, сомнениев никаких быть не может. А ты сразу – люторка?
– Да ведь стрелец, что с Москвы прибег, сказывал, причастие святое она по нашему закону от патриарха принимала. Не путаешь ли ты, отец Ларивон? В сумление нас не вводишь ли?
– Оно известно, за колья-то взяться – дело нехитрое. Людей перебить – тоже. А потом, потом-то что будет?
– Поговорить бы с царицей надобно. Пусть на крыльцо к народу выйдет, все как есть объяснит, а уж тогда судить будем.
– Дети мои, чего объяснять-то? Люторских обычаев царица ваша держится. Что ж и вы в веру чужую перекинетесь? Чего ждать хотите? Под кем жить-то хотите?
– Под кем, под кем! Вон воеводу старого казнили – что, лучше что ли стало? Один черт – день ото дня хуже.
– Известно, новая беда завсегда горше старой. Чем ее искать, может, к старой примериться стоит. Может, и не царица вовсе звоны запретила, а казаки с ватаги сразбойничали с пьяных-то глаз. Они, известно, как зенки-то свои бесстыжие нальют, и не то удумать могут.
– А вот казаков, тетка, ни в коем разе не трожь! Ишь, бойкая какая выискалась! Казак если и пьет, ума николи не пропивает. И в вере отцов пребывает со всяческим почтением.
– Нечего, нечего царицу-то заслонять! Нешто не слыхали, какие у нее бесовские игрища да пляски что ни вечер бывают. В стенах святой обители от волынок да литавров гром стоит. Бабы ихние иноземные в пляс пускаются, за одним столом с казацкими атаманами пируют, винище жрут.
– Да ты что! Откуда тебе-то, стрелец, знать?
– Мне? А ты у кого хошь из стражи дворцовой спроси, все подтвердят. Порядок у них, иноземцев, такой.
– Да они на тех пированьицах на одном своем языке стрекочут – ни слова не поймешь. Русским нашим брезгуют, ей-богу.
– А атаманы?
– Что атаманы?
– Атаманы казацкие на каком с ними болтают?
– Атаманы-то?.. Да, поди, на ляцком. Торговые гости толковали, на Москве и в Кремле, все что язык, что обычаи ляцкие знают.
– Торгуют, поди, много промеж собой, так и язык стали разуметь. В торговом деле с толмачами далеко не уедешь. Самому соображать надо.
– Да поди ты с твоим торговым делом! Вон уж время ранней обедни, а мы тут лясы точим, вместо батюшку послушать. Право свое христианское отстоять. Айда-те, люди добрые, в Кремль – с царицей Мариной Юрьевной толковать. По-нашему. По-простому!
– Что – не слышно колоколов-то?
– В слободах звонят – не в городе!
– Значит, нам в город прямая дорога, бабы! Разойдись, бабы! Проку от вас никакого – галдеж да нестроение одни. Тут уж стрельцам надо за дело браться.
– Твоя правда, без оружия не обойтись!
– Да казаки тебя без оружия и слушать не станут! Близко ко дворцу не подпустят.
– Да уж, тут силу показать надобно.
– Братцы, у кого пистолеты есть, с собой берите.
– Со стен Белого города рушницы – пушки взять надобно. Без них хорошо, с ними куда лучше.
– Лучше-то лучше, да нет их на Белом городе. Люди добрые до тебя сообразили!
– Как нет? Вчерась проходил, каждая в своем гнезде торчала.
– Вчерась! А в ночь атаман Иван Мартынович велел все тяжелые пушки в Кремль переправить – сторожа сказали.
– Да с Кремля их на город-то наш и навести!
– Батюшки-святы! Никак атаман Заруцкий воевать с астраханцами собрался?
– Ой, беда, беда неминучая! Чтой-то теперь будет?
– Вышибать гостей незваных, непрошеных из нашего Кремля, вот что будет! Видно, маху астраханцы дали, да какого маху!
– В бой ввязаться можно. Только и без подмоги посадским людям нипочем не обойтись. За подмогой посылать надобно немедля!
– Полагать надо, за подмогой дело не станет. Войско головы стрелецкого Василия Хохлова скупцы в паре верст от города видели. Послать гонцов, так и поспешить могут.
– Гонцов! Давайте гонцов!
– А войско с чего тут взялося?
– Терский воевода Головин послал астраханцам на подмогу.
– А кто просил-то его?
– Никто. Воевода, известно, руку Москвы держит. Еще когда он в Москву на царевича Петра доносил. Выслуживался!
– Погоди, погоди, стрелец! Так в то время в Москве царь Дмитрий Иванович был. Разве не так?
– Так. Воевода еще царевича Илейкой-Муромцем звал.
– А мы против законной супруги покойного царя Дмитрия Ивановича, выходит, сгоношились? Противу его сынка? Неладно выходит.
– Да не слыхал ты что ли, государя Дмитрия Ивановича самозванцем объявили. С тем и порешили.
– Так это каждого самозванцем объявить можно. Что ж раньше-то думали, когда с почетом, со всем боярством, земством и духовенством на царство венчали?
Э, наш человек, известно, задним умом крепок. Обманулись, а потом всполошились. Зато теперь истинного царя нашли. Без обмана.
– Как это – истинного? Царских кровей, что ли?
– Не царских – боярских. На него вся надежда.
– С чего бы? В Боярской думе аль на поле боя себя выказал?
– Какое! В шестнадцать-то лет?
– Как в шестнадцать?
– Да ты не боись, казак, постареет новый царь. Что-что, а постареет непременно.
– Если до старости доживет.
– Да будет вам шутки шутить! В таком-то деле! Что же это в шестнадцать-то лет о человеке толкового сказать можно?
– Разговор идет, будто бояре на том и сошлись: молод, мол, неразумен – вот нас и станет во всем слушать.
– Мать честная! Это взаправду, что ли!
– Взаправду и есть.
– Так почему его-то? Мало что ли подростков-то на Москве?
– По отцу, браток, по батюшке.
– По какому батюшке? Кто его батюшка-то?
– Патриарх Филарет святейший.
– Чтой-то имени такого слыхать не приходилось. На Москве ли поставлен? Вроде такой разброд там неслыханный, кто ж его ставил?
– Супруг царицы Марины Юрьевны.
– Государь Дмитрий Иванович, стало быть.
– Когда лагерем под Москвой стоял. При царе Василии Ивановиче.
– Да что ж ты, окаянный, с головой-то моей делаешь! Запутал, как есть запутал. В Тушине-то вроде Тушинский вор был?
– Значит, Тушинский вор.
– Патриарха поставил?
– Патриарха поставил.
– И где ж теперь этот патриарх?
– В плену польском.
– Час от часу не легче! Как его угораздило? С чего бы поп ляхам запонадобился?
– Может, и совру, только казаки толковали, будто патриарх Филарет для царя Василия Шуйского о мире хлопотать поехал. Сколько их из Москвы на переговоры поехало, столько и в плену осталось. В столицу будто ляцкую – Варшаву его свезли. Там таперича живет.
– А его сын царем Московским стал? Правильным, говоришь?
– Я говорю, я говорю! Ничего я не говорю, чужие толки повторяю. Нешто нам кто что путем разъяснять станет? Тут уж хошь – не хошь сам до всего своим умом доходи.
– Слышь, Лексейка, на торгу толковали, будто за молодого царя родительница его правит.
– Вот те на! Еще одна царица, выходит.
– Царица, но только инока. Старицей Великой ее зовут. Крута, сказывали, куда как крута. Милости от нее не жди.
– Известно, чего только за жизнь свою ни натерпелась. Постригали-то, поди, насильно?
– Как иначе? При живом муже да малом сыне какая баба вод клобук пойдет.
– Вот-вот. В монастырь попала с сыном.
– Не-е, сынка у ней отняли. В другой монастырь отправили.
– Видишь, видишь, как тут не озлиться, на людей сердца не держать?
– Да потом-то разрешили будто бы ей с сыном соединиться. В монастыре тоже.
– Толку-то: все равно не семья – так, видимость одна. Монашеский чин блюсти надо.
– Она и блюдет. Иной раз только, гости сказывали, перед иконами в храме на пол упадет, слезами горючими зальется, монашки еле подымут да в келью сведут. Настоятельница ей строго выговаривала: нельзя ей мирскими заботами жить.
– Нельзя-нельзя, а, сам говоришь, с сыном и в Москву поехала, и делами государственными заниматься стала.
Что там, не согрешишь – не покаяшься. Бог простит.
– Царей всегда прощает.
– Да ты что! Как смеешь! Потому и прощает, что есть они не что иное, как наместники его на земле. Нам их слушаться надобно, им за нас перед Господом нашим предстоять.
– Так кого же слушаться – царицу Марину Юрьевну аль Великую Старицу? Старицу-то еще никто на царство не венчал, да в монашеском чине венчать и не будет.
– Вот уж вправду загадку загадал!
– Хороша загадка! До Москвы далеко, до царя высоко, а нам здесь жить надобно. От голоду да лихой смерти себя оберечь. Выкинуть Маринку с атаманом Заруцким отсюда – и весь сказ!








