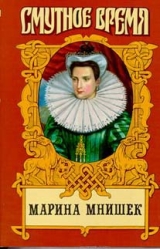
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Или великая княгиня Елена Васильевна. Из князей Глинских. И снова именем осиротевшего сына, будущего царя Ивана Васильевича Грозного. Воевала. Строила. В походы войско отпускала. Удельных князей делила да мирила. Иных в темницах гноила. На то и власть, чтобы свою волю без оглядки творить.
А царице Ирине Федоровне, бездетной да вдовой, на кого опереться, чего ждать? Разве что смерти насильственной, позорной. У брата с невесткой, самого Малюты Скуратова дочки, – своя судьба, у нее – своя.
Потому когда народ потребовал, чтобы вышла царица на Красное крыльцо, не просто вышла – принародно о пострижении своем объявила. На бояр, как на будущих правителей государства московского, сослалась – лишь бы страсти утихомирить, до бури не довести. Прямо так и сказала – откуда смелость взялась! – голос не дрогнул: «У вас есть князья и бояре, пусть они начальствуют и правят вами».
Начинала-то царица хорошо, по-человечески. Не успели государя Федора Иоанновича погребсти, с подсказки брата всем заключенным в тюрьмах прощение объявила. И опальным боярам, и ворам, и разбойникам с большой дороги. Лишь бы побольше людей за государыню еженощно и ежечасно Бога молили.
Патриарх Иов не опоздал: заявил во всех церквах текст присяги. Чтобы всем людишкам государства Московского клятву на верность принести и в том крест целовать – ему, патриарху, вере православной, царице Ирине, да мало того – еще и правителю боярину Борису Годунову и его детям.
Тут уж каждый понял: не станет больше Годунов сестре нового супруга искать. Своему семейству дорогу к престолу станет прокладывать. А раз так, самое время годуновским козням конец положить, собрать народ со всех концов государства Московского на Земский собор. Избирательный – нового государя выбирать. Тут и сомневаться не приходилось: не получить Борису Годунову их согласия.
Иноземцы – что послы, что купцы – твердили: великая смута поднимается в государстве. Великое, как писали в донесениях в свои страны, замешательство. Не справиться с ним Годунову. Где там!
Справился боярин! Понял главную опасность – все дороги в столицу перекрыл. Никто из приглашенных на Земский собор добраться до Москвы не мог. Такого еще николи не бывало, да и в голову боярству не пришло. Годуновским головорезам все нипочем. Платил боярин щедрой рукой, следил строго. Никому не доверял. Все сам. Всегда сам. А ведь захворал в те поры. Крепко захворал. Истопники царские рассказывали: как только крепился. Иной раз к стенке в покое привалится – коли никого вокруг нету – и ровно раненый зверь стонет. Руки себе в кровь кусает, чтоб не закричать.
Широко мошну открыл и для тех, кто царицу Арину Федоровну что в Кремле, что на городских площадях и торгах выкликать был должен. А толп великих, – как, поди, надежду держал, – собрать не сумел. У москвичей свой ум: ни за Годунова, ни за бояр вступаться не хотели. Разве не один черт? О царевиче Дмитрии Ивановиче толковать принялись. Будто не было никакого Углического дела. Будто не винили только что Бориса Годунова в «безвинной смерти». Кого винить? Кого казнить? Народная молва что волна морская. Нахлынет – отхлынет: ни тебе удержать, ни поперек стать…
Сколько еще недель зиме стоять! Сретение подходит, а ни одной оттепели. Теперь что ни день снегу подсыпает. Будто замерло все кругом. Новостей ждет. Разные они могут быть, а все равно новости. Теперь от Москвы многое зависит. Все союзы что меж государств, что меж князей по-иному сложиться могут. Отцу Паисию велел шляхтича Гжегожа из Острога увезти. В майонтках-поместьях шляхетских соглядатаев меньше, разговоры посвободнее. Главное – шляхты больше, не ясновельможных панов. Как-то он им покажется? В Московии пока что в делах своих разберутся. Царица у них не старая. Несколько лет процарствует, а там…
– Ясновельможный княже! Гонец. Из Москвы.
– Так скоро? Зови, Ярошек, зови.
– А я уж прямо с ним и подошел, княже. Подумал, чего время-то терять. Входи, входи, добрый человек. Великому князю нашему поклон пониже положи. Порядок у нас такой.
– От кого на этот раз, гонец?
– От владыки Серапиона, великий княже.
– Что ж не тот, что в прошлый раз был?
– Савва-то? Да он и возвернуться еще в обитель не успел. Владыка приказал его по дороге перехватить да вместо Москвы в дальнюю обитель схорониться. Чтоб на спытки Савву-то не взяли. Разговор по Москве пошел, великий княже, что у тебя царевича Дмитрия Ивановича видели. Тут уж Савве не уберечься.
– Вот оно что. Перемены, значит, у вас есть.
– Перемен много. Владыка сказать тебе, великий княже, велел, неизвестно – к добру ли, к худу ли. Царица вдовая на седьмой день по кончине супруга постриг приняла. Александрой инокиней стала. В монастырь пригородный – Новодевичий на житье перебралась. Там и указы царские подписывать стала.
– Царские указы? Монахиня?
– Все только диву даются. На указах прямо и пишет: «царица Александра». В монастырь уезжала простым обычаем – безо всяких обрядов. Как на богомолье прежним временем выезжала.
– А брат ее, шурин царский?
– Боярин Борис Федорович возле царицы стоял, под руку ее поддерживал, когда народу в Кремле о своей воле постричься объявляла. Мол, постричься хочет, но сана царского слагать с себя не намерена. Народ затаился: муха пролетит – слышно.
– Такого порядка нигде в Европе не было.
– А уж в Москве такому порядку и вовсе нипочем не удержаться. Владыка так рассудил: быть иноке Александре царицей, покуда Дума боярская да собор Земский не соберутся, выбора своего не сделают.
– А от собора с думой владыка Серапион чего, полагает, ждать?
– Тут бабушка надвое гадала. На одном все сходятся: быть на престоле царскому корени. Знатному. Древнему. Не шелупони всякой безземельной да безродной.
– Подожди, подожди, гонец. Но ведь столько лет государством вашим шурин царский правил. С делами неплохо справлялся. С ним что?
– О Годунове, великий княже, речи нет. Четыре семьи промеж себя спор ведут. Самые знатные – братья Шуйские. От старшего брата князя Александра Невского род ведут. Только они как бы в сторонку отходят.
– В добрый исход не верят?
– Может, и так. Окромя них Федор Иванович Мстиславский, князь, Борис Яковлевич Бельский, тоже князь, да еще Федор Никитич Романов. Не скажу, кое-кто и Годунова Бориса Федоровича поминает. Как убийцу. И за Углическое дело, и за государя покойного Федора Иоанновича. Федор Никитич Романов так распалился, что – было дело – с ножом на Годунова кинулся. Еле удержали. Во все горло кричал: отравили государя! Эх, кабы тут царевич Дмитрий Иванович! Владыка так и сказал.
– А что Годунов после обвинений таких?
– Да ничего, великий княже. На подворье своем кремлевском закрылся. Никуда носа не кажет.
– Людям на глаза показаться боится.
– Вот и нет, княже. Все, кто за него стоит – из простолюдинов, в Кремль, к его двору собираться стали. Со знатными у него дружба никогда не получалася. А те, что победнее, всю надежду на него одного имеют. Они к нему на двор и тянутся.
– Неглупо, совсем неглупо.
– Шумят. Галдят. Боярам грозятся. У Годунова, великий княже, и Шуйских стали замечать. Предлог-то есть: Годунов и Дмитрий Иванович Шуйский на родных сестрах женаты. Так выходит, по-родственному как не заглянуть, за честным пированьицем не посидеть.
Вот и кончился шепот. Тишина залегла. Как есть гробовая. В окошки одни кресты на монастырском погосте видны. Тропки промеж них вьются. Монашки тенями неслышными скользят. От палат царицыных отворотиться норовят. Может, кажется? Чему казаться-то! Кончилось твое время, Арина Федоровна, царица московская. Совсем кончилось. Мне ли братца любезного не знать. Лишний раз не заглянет. А заглянет – значит, добиться чего хочет. Ох и настырный! Всегда таким был: улещать да обманывать лучше мастера не сыщешь.
На Красное крыльцо – с народом говорить чуть что не силком вывел. За руку, как прихватом железным, ухватил. Договорить не успела, как к народу рванулся! Чего ни обещал! Все по-прежнему станет, как при покойном государе. Какая там царица – он, он сам станет государством управлять. Вместе с князьями и боярами. Которые народу любы. Все на толпу глядел: угодить бы, к себе расположить, одурманить.
Что-что, говорить всегда умел. Голос мягкий, а зычный – бархатом стелется. Когда надо, силу наберет, когда слезой дрогнет. Слушала, как в тумане. Сколько дней прошло, клятву ей, царице, давали. Все братец забыл, ото всего отрекся. До того договорился, что патриарх державой править станет. По-божески. По-христиански. Иов рядом стоит – головой кивает, толпу благословляет.
Как в те поры на ногах устояла. Кровушка от лица отхлынула – захолодела вся. Руки сжала – пальцы побелели. Губы до синевы закусила. Не спорить же на народе! Да и о чем спорить…
Бояре же, и воинство, и все люди собрались у патриарха Иова и стали молить его, чтобы избрать им царя на царство. Патриарх же и все власти, посоветовавшись со всею землею, порешили между собой посадить на Московское государство шурина царя Федора Иоанновича Бориса Федоровича Годунова, видя праведное и крепкое его правление при царе Федоре Иоанновиче и проявленную им к людям великую ласку…
Патриарх же Иов собрал со всеми властями собор, и призвал на него бояр, и воинство, и всех православных христиан, и решил с ними соборно идти с честными крестами и иконами святыми и со всем множеством народа в Новодевичий монастырь молить и просить у великой государыни Александры, чтобы пожаловала их государыня, дала им на царство брата своего Бориса Федоровича…
«Новый летописец». 1598
Многие были и неволей приведены, и порядок положено – если кто не придет просить Бориса на государство, с того требовать по два рубля в день. К ним были приставлены и многие приставы, принуждавшие их великим воплем вопить и лить слезы.
«Иное сказание». 1598
В монастырь отправилась – никто и задерживать не стал. Братец меньше всех. Может, не знал? Москва не сомневалась – боярыня Ртищева сказывала, – все знал. Препятствовать не захотел.
Поезд царицы от Боровицких ворот кремлевских вдоль реки Москвы свернул. По Волхонке. По дороге Пречистенской, что прямо к обители вела. Места тихие. Кругом под снегами луга да покосы. Пелена белая – сколько глаз хватит. Чисто саван стелется.
Государь покойный жив был, частенько ездила. Народ по обочинам собирался. В землю кланялись. Мужики шапки срывали. Иные на колени валились. Вдогонку долго глядели. Теперь… Что ж, на то и бывшая, чтоб не замечать. За былое усердие и страх отыграться.
Бывшей не хотела быть. Господи, как не хотела! А тут – без свиты и стражи. Нет, не сразу примирилась. И в монашеском одеянии стала царские указы издавать, новым именем подписывать: царица Александра. По городам рассылать. На дню по несколько. Вот тут и впрямь торопилась: чтобы знали, чтобы все известились о новой правительнице. Не было еще такого в Московском государстве, и вот…
Двор боярина князя Ивана Ивановича Шуйского, по прозвищу Пуговка, прямо у башни Кутафьи. От Троицкого моста, если из Кремля выезжать, по левой руке. Ворота широкие. Двор разъезжен, что у царских теремов. Братьев-то их четверо. Каждый день хоть по разу да к Пуговке заедут. Не так уж меж собой дружны, да время дружить велит. Нельзя иначе.
– Под Бориской ходили, неужто теперь под его сестрицей ходить? Это нам-то, родовым князьям Суздальским, под костромской дворяночкой! Не бывало такого на Руси! Сколько земля наша стоит, не бывало!
– Твоя правда, Дмитрий Иванович. Вон и попы говорят: «А первое богомолие за нее, государыню, а преж того ни за которых цариц и великих княгинь Бога не молили ни в охтеньях, ни в многолетье».
– Да разве в государыне дело! Рядом с ней все поганое семейство годуновское поминать стали.
– Патриарх Иов за Бориску живот положит.
– Что патриарх! Кругом одни Годуновы. Гляди, как дело-то спроворил Бориска. Приехал в Москву константинопольский патриарх денег просить. Деньги получил, а в благодарность жертвователю московское патриаршество учредил, Иова, по подсказке Борискиной, на патриарший престол поставил. А там в Боярской думе первое место – Годунов Дмитрий Иванович. Боярство троим двоюродным братьям дал – Степану, Григорию и Ивану Годуновым. В думе заседать дал Якову Годунову – в чине окольничего.
– Григория поставил во главе Приказа Большого дворца – самыми большими деньгами ведать.
– Не забудь, братец Василий Иванович, сам-то Бориска еще когда Конюшенный приказ себе прихватил. Вот где богатства несчитанные, немерянные. От родителей ничего не досталось, из казны нагреб, как еще не подавился. По сей день остановиться не может – крадет.
– Ты еще помяни родственничков-то годуновских, что повсюду расселись. Тут тебе и Сабуровы, и Вельяминовы, и Собакины.
– По нынешнему времени сетуй – не сетуй. Не один год Борис Федорович гнездо-то свое вил, а бояре, рты разиня, глядели. Нешто не Боярская дума право шурину дала самолично переписку вести с заморскими государями? Тут тебе король австрийский, тут тебе испанский, тут королева английская, шах персидский, эмир бухарский, хан крымский. Да тут на одних подарках посольских состояние сколотишь – оглянуться не успеешь. А еще про что им писал, что в ответ получал, не проверишь…
– Писал! Ответы получал! Когда ни грамоты, ни письма не разумеет. Только и научился имя свое вырисовывать.
– Ну, и что, братец? Зато всегда знал, сколько послам заморским платить, как гостей дорогих обихаживать. Шутка ли, королева английская его пресветлым князем и любимым кузеном называла!
– Горсей, посол английский, постарался. Он свою государыню небось уговорил, что нет в Московском государстве человека сильнее, все Годунов может, все устроит.
– А с австрийцами не ловко ли обошелся? Венский двор своего доверенного Луку Паули прислал, тот же Лука – за подарки драгоценнейшие – и переписку Бориски с императорскими лицами устроил. Придумал как шурина нашего титуловать: «навышний тайный думной всея русския земли, навышний маршалек светлейший наш оприченный любительный Борис Федорович». Тьфу! Подьячий мне списал. На всякий случай.
– Паули ему руку целовал, государю самому под стать. Тем более выходит, удивляться теперь нечему. Задним числом оно и видно: не сразу Москва строилась. Давненько Бориска на престол заглядываться стал.
– А про сестрицу Борискину, ты, братец Александр Иванович, забудь. Помяни мое слово, уже не нужна она ему стала. Избавится от нее, глазом не успеешь моргнуть.
– Может, и так. Только как теперь дело с Угличем пойдет, Василий. Иванович? Ты туда ездил, тебе и знать, что за разговоры и с чего бы пошли. Видел ли покойника? Признал ли?
– Видеть не видел. Признать, кабы и увидел, не смог. В Москве совсем дитятей царевича, и то издали, видеть приходилось. Как и тебе, Дмитрий Иванович. А тут и вовсе семь лет прошло.
– Сказал ли об этом Бориске?
– Известно, не говорил. К чему бы? Ему с Нагими расправиться надо было, а мне за них голову на Плаху класть? Как сумел правителя успокоил.
– Позаботился, выходит?
– Экой ты братец, Иван, Иванович, в кипятке купанный, на решения скорый. Если и позаботился, так о себе и о вас. От любого сомнения расправы да ссылки было не миновать. Припомни лучше, что с Нагими случилося? Чем они-то в убийстве углическом завинилися? А ведь вызвал их Бориска царевым именем в Москву – Михаила и брата его Андрея. К пытке вызвал. На Пытошный двор самолично приехал, бояр скольких для свидетельства вызвал. Чтобы слова единого не пропало. Правда, бояр-то своих. Из Годуновых. Обвинили Нагих, что законного царевича не доглядели, гибель его мученическую допустили. Что от Михаила, что от Андрея одно мясо свежеванное осталося. Обличье человеческое потеряли. Ни языком, ни рукой пошевелить не могли. Так на рогожах обоих, как туши бычачьи, в темницу и сволокли. Страх вспомнить.
– Полно, полно тебе, Василий! Было – прошло.
– Да уж ты, Дмитрий Иванович, у нас известный Борискин защитник. Сдружился с правителем. От него в том треклятом 1591 году и сан боярский получил.
– На своячнице годуновской женился.
– Да будет вам, петухи голландские! Тут поважнее разговор, чем прю разводить. Помню, после Нагих Бориска за весь Углич взялся. Весь город в попустительстве убийству обвинил. Шутка ли, двести угличан одним махом истребил. Другим языки резали, в Сибирь ссылали, благо только-только новый город там – Пелым – ставить начали. Там им всем место и нашлось. На веки вечные. Всем. Оттого Углич и запустел. От былой славы, глядишь, и памяти не останется.
– А все за то, что кричали Нагие об убийстве. Им бы добрых людей послушаться – про мамкин да нянькин недосмотр толковать. На баб государю жаловаться – самим рук да языков не распускать. Что толку бунтовать, когда царевича не стало.
– Не стало все-таки, Василий Иванович?
– Чего добиваешься, брат Дмитрий? Не должно было его быть, и весь сказ. Лучше думать давайте, как с Земским собором быть. Не признает собор царицу Арину.
– Что и говорить, само такое дело не свершится. Тут постараться надо. Крепко постараться.
* * *
Тем разом без свидетелей не обошлось. Князь Константы Вишневецкий за столом сидел – пировать всегда любил. Ярошек не поостерегся: про гонца доложил. А может, и к лучшему. Дело такое – люди верные нужны. Много людей. Слугой верным нынешнему королю Зигмунту князь Вишневецкий никогда не станет. Шведского духу терпеть не может, о Габсбургах и говорить нечего – Зигмунт из их дома супругу себе взял. Носится со своей Анной Габсбургской. Медаль двойную велел выбить – по-итальянскому обычаю. Хвала Богу, далеко от него Острог.
На восток королевское величество и не оглядывается. Север ему нужен. Все счеты с родней своей шведской свести не может. Злобный. Нетерпеливый. Никого не уважит. Никому слова почтительного не отыщет. Да и как такому простить, что после пожара в Кракове, на Вавеле, польскую столицу поближе к своим шведам – в Варшаву перенес? О том и речь за столом вели.
Гонец – из шляхты. От князя Хворостинина. За стол усадили, угостили как положено. Отдохнуть дали. Потом уж сказать о новостях.
– Великий княже, сумятица в Кремле. Великая сумятица. Спасибо еще траур не прошел, а кончится – быть смуте великой.
– О царице не говорят больше?
– Какая там царица! Боярская дума народу что ни день поясняет: целовали они крест государыне – не чернице. Где это видано, чтоб чернице дела мирские вершить.
– Верят?
– По-разному, княже. Тебе ли людишек не знать: на словах одно, а про себя другое. У нас, знаешь как, все прикидывают: где выгода, где расчет. Бабы – другое дело. Им бы повыть, поголосить: за кого, за что, сами не разумеют. Ими попы командуют. Умеют, ничего не скажешь!
– А о ком говорят?
– Да вроде трое определилися. О них вернее всего Боярская дума толковать станет. Тут уж первыми братья Романовы – Федор да Александр Никитичи.
– Погоди, шляхтич, до нас слухи доходили, будто старшего из Романовых уже избрали, а боярина Годунова убили. Врали, что ли?
– Как тут скажешь. Не столько врали, сколько надеялись: а вдруг чудо такое случится.
– Не случилось?
– Нет, где там! Не расторопны они, Романовы-то. Отец ихний – вот тот ловок был. Ума – палата. В шведском походе 1551 года участвовал. Сколько лет в литовских походах на воеводском месте провел – охулки на руку не положил. Дворецким и боярином стал – в народе так и говорили: за дело. Не по одному родству с покойной супругой царя Ивана Васильевича, Анастасией Романовной. Умер рано – вот беда. Царя Ивана Васильевича всего-то на один годик пережил. Коли молодых Романовых нынче называют, то за его заслуги, за отцовскую добрую славу.
– А сами братья? Знаешь ли их, достойный шляхтич?
– Как не знать. Таких на торгу не потеряешь! Из себя видные, шумливые, что одеться, что покрасоваться любят. Александр-то Никитич в год смерти родителя во дворце находился при приеме литовского посла. На следующий год его Годунов царским именем в Каширу наместником спровадил – абы от дворца царского подалее. В поход против хана Казы-Гирея ходил. Ну, а Федор Никитич – другое дело. Первый на Москве щеголь. Красавец писаный. От книг сызмальства не бегал. Слух ходил, что по латыни говорить горазд. Аглицкому языку также обучился. Двор их отцовский, романовский, близ Красной площади, бок о бок с Аглицким гостиным двором стоит. Так будто бы он по-соседски все иноземцев к себе зазывает да от них науки всяческие перенимает. Обхождению что московскому, что иноземному обучен. Повеселиться мастак. Пиры задает – долго потом Москва шумит. Женился недавно. Уж такому бы жениху ни один родитель не отказал, какое хочешь приданое назначил. А он красавицу сыскал полунищую. Все приданое – косы да глаза. Из дворяночек костромских. Никто попервоначалу верить не хотел. Пришлось.
– А со службой-то у него как, достойный шляхтич? Разумен ли?
– Годунов его не то что привечал, боялся. Куда как боялся. Через год после смерти его родителя в бояре возвел, наместником Нижегородским назначил. В 1590 году дворовым воеводой ходил Федор Никитич в шведский поход. После него стал наместником Псковским.
– Псковским? Так не он ли с посланником императора Рудольфа тайные переговоры вел? Слухачи доносили: искал жениха для новорожденной племянницы, дочери государыни Ирины? С послом Варкочем?
– Он и есть. Ненавидеть Годунова, может, и ненавидел, а виду до времени не подавал. Сейчас – другое дело. Эх, кабы ему-то престол достался!
– Боярская дума за него?
– Великий господине! Да за кого Боярская дума стеной встанет? «Нет» – то они хором скажут, не запнутся. А вот «да» сквозь глотку у них никогда не пройдет: только о себе будут думать. Согласия тут у них от веку не бывало и не будет.
– Хорошо сказал, достойный шляхтич! Очень хорошо! Где бы высокая шляхта ни собралась, нигде толку не будет – дело известное. Значит, и другие имена называют? Чьи же? Не бояр ли Шуйских? Знатностью-то мало кто с ними потягаться может, не правда ли?
– Правда, правда, великий княже, только… Только о Шуйских нынче и речи нет.
– Отчего же? Разве не от старшего сына князя Александра Невского они свой род ведут? Да и много их – братьев?
– Опасаются Шуйские, вот дело какое. В опричнину-то им каково было. Да и Годунов именем государя Федора Иоанновича правил. Так понимать надо, рады-радешеньки, что в Москве – не в ссылке. Силы, так скажем, еще не набрались. Вот князь Мстиславский – иное дело. О нем кто только не толкует.
– Шутишь, достойный шляхтич! Это что же сын того боярина, который брал Мариенбург, Феллин, осаждал Ревель, а потом Москвы от хана Девлет Гирея не уберег? В измене обвинен был?
– Великий княже, кто Богу не грешен, царю не виноват! Ну, не повезло тем разом боярину – что ж, сразу и измена? Это для покойного государя Ивана Васильевича кругом одни христопродавцы были, а на деле-то разве так?
– Не о том толкуешь, достойный шляхтич. Мне царь Иван Васильевич незадолго до кончины писал, что держит подозрение на боярина Ивана Мстиславского в неких изменных винах. Так ведь это после Девлет Гирея лет-то уж никак не менее десяти прошло.
– Государь наш перед кончиною на кого только дурно не думал. А все потому что плох был. Хворость его досаждала, да и после кончины старшего царевича в себя прийти не мог. Посуди сам, великий княже, коли подозрение такое было на князе Иване Федоровиче, как бы его государь Иван Васильевич перед кончиною советником Верховной думы оставил?
– А дружил-то князь с кем?
– Тут уж правды не утаишь: с боярином Годуновым. Крепко они сдружились. Зато как Годунов князя в измене заподозрил – в том, что руку Шуйских решил держать, так Иван Федорович в Кирилловом монастыре на Белом озере и оказался.
– Постригли его насильно?
– Помер. В одночасье помер. До пострига всякого. Может, и до обители не доехал – кто правду-то искать будет. Бояре про сына его толкуют – князя Федора Ивановича.
– Так и он нам известен – в походе против Стефана Батория был.
– Был. А как отца сослали, Годунов его тотчас первым боярином в Боярской думе назначил. Семьи-то колоть он великий мастер. Как одного казнит, так тут же другого милостями осыпет.
– Так, так, князь Федор Мстиславский. Он же и со шведами воевал.
– Дважды. В 1591 году Казы Гирея побил и под Москвой, и под Тулой. Толк в ратном деле знает, ничего не скажешь.
– Ясновельможный князь, могу твоего гостя спросить?
– Еще бы, князь Адам, сколько душа пожелает.
– А почему ты, достойный шляхтич, о боярине Годунове ничего не говоришь? Коли не ошибусь, лет пятнадцать он у власти, именем царским, стоял. Не мог свой отряд дворцовый не сколотить. Что же, молчит теперь? Ото всего отказался?
– Князь Константы, одно дело – царский любимец, другое – царь. По его-то происхождению где ему с другими претендентами равняться. Так полагаю. Боярская дума и говорить о нем не захочет.
– Твоя правда, великий княже, не хочет. Разговоры идут, не желал будто покойный государь Федор Иоаннович перед своей кончиной шурина своего видеть. Запретил ему в покои свои входить. Только все это – одни разговоры. Где было государю силы взять на своем настоять, ежели бы даже и решил от Годунова избавиться. Такого ему и не придумать было. Только вот у Годунова сторонники-то мелковаты. Ну, может, какие меньшие бояре. А так – стрельцы и одна чернь. Их-то купить можно, а бояр подлинных, родовитых, – нет, не купишь. Меж собой толк ведут. К Годунову на двор никто не заезжает. Мимо едут – отворачиваются. Да и Годунов к ним ни ногой: того гляди с крыльца сбросят да собаками затравят, на Москве-то чего не увидишь.
– Сколько ждал тебя, владыко! Вся душа измаялася! Таково-то тошно, таково-то муторно. Сам бы к тебе собрался…
– Ни-ни, и думать не моги, Борис Федорович. Незачем тебе из подворья выходить. Вон как Романовы людишек-то бунтуют.
– И все противу меня?
– По-всякому, Борис Федорович, по-всякому. И противу тебя тоже.
– А еще кого поминают? Лучше правду, владыко, скажи, ведь об охране думать надо. Не только моей. Без меня, владыко, и тебе куда как тяжко придется.
– Знаю, знаю, сын мой, все знаю. Боярыню твою поминают. По всей Москве.
– Ее-то за что?
– А как же – крест-то и ей целовали, вместе со всем твоим семейством и государыней-инокой. Так будто бы она тебя настропалила на престол взойти. Будто она царицей стать хочет.
– Господи, владыко! Нешто ты в ересь такую веришь? Чтобы моя Марья Григорьевна! Да она, если хочешь знать…
– Не хочу! Ничего боле знать не хочу. О кончине государя много толкуют – сомневаются. Так что и государыне-иноке тоже за монастырские стены лучше не выезжать, и уж не дай Господь сюда бы не приехать. Уж на что боярин Василий Иванович Шуйский смирен, и тот бояр усовещевал, чтоб без патриаршьего благословения ничего не предпринимать. Послушают ли, кто их ведает.
– Не послушают. Знаю. Да я из-за Романовых и в Боярскую Думу ездить перестал. Злобятся больно. Сам знаешь, как остатним разом Федор Никитич на меня кинулся, за грудки схватил, что порешил я государя. Сказать такое, когда я…
– Не трави себе душу, Борис Федорович. Лучше думай, что делать будем. До какой поры за закрытыми воротами отсиживаться станешь? Коли людишек перебаламутить, они хуже татар подворье разом возьмут да разграбят. Не дай Господь зла еще какого с семейством твоим наделают. У Романовых что крепостных, что дворовых – пруд пруди, а Федор Никитич горяч да вспыльчив, ох как вспыльчив.
– Выходит… выходит бежать нам отсюда со всем семейством надоть. Прямо теперь, аль чуть попозже – ночным временем. Всем семейством. Меньше соглядатаев будет. Шуму не поднимут.
– Бежать? Куда бежать, Борис Федорович? Из Москвы? А меня, грешного, что ж на растерзание этим псам лютым оставишь?
– Нет, владыко. Из Москвы бежать не стану. От престола не отойду. И ты, только ты мне в том помочь можешь. Думал уж я об этом. Думал не первый день. Есть у меня такое место – у сестры-государыни в ее обители. И Москва под боком – в случае чего доскачешь быстрехонько. И чернь романовская не решится обитель нарушать. Не прав я, владыко?
– А дальше что думаешь, Борис Федорович?
– А дальше – останешься ты здесь, владыко, на своем подворье и начнешь на нем людишек собирать, чтоб за боярина Бориса Годунова стеной встали – имя его выкликать принялись.
– Людишки-то тебе на что, Борис Федорович? Они тебе ни в Земском соборе, ни в Боярской думе не поддержка – так, морока уличная одна. Не им решать, не им избирательную грамоту подписывать.
– Не им, говоришь. А коли много их соберется? Коли пойдут они всем скопом на Думу? Коли пригрозят боярам дома их да дворы разнести, тогда как? Нет, ты от людишек, владыко, до поры, до времени не отмахивайся.
– Вот если в приходах…
– Видишь, видищь, владыко, сила-то у тебя какая! Коли все попы за прихожан возьмутся, может, мы с этого конца недругов наших и потесним? За отцом духовным кто только не пойдет…
– Да ведь и бояре рук не сложат…
– Ну, тут уж наперегонки придется, владыко, кто первый.
– Понимаю, все понимаю, Борис Федорович, да нрав-то у меня боязливый, нерешительный. Меня всяк запугать может, с толку сбить.
– А вот тут ты уж о жизни своей, владыко, подумай, как ее вести, как скончать собираешься – в славе ли и в почете, или в ссылке, а то и в темнице, в цепях да в сырости. И чем скорее за дело возьмешься, тем лучше. Пока Романовы-то не очнутся. Лишат они меня вместе с Думой правительского сана, тогда что? Чем я тебе помогу? Как от беды неминучей спасу? Полно, полно, владыко, благослови меня, да и отправляйся на свое подворье с Богом. Мне ведь еще, знаешь, сколько сделать потребуется, чтобы в Новодевичьем ещё темным временем оказаться.
С одним фонарем возок патриарший до ворот люди проводили. Больше нет огней на годуновском дворе. В тереме все оконца что ни день с сумерками войлоками заволакиваются: ни к чему людишкам на глаза попадаться. На боярынину половину Борис Федорович один пошел – от паробка отказался: дорогу знает. С женой на особенности говорить надо. Прислуги не всполошить бы раньше времени.
– Марья Григорьевна! Марьюшка! Это я. Ишь, как прижухла – в темноте не разглядишь. С делом я к тебе неотложным, боярыня моя. Быстрехонько одевайся, деток одень потеплее да в возок – едем мы немедля.
– Сейчас? На ночь глядя? Ох, Борис Федорович! Случилось что?
– По дороге потолкуем. Детям скажи, к государыне-иноке в гости собираемся. Вещей, рухляди особой не бери. Прислуга, что надо, позже довезет. Чай не дальний свет.
– А государыню-иноку упредил? Аль сама тебе приглашение прислала? Неужто гневаться перестала? Захворала, что ль?
– Не упредил. И упреждать не стану. Тебе одной, Марьюшка, поведать, как на духу, могу: боюсь, не примет.
– А коли приедем, куда деваться, так что ли?








