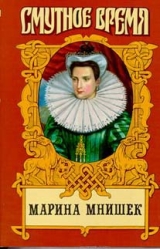
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Быстрей начнем, быстрее кончим. Глядишь, на Светлое Христово Воскресенье звоны услышим, под благовест пасхальный по домам расходиться будем.
– Немного у человека радостей, пусть вернет нам Божескую.
– Пусть вернет!
– А не хочет верой своей люторской поступиться, пущай в другом каком месте по-своему молится, от звуков божественных своего сынка оберегает! Так что ли, други милые!
– Так! Только так!
– Вот, благословясь, на Кремль наш и двинем!
– Проститься пришел, государыня!
– Как проститься, Заруцкий? Что сталось?
– Астраханцы против нас вышли. Кремль со всех сторон окружили. Без боя не отобьемся.
– Осада? Это называется осада…
– Что ж, Марина Юрьевна, на правду глаза закрывать. Осада и есть. Не тебя одну с царевичем защищать надо – одной свиты у тебя, государыня, не менее сотни человек. Им та же беда грозит.
– Знаю. Все знаю. Это ты еще не знаешь, Заруцкий, как оно бывает. Отговорить тебя не могу. Только… только береги себя… Янек… Не как жолнежа, не как регента будущего царского прошу… Как человека… Береги себя, ради Господа нашего Многомилостивого, в щедротах своих неисчислимого. Многострадального, Матерью своей оплаканного, береги…
– Да ты плачешь, государыня? Что ты! Что ты! Вернусь я живой и невредимый. После слезы твоей неоцененной как Бог свят вернусь. Не круши себя, не круши, царица. Все устроится. Все ладно будет. А где гишпанский чернец твой? Благословиться у него на всякий случай хочу.
– Здесь я, здесь, сын мой. Да пребудет с тобой милость Господня ныне и присно, и во веки веков. Будет она тебе покровом нерушимым. Иди, мой сын, не сомневайся, иди!
– Пошел. В самом деле пошел. Вон на детинце говорит с казаками. Смеется. Окно бы отворить – услышать. Отец мой, пошли туда верного человека. Чтобы рядом с вельможным паном. И чтобы – чтобы не попадался ему на глаза. Пошли же, отец мой, поторопись, очень тебя прошу. Ты же найдешь верного человека, правда?
– Постараюсь, дочь моя. Но…
– Потом, потом, святой отец! Я все объясню, только не сейчас.
– Ваше величество, куда так поспешил отец Миколай? Я едва успела уступить ему дорогу.
– Ты слишком любопытна, Теофила. Неужели у святого отца не может быть своих дел!
– Я так привыкла всегда его видеть рядом с вами, ваше величество. Но вы взволнованы. Может быть, я могу быть полезна вам? Прикажите, на детинце столько народу. Все с оружием. И ясновельможный боярин…
– Ты видела Заруцкого?
– Конечно. Ясновельможный боярин командует. Смеется. Он всегда бывает такой, когда отправляется в сражение. Мне стало страшно. Куда же на этот раз?
– Никуда, Теофила. Это астраханцы решили взять наше убежище силой, и вельможный боярин пошел организовывать защиту.
– Это как в Кремле?! Боже правый! Еще раз такое пережить! Лучше умереть. Умереть сразу. Только как же наш царевич?
– Ты снова забываешься, Теофила, – наш царь. Ведь Иван Дмитриевич провозглашен царем Всея Руси. Царем!
– Да, да, царем. Но ведь это его провозгласил ясновельможный боярин пан Заруцкий…
– И что из этого?
– Достаточно ли это для астраханцев? Они такие смутьяны и бунтовщики! Во всем сомневаются, всё обсуждают. Наши шляхтичи рассказывают, что на Торгу разыгрываются настоящие диспуты. Эти горожане никого не умеют почитать.
– Значит, пану Заруцкому придется учить их силой.
– И для этого ясновельможный пан собирается выйти за ворота нашей крепости?
– Может быть.
– Нет, нет, ваше величество, этого никак нельзя допустить! Ведь горожан так много. Они могут силой ворваться в открытые ворота, и тогда… Нет, нет, нет!
– Довольно, Теофила. Немедленно прекрати свои причитания! Вон идет святой отец. Ступай, мне нужно с ним поговорить. И скажи пестунке, чтобы одела Ивана Дмитриевича. На всякий случай.
– Дочь моя…
– Вы расстроены, святой отец? Вас что-то обеспокоило?
– Я выполнил ваше поручение. Ясновельможный пан просил вас быть в доброй мысли. Он уверен в своей победе. И ему, несомненно, виднее, чем простому монаху…
– Говорите же, святой отец, что вам пришло на мысль.
– То, что сначала казалось мне гарантией нашей безопасности, теперь стало представляться мышеловкой. Из нашей крепости нет иного выхода, чем те ворота, у которых собрались бунтовщики.
– Я знала об этом.
– Да, да, но мне просто подумалось, что если положение начнет становиться более серьезным, было бы неплохо вывести вас, ваше величество, вместе с царевичем по любому потайному ходу, чтобы вы могли…
– Спастись бегством. Не договаривайте, святой отец. Я не пойду ни на какой побег одна.
– Но ведь в свое время вы решились бежать в Тушино.
– И вы со мной, как и многие придворные. Знаю. Но тогда у меня на руках не было сына.
– Но вы же с сыном бежали из Тушина.
– И снова – мне было куда бежать. Я знала, что Заруцкий в Калуге. А здесь куда мне держать путь? К кому?
– Это можно рассчитать. Лишь бы вы не лишились свободы.
– Вы правы. Сегодня за мной одинаково усердно охотятся и ставленники царя Романова, и мои собственные родаки. Сегодня король Зигмунт ни о чем не станет торговаться с царицей Мариной. Для него мой титул потерял смысл, раз московский престол стал сниться не только королевичу Владиславу, но и ему самому. Соперники из их числа навсегда закрыли мне дорогу в польские земли. О каком же побеге вы говорите, святой отец?
– Поверь, дочь моя. Господь ни в каком положении не оставит тебя без защиты. Главное – сохранить жизнь себе и младенцу.
– Какой ценой? Превратиться в нищенку, скитающуюся по неведомым дорогам и делающую все, чтобы скрыть свое истинное лицо? Или искать себе места в монастыре под вымышленным именем? Перестать быть царицей даже на словах, даже перед лицом десятка готовых тебе каждую минуту изменить прислужников?
– Дочь моя, неисповедимы пути Господни. Тем более неисповедимы пути, которыми Господь приводит своих избранников на престол. Тебе следует положиться на Божественное Провидение.
– Я так и сделаю. Но пока я просила тебя о Заруцком.
– Я сделал все по твоему желанию. Ты помнишь, дочь моя, молодого монаха моего Ордена – Антонина? Он переоделся в военное платье и смешался с толпой шляхтичей и их прислужников около ясновельможного пана. Единственно, чего я не могу ему объяснить, за чем именно ему следует наблюдать.
– За всем. За каждым словом Заруцкого. Тем более действием.
– Ты перестала доверять своему самому верному слуге? Это невероятно!
– Ты так думаешь, святой отец? Что же здесь такого невероятного?
– Мне не следовало бы тебе этого говорить, дочь моя, но…
– Ты имеешь доказательства его верности, каких не имею я?
– И да, и нет.
– Что значит – да?
– Повторяю, мой сан не позволяет мне говорить о страстях человеческих и уж во всяком случае их поощрять. Но обстоятельства таковы, что я предпочитаю согрешить, но сказать тебе: ясновельможный пан испытывает к тебе далеко не одни верноподданнические чувства.
– Знаю.
– Он объяснялся тебе в них?
– Никогда, святой отец. Да и есть ли нужда в подобных объяснениях? Его поступки, поведение говорят сами за себя.
– Именно это греховное чувство и представляет лишнюю гарантию верности тебе и твоему сыну.
– Отец мой, а если бы я не была царицей Московской, а простой вдовой с сиротой на руках, он бы испытывал ко мне те же чувства?
– Странные предположения!
– Почему же? Я все это испытала на себе. Я никогда бы не обратила внимания на царевича Дмитрия у нас в Вишневце, если бы он не был царевичем. Нет, я лукавлю, святой отец, – если бы перед ним не открывалась дорога к русскому престолу.
– Ты возводишь на себя напраслину, дочь моя.
– Не надо меня оправдывать, святой отец! Я не нуждаюсь в оправдании. Царевич Дмитрий…
– Должен был удовлетворить твое тщеславие, хочешь ты сказать, не правда ли? Я отвечу тебе на твои самообвинения. Ты не могла отделить его человеческих достоинств от той жертвенности, которую несут в себе все коронованные или обреченные на несение короны особы. Ты сама говорила мне о его редкой смелости, силе, ловкости – они поражали твое воображение. Но ты должна была воспринимать его как коронованную особу, и это смущало тебя.
– Смелость, сила, ловкость… Все эти качества в гораздо большей степени присущи Заруцкому. И еще красота, которой никогда не грешил покойный царь.
– Тебя привлекала телесная красота, дочь моя? И снова ты клевещешь на себя. Мне ты всегда говорила о красоте духовной государя. О его образованности. О языках, на которых он изъяснялся. О книгах, которые читал. О философических рассуждениях, к которым стремился. Разве все эти качества присущи ясновельможному боярину? Помнится, ты никогда не называла их и напротив – готова была подшучивать над его не шляхетскими привычками, обиходом, разве не так? Именно потому, что существо его пребывает в телесных радостях и отвергает духовные эмпиреи, так важно, что он испытывает к тебе вполне земные чувства. Они помогут ему превзойти самого себя в отношении смелости и изворотливости.
– Отец мой, мне не нужны сегодня утешения. Мы подошли к той, может быть, роковой черте, где правда и только правда может еще нас спасти для жизни. И для престола.
– Ты всегда отличалась решительностью и неженским умом, дочь моя.
– Так вот именно поэтому. Ты знаешь, святой отец, как хочет новое московское правительство завоевать симпатии волжских казаков.
– Да, это настоящая вольница.
– Вот именно. Я знаю от Заруцкого, сколько прелестных грамот посылается им именем Михаила Романова и патриарха.
– Кажется, такие грамоты посылаются всем казакам – и на Волгу, и на Дон.
– Пусть и на Дон. Мы говорим сейчас о здешних казаках. Это им собор всяких людей московских, не говоря о царе и властях духовных, посылает вместе с грамотами самые щедрые подарки. Самые щедрые, месяц за месяцем, хотя казаки пока и не перестают бунтовать. Москву не смущают потраченные средства. И ты понимаешь, святой отец, капля долбит камень не силой, а частым падением. В конце концов, казаки поймут, что с таким правительством выгоднее иметь дело, чем с царицей, которая, в общем, ничем не может их по-настоящему одарить.
– Московские власти правы в том смысле, что для них нет ничего опаснее союза казаков с твоей армией, моя дочь…
– Но именно во главе и под командованием Заруцкого.
– Это одно должно тебя успокаивать.
– Успокаивать? Твои увещевания становятся неубедительными, отец мой, совсем неубедительными.
– Но почему же – иметь такого полководца…
– Если он сохранит мне верность. Подожди, подожди, святой отец! Разве ты не знаешь, какие грамоты и новый царь и Земский собор присылали Заруцкому? Они обещали ему полное помилование, земли и службу под их державой!
– Ясновельможный боярин не обратил внимания на их посулы!
– Вчера. Может быть, сегодня. А завтра? А если эти посулы будут становиться все щедрее?
– Соблазн возможен всегда, дочь моя. Человек слаб – такова его природа. Но я предполагаю…
– Вот именно предполагаешь, святой отец. Но люди не случайно говорят: человек предполагает, а Бог располагает. Откуда мне и тебе знать, каково предназначение Заруцкого.
– Надо надеяться на лучшее, дочь моя.
– А готовиться к худшему. Ты сам столько раз повторял мне это, святой отец. Я столько раз повторяла недавнее наше прошлое, что иногда мне кажется, я возвращаюсь в него и живу в нем.
– Я хочу тебе напомнить, государыня, что грамоты ясновельможному боярину приходили еще до твоего приезда в Астрахань.
– Еще бы, на нашей стороне была Астрахань и к ней присоединился город Терский! Мало того – казаки заявили, что не позже чем весной пойдут на Самару и Казань. Все сулило замечательное будущее. Не знаю, чья это ошибка, но между Астраханью и городом Терским начались недоразумения.
– Все-таки виноваты были торговые люди – не казаки.
– Не знаю. Главное, Терский отошел от Астрахани. И вот теперь терский стрелецкий воевода двинулся на Астрахань. Если только горожане прибегнут к его помощи…
– Я не хочу тебя огорчать, дочь моя, но твой приказ о звоне…
– Мне надоели ортодоксы с их привязанностью к любым привычным мелочам. Надоели! Не думаю, чтобы французская королева или австрийская императрица позволили бы беспокоить своих детей нелепым и совершенно немузыкальным шумом!
– По всей вероятности, твои сестры королевы поступили бы так же, но это было бы в их исконных столицах. Во дворцах, которые строятся таким образом, чтобы создать самые большие удобства для их жителей. Тебе же, государыня, и твоему двору приходится пользоваться гостеприимством ортодоксальных духовных лиц – жить в их монастыре, построенном для их благочестия и их молитв.
– Но могу же я когда-нибудь почувствовать себя царицей! Применяться все время, применяться ко всем, это невыносимо!
– Боюсь, Господь не оставил тебе выбора, дочь моя.
– Видишь, государыня, первая наша вылазка оказалась вполне удачной. Горожане рассеяны и, надо думать, не решатся на новый штурм. Пока, во всяком случае.
– Что значит твое «пока», вельможный пан? Ты думаешь, они могут получить поддержку? Ночью? Лазутчики ничего не говорили о войске из Москвы.
– А в нем и нет необходимости, государыня.
– Значит, ты говоришь о местных силах?
– Вот именно. Ты помнишь, государыня, Ивана Давидовича Хохлова?
– Воеводу астраханского? Как же не помнить. Ты ведь послал его моим именем в Персию.
– За подмогой к персидскому шаху.
– И шах его задержал у себя.
– Так мы думали. На деле все было иначе. Еще при царе Борисе Годунове он был в приставах для бережения у посла персидского шаха Аббаса Перкулы-бека, когда тот возвращался из Москвы в Персию через Казань.
– Я помню, государь Дмитрий Иванович поставил его в здешних местах воеводой.
– В Астрахани и на Тереке. Отсюда твоим именем и уехал он к шаху. Никто его не держал в Персии просто он изменил тебе. Просил шаха задержать его, пока не выяснится положение в Москве.
– Какой негодяй! И ты не предполагал этого?
– И да, и нет. Сомнения стали появляться. А после избрания Михаила Романова я получил все доказательства.
– И ничего не стал мне говорить?
– Зачем? Что бы это изменило? У тебя, государыня, хватало иных огорчений. Дело в том, что Михаил Романов отправил в Персию новое посольство, чтобы сообщить о своем избрании и затребовать выдачи Ивана Хохлова со всеми его бежавшими отсюда товарищами.
– Откуда такое условие?
– Государыня, но ведь, во-первых, Иван Хохлов изменил Москве, где тебя уже не было.
– Ты хочешь сказать, что Михаил Романов вступился за государя Дмитрия Ивановича?
– Обычный предлог, чтобы свести счеты с неугодным лицом. Но Хохлов настолько полюбился шаху, что тот очень долго оттягивал его выдачу и согласился на нее только после того, как московское правительство обещало полное помилование изменнику.
– Зачем он был вообще нужен правительству Михаила Романова?
– Только для порядка. Разговор о полном помиловании оказался очередным обманом. Ивана привезли в Москву с приставом. Он сейчас в темнице. Может быть, и в пытошной башне. И ходят слухи, что его брат, стрелецкий воевода на Терках, получил условие: если он поможет освободить от тебя и твоего двора, государыня, Астрахань, Иван Данилович будет спасен от тюрьмы и пыток.
– Это значит…
– Только то, что Хохлов-младший будет биться с настоящей яростью, забыв все наши давние договора и добрые отношения.
– Сегодня, вельможный боярин, ты отбился только от горожан.
– А завтра к ним наверняка присоединятся казаки из Терок, которых ведет Хохлов.
– Их может быть очень много? Город Терский так велик?
– Говорят, это просто укрепление, построенное лет сорок назад донскими казаками на берегу реки Терека. С тех пор эти казаки получили имя терских, а укрепление имеет несколько валов вокруг него и ничего больше. Просто в отличие от горожан терские казаки не расстаются всю жизнь с оружием. Они отличные наездники. Еще лучшие стрелки. И – они дорожат только своей свободой.
– Но Москва не оставит им их свободы, тогда как мы…
– Тогда как твое правительство, государыня, пока еще ничем не улучшило их положения. Им непонятны обычаи твоего двора, а также и твои требования, хотя бы по одному тому, что они не привыкли кому бы то ни было подчиняться. И потом эти несчастные звоны…
– Они же язычники! Настоящие язычники!
– И именно поэтому дорожат всеми внешними признаками своей принадлежности к церкви. Что делать!
– Дочь моя, ты целые дни проводишь в часовне. Ты забываешь о сыне, а ведь он нуждается в твоей опеке.
– Разве я могу дать ему больше того, что дает царевичу моя пестунка? Она знает царевича лучше меня, а я…
– Ты хочешь навязать Господу свою волю, государыня. Ты так упрямо настаиваешь на своих нуждах. Молитвы не созданы для этого.
– А для чего же, святой отец? У кого еще я могу просить помощи и от кого еще могу ее ждать?
– Дочь моя, молитва дана человеку для сокрушения о своих слабостях и грехах. Если бы ты могла осознать тщету своих помыслов, с сокрушенным сердцем отказаться от надежд…
– Никогда, отец мой! Никогда!
– Ты не дала мне договорить, государыня. Если бы ты осознала всю тщету мира, власти, богатства, то только тогда Господь мог бы тебе помочь. Только тогда, когда все это потеряет для тебя ту цену, которую ты им придаешь.
– Я не стану лгать! Я ни от чего не собираюсь отказываться. Я разочаровалась в людях. Давно. Навсегда. Но не в той цели, к которой стремилась. Я же была у нее, святой отец! Была! И вот…
– Тщета человеческих помыслов и надежд.
– Ты думаешь, святой отец, те, кто отнял у меня престол, лучше меня? Достойнее? Что у них есть большие права на царствование?
– Конечно, нет, дочь моя.
– Тогда почему? Почему я должна ото всего отрекаться? Думать о тщете человеческих помыслов? В чем-то каяться? Почему я, а не они?
– Таких вопросов не обращают к Господу, дочь моя. Это грех, великий грех.
– Одним грехом больше, одним меньше – какое это имеет сейчас для меня значение!
– Ты впадаешь в уныние, а вера наша осуждает ее.
– Значит, надо надеяться, да? Так вот я и ищу сил для надежды. Если к власти могут приходить нисколько не лучшие особы, чем я, почему я не могу бороться за свой престол до конца, до последнего дыхания? По счастью, мне грозит здесь кругом смерть, но не монастырь, а это уже вселяет надежду.
– Дочь моя, ты приводишь меня в отчаяние. Каждое твое слово…
– Знаю, знаю, неправедно. Но я не солгу тебе, отец мой, надевая на себя белоснежные одежды чистоты помыслов и чувств. Я прошу тебя об одном – помоги. Если можешь. Если нет, оставь меня моей судьбе и моим грехам. Я справлюсь с ними. Или – не выдержу их тяжести. Когда-нибудь. Еще не сегодня. Еще не сейчас.
– Какой государыней ты могла бы быть, дочь моя…
– Могла бы… только могла бы… Но что это? Опять шум. Опять крики. Заруцкий… Что теперь?..
– Государыня, нам надо оставить Астрахань!
– Когда?
– Немедленно! Чем скорее, тем лучше!
– Что-то случилось?
– Слишком многое. Я расскажу тебе, только сначала распорядись.
– Дочь моя, я все сделаю.
– Хорошо, святой отец. Я слушаю.
– От нас отошли татарские табунные головы.
– Боже, такие воины! Но почему?
– И ногайский мурза. Ишрек.
– Они поставили нам новые условия? Невыполнимые?
– Они просто присягнули Михаилу Романову. Им так стало выгоднее. Я узнал об этом от своих лазутчиков. И скорее всего они поддержат подошедшего к Астрахани Хохлова. Если это случится, у нас не будет выхода.
– Но ведь его нет и сейчас. Единственные ворота…
– Выход есть. И в самом деле единственный – через ворота надвратной Никольской церкви.
– Но они же выходят прямо в воду. Вода стоит у самых ступеней. Или я ошибаюсь? Что-нибудь изменилось?
– Ты права, государыня, но в этом как раз наше спасение. Мы прямо там сядем на струги. Я уже распорядился, чтобы их ночным временем подогнали к церкви.
– Спасение… А дальше? Что дальше? И как много людей сможет в них разместиться?
– Стругов будет несколько десятков. На это у меня хватило средств, а у наших казаков ловкости. Мы не оставим здесь ни одного человека.
– Хвала Богу! Только не предавать…
– Пока такая возможность есть. Дальше – дальше будет видно.
– Но можем ли мы нагружать струги рухлядью?
– Твоей, государыня, конечно. Твои одежды – наше спасенье. Без них ты не можешь быть в глазах голытьбы царицей. А ты должна ею оставаться. Ты должна всех поражать, ослеплять, не снисходить до простых смертных.
– Перестань, Заруцкий!
– Прости меня, государыня, но все мы играем свои роли или – или перестаем существовать. Разве я не прав? Можешь ли ты стать простой мещанкой? Такая бессмыслица даже сейчас вызывает у тебя только улыбку. Ваше величество, караван ваших судов готов к отплытию. Вы разрешите предложить моей повелительнице руку?
Ночь нужна. Ночь темная. Беззвездная. Ветреная. Чтобы шум стоял. Шорохи. Звериные крики.
Где здесь в майскую пору такую найти? О полуночи небо светится. Словно волны речные по нему пробегают. Легко. Неслышно. Звезды россыпью едва бледнеют. Ветер тянет с моря. Теплый. Духовитый. Камыши у берега шелестят. К воде клонятся.
Ехать. Снова ехать. Куда? Заруцкий говорит: к Уралу. Горы там будто высокие. Леса. Казаков много. И все вольные. Не московской руки. Не спросила. Могла, а не спросила: они-то им зачем? Почему царицу ищут? Ни городов тут. Ни селений больших. Острожцы. Юрты.
Чего только не довелось повидать! И все уходит. Как земля из-под ног. Не успеешь толком присмотреться.
Недоразумение с вельможным боярином вышло. Как порох вспыхнул. Голос осмелился поднять: «Опять чернец гишпанский! Опять под ногами босоногий путается! От него все неудачи. Неужто не видишь, государыня? Все от него. Отпусти его, немедля отпусти».
Отпустить? Ушам своим не поверила. При казаках. При дамах.
Отец Миколай стоит молчит. А с кем тогда говорить? У кого поддержки искать? Кажется, вся жизнь с ним прошла. Посчитала – целых восемь лет. Каких лет!
Отказала Заруцкому: много на себя берет. Должен лучше с войском своим управляться. Казаков в руках держать. А не на святую церковь замахиваться.
«Кабы не стояла ты за свой кшиж, кабы не казала его людям где надо, где не надо, с самой Москвы все иначе бы шло».
Иначе? Так с тем и в Москву ехала, чтобы не отрекаться от святой церкви – престол ее в Московии утверждать.
Где ему понять! Был в крещении. Был в мусульманстве. Спросила как-то, как опять крещение святое принял? Посмотрел – рассмеялся. А чего, мол, его снова принимать. Можно и так просто.
Неужто так можно? С духовником своим советовался ли? Он-то согласие дал? Или должен был в Ватикан писать?
Снова смех. Какой духовник? На ратном поле нешто он нужен. Это если во дворце сидеть. От безделья. А у меня рука всегда оружие держит. Чтобы крест на себя положить, надобно саблю или пистолет в сторону отложить, а со мной такого, сколько себя помню, николи не бывало.
Господь Всемогущий, неужто безбожник? Хуже неверного – у тех хоть свой Бог, свои молитвы. А тут…
Отцу Миколаю сказала. Промолчал. Повторила – вздохнул тихонько: это, мол, все на словах, а на деле… На деле святому делу ясновельможный боярин служит. Значит, и престолу Римскому. Сам того не сознает. Время потише станет, сам все поймет. Не тревожь ты его, дочь моя. Пока не тревожь.
А вот теперь ополчился на святого отца. Ему все беды приписывать готов. Подумать не хочет: вдруг наше счастье от нас отвернулось. Прогневали Господа неустройством своим, раздорами.
Числа стала запоминать. Разговоры слушать, приметы. На всякий случай сколько их найдется. Отец Миколай не разрешает. Да что и он с сердцем сделает, коли сомнение в него закралось.
Вот и на этот раз спросила. Ночь с одиннадцатого на двенадцатое мая месяца что ворожит? У святого отца один ответ: память святых Панкратия и Доминика. Пестунка порадовалась: до Зеленых Святок целых пять дней. Поди, успеем до нового места доехать. Чтобы, как положено, отпраздновать. Правда, государыня? Правда, Марыню?
Да что Зеленые Святки! Через две недели великий праздник – Божьего Тела. Вот когда надо и покои убирать по-весеннему. И столы ставить. Королевича нашего потешить можно.
Как ей скажешь? Что? На этот раз даже Заруцкий места для нас пригульного не знает. Городов здешних да селений представить не может. На все у него один ответ: не казнись, государыня, не огорчайся. У Бога не без милости. Так ведь одни и те же слова говорят все, кто сражается. На чьей стороне завтра Божья милость окажется?
Еще Теофила добавила: хорошая примета – ночь с четверга на пятницу. Разве пятница хороший день? Заруцкий вмешался – вошел ненароком. Чем плохой? Неверные свой праздник празднуют. К горожанам и стрельцам по такому времени не придут. Значит, очень хороший.
Вином от атамана пахнуло. Не в первый раз. Знаю, не сам пьет – с казаками братается. Говорит, надо. Боярин из дворца им не нужен – мало они таких перекололи, перевешали, со стен крепостных посбрасывали. Атаман – другое дело: свой человек.
Вперед! Только вперед! Ладно, если коней толком покормить удастся. На водопой сводить. О конях главная забота. Люди – что! То ли переспят, то ли в седле задремлют. Вчера шляхтич с коня свалился – уснул, так на земле и спать остался. Еле раскачали.
Дамы в повозках – о них и речи нет. О еде то же. Где ее на всех найти? Где толком приготовить?
– Долго ли еще, вельможный боярин?
– Что – долго ли, государыня?
– До нового дома. День ото дня жарче становится. Душнее. Царевич скучный стал – не заболел бы.
– Не будет нового дома, государыня.
– Так и не остановимся больше, вельможный боярин?
– Должны остановиться. Как казаки подскажут. Пока не верят местным, своих не найдут, надо ехать.
– Но ведь торопимся мы. Почему?
– От Хохлова уходим. От его стрельцов.
– Думаешь, пан, за нами погонятся?
– Как не погнаться. Лазутчики сказали: Москва каждому, кто нас изловит, по сту рублей обещала. Где они такие деньги видывали! Как на крыльях полетят.
– Как на крыльях… Только почему Москве наши головы так запонадобились? Почему сейчас так за поиск взялись?
– На мое разумение, государыня, не могли они, по закону, нового царя выбирать, коли царица венчанная да еще с сынком есть. Вот и нужно…
– Не договаривай, пан, – чтобы нас не стало. Только не молод ли царь новый для таких решений? Сам говорил – подросток.
– Но и о Старице Великой говорил тоже. Она, сказывают, всему голова. Она и злобствует. Где прав нет, там злоба да жестокость в ход идут. Разве неправда?
– А патриарх?
– Что патриарх? О ком это ты, государыня?
– При государе Дмитрии Ивановиче был патриарх Филарет, ее супруг бывший. Дмитрий Иванович очень ему доверял, советов слушался.
– Так его Василий Шуйский немедля низложил. Гермогеном заменил. А Гермоген из здешних краев. Завзятый поп – такого поискать. Да ты своего гишпанского чернеца спроси. Их брат все до мелочи по церковной части знает.
Стегнул коня. Умчался. Сутками не спит. Куска в рот не берет. Надолго ли его станет…
– Звала меня, дочь моя? Ясновельможный боярин сказал…
– Звать не звала, а что пришел, святой отец, хорошо.
– Патриархом православным интересовалась. Ясновельможный боярин сказал.
– Не патриархом – врагами нашими. Он среди них не первый ли?
– Был. Нету его больше, Гермогена.
– Почему нету. С престола свели?
– Хуже. Порешили его. В темнице. Иные говорят, от голода сам помер. Года два с лишним назад.
– Где? От кого смерть претерпел?
– Да к чему тебе подробности такие, дочь моя? Но если хочешь, лазутчики сказали – в Кремле.
– Московском?
– В Чудовом монастыре.
– От голода? Перед дворцом царским? Да что же это за место гиблое такое! Скольким гибель несет!
– Что же удивляет тебя, дочь моя, где искушение властью, там и гибель, там и муки самые страшные.
– А почему Заруцкий сказал, будто из здешних мест Гермоген?
– Из казаков он. Донских. Священствовать начал в Казани. Татар местных крестил. Сказать не могу, успешно ли. Кафедру архиерейскую в Казани же получил. Очень часто патриарху Иову докладывался, так что в Москве его узнавать начали.
– Его Шуйский после гибели Дмитрия Ивановича, говоришь, поставил.
– Полагать надо, потому боярин на нем остановился, что не московский, а амбитный: себя показать все время хотел. В Москву переехал, против папского престола и униатства воевать принялся.
– Он письма в Тушино прелестные посылал.
– Он и есть. Союз сородичей твоих с московитами порушил. Бояр изменниками называл. От них и приказ вышел под стражу его взять. Он и из темницы письма прелестные по стране рассылать начал, ополчение в Москву призывать. Так и вышло – в темницу попал, а уж там…
– А сейчас, сейчас кто наш враг? Неужто Старица Великая? Женщина? Монашка?
– Дочь моя, в борьбе за веру, за близких своих женщина удержу не знает. Кто б от нее здравого смысла потребовал… А монашка – что ж, разве не черницы на костры всходили?
– Но месть? Слепая месть? Тем, кого ей и видеть не приходилось? Кто ничего ей не сделал? И это после жизни в монастыре?
– Обитель далеко не всегда умеряет страсти. Духовное не всегда одерживает победу над мирским. Страсти человеческие не утихают и под рясами. Человек в любом обличье – просто человек.
– Ты оправдываешь ее предвзятость, святой отец?
– Как можно, дочь моя. Я просто ее объясняю. И вельможный боярин прав: столкновение с ней смертельно опасно.
Шатер. На этот раз в шатре ночь провести придется. Еле раскинуть успели. Коней на водопой отвели. Там и стреножили – в ночное пустили.
Постеля жесткая, неудобная. Пестунка с Теофилой громоздили-громоздили, все равно жестко. Покрывалом не накрыться – духота. Полога шатрового не откинешь – мошкара тучами летит.
Свечу бы зажечь – пестунки не дозовешься. К царевичу ушла. От него ни на шаг не отходит. То ли неможется ему, то ли поустал от скачки такой. Две недели в пути, а все конца краю не видно.
Лазутчик догнал – близко хохловские стрельцы. Только вроде бы другой путь по Яику выбрали. Заруцкий решил внизу по берегу держаться. Казаки и вовсе на конях по воде едут – чтобы следов не оставалось. От повозок колеи вон какие пролегли – не поймешь, сколько да когда их прошло.
Заруцкий с лазутчиком надолго отошел. Вернулся – губы закушены. Отдохнуть надобно. Как можно лучше отдохнуть. Провиант к тому же подвернулся. На кострах казаки ухи наварили. Хлеб поприбрался. Да Бог с ним, можно и без печива обойтись. Царевич и то плакаться не стал. Будто понял. На руках у пестунки задремал – в другой шатер снесли.
– Какой шатер-то ейный? Царицын, или как ее?
– Тихо! Голова велел, чтоб ни вздоха, а ты во всю глотку орать. Вот он, шатер-то. Два казака сидят.
– Кажись, уснули.
– Погоди, погоди! Коли так, мешки им на головы, и делу конец.
– В шатре-то кто еще есть, не знаешь?
– Лазутчик гуторил, нетути. Иной раз девка при ней прислужница остается, а тут вроде бы не должна.
– Да я не про баб. С ими какой разговор. Только что визг поднять могут. Так надо изловчиться – первым делом рты-то им позатыкать.








