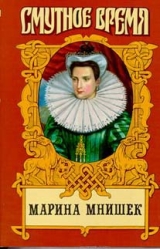
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– Ваше величество, именно после всех этих действий последовала так поразившая всех женитьба на Карин. И долгое лечение от прямого помешательства.
– Не такое уж и долгое. Через какой-нибудь год Эрик пришел в себя и продолжил начатые безобразия с удвоенной силой. Он короновал Карин! Это было уже слишком. Дворяне составили заговор. Мой родитель возглавил его. Эрика приговорили к пожизненному заключению. А мой родитель наконец-то вступил на отеческий престол, к великой радости своих подданных.
– Простите, ваше величество, бестактность моего вопроса, но принц Густав был рожден в браке, насколько я понимаю? То есть Карин родила его после венчания?
– К сожалению для всех. И к счастью для него. Густаву было немногим более полугода, когда Эрик оказался в заключении. Так называемому принцу следовало бы исчезнуть навсегда. Таково было решение моего родителя. Но благодаря иезуитам приказ утопить младенца не был выполнен. Эти люди увезли ребенка в Польшу и сумели скрыть от любопытствующих глаз.
– И тем не менее ему пришлось рано или поздно объявиться, ваше величество.
– По самой простой причине – нехватке средств. Карин, как говорят, помогала сыну редко и помалу. То ли была скупа, то ли бедна. У иезуитов, скорее всего, иссякло терпение.
– Или они захотели побудить Густава к более решительным действиям.
– Вполне возможно.
– Но ведь он понадеялся и на вашу помощь, ваше величество.
– Вы шутите? Это было бы совершенно исключительной наглостью. И притом, когда и каким образом? Я ничего подобного не помню.
– Ваше величество, у Густава не могло быть иного коронованного покровителя. Ваш родитель справедливо его изгнал – Швеция была для Густава закрыта. А вы как раз венчались польской короной. И так называемый принц добрался до Кракова и впервые открылся своей сестре Сигрид, состоявшей в вашей свите во время коронационных торжеств.
– А, вы об этом! Но у принцессы Сигрид хватило ума откупиться от братца небольшими деньгами и посоветовать навсегда уехать в Германию. Сигрид – вполне рассудительная особа…
– Что ж, ваше величество, раз вы считаете такой выход наиболее благоприятным…
– У вас иное мнение по этому поводу, господин секретарь? Любопытно, какое же?
– Не смею занимать драгоценное время моего короля…
– Послушайте, я приказываю вам!
– Если вы настаиваете, ваше величество. Разве нельзя было оставить Густава, подобно Сигрид, в вашей свите? Если он раздражал вас, что вполне естественно, можно было ему приказать не показываться королю на глаза. Но при всех обстоятельствах Густав бы находился под постоянным присмотром…
– О каком присмотре над нищим и бездомным принцем вы говорите? Какая опасность могла в нем таиться? Извольте объясниться.
– Ваше величество, царь Борис рассчитывает на него как на наследника шведского престола. Трудно отрицать, что отец Густава пользовался большими симпатиями народа, а изданные сочинения по истории и литературе принесли Эрику XIV известность и уважение во всей Европе.
– Какое это имеет отношение к бастарду?
– Густав направляется в Московское государство, заручившись клятвенным обещанием царя, что для начала он станет правителем Финляндии и Ливонии.
– Мечты! Посмотрим, как обернется для него действительность. Ступайте, господин секретарь. Ваши новости оказались не такими уж обязательными, чтобы отрывать меня от моих размышлений.
…Итак, шведские ошибки. Но ведь со строптивым штатгальтером необходимо было как можно скорее свести счеты. Хотя Карл и пытался убедить всех, что стремится любой ценой закончить дело миром.
30 июля 1598 года польское войско во главе со своим королем высадилось в Швеции.
Еще можно было распустить войско. Оставить за герцогом штатгальтерство. Вместо всех «можно» состоялась битва при Стонгебро, закончившаяся страшным поражением короля. Страшным…
25 сентября 1598 года… Зигмунт дал обещание править в точном соответствии с присягой. Через четыре месяца собрать рейхстаг и – бежал из Швеции. Тайно. Позорно. Не оглянувшись на такую дорогую ему страну. Герцог Карл и тут не стал терять времени. Созванный им в Иенчепинге сейм назначил королю четырехмесячный срок для возвращения. По прошествии четырех месяцев подданные освобождались от данной королю присяги.
Всего четыре месяца… Конечно, они не решались. Конечно, медлили. Искали способов для дальнейших переговоров. Казалось, все угрозы останутся втуне. Если бы не герцог. Карл сумел постепенно подготовить и дворян, и народ. В июле 1599-го торжественное низложение состоялось. Больше незачем было приезжать в Швецию. Зигмунта здесь не звали и не ждали.
У герцога Карла была своя политика. Он искал оборонительного и наступательного союза с Московским государством. Догадывались ли московские правители, что Карл намеревался не только расширить владения Швеции, но и остановить московитов в их постоянном стремлении на север? Может быть.
Управлявший внешними делами Московского государства при Федоре Иоанновиче, а теперь и совершенно самостоятельно царь Борис уклонялся от подобного союза. С появлением принца Густава становилось понятным, что если Лифляндия и Финляндия окажутся под его управлением, наступление Москвы станет осуществляться с невиданной быстротой.
Что ж, герцог Карл вполне мог предпочесть принца Густава польскому королю. Пусть герцог еще не получил титула короля, пусть пока он всего лишь правящий наследный принц государства. Зигмунт не сомневался – это всего лишь очередная уловка. Скипетра и державы Карл IX Шведский, – а именно так ему предстояло именоваться впредь, – из рук не выпустит.
В том же году царь и великий князь Борис Федорович замыслил делать Святая святых в Большом городе, Кремле, на площади, за Иваном Великим. И камень, и известь, и сваи – все было готово, и образец был сделан деревянный по подлиннику, как составляется Святая святых.
«Пискаревский летописец». 1599
Он хотел его (храм Всех Святых) устроить в своем царстве, так же как в Иерусалиме, подражая во всем самому Соломону, чем явно унижал храм Успения Божией Матери (Успенский собор Кремля) – древнее создание святого Петра.
«Временник Ивана Тимофеева». 1599
В том же году поставлен другой земский двор за Неглинною, близ Успенского вражка, у моста, против старого государева двора. В том же году сделано Лобное место каменное, резное; двери – решетки железные.
«Пискаревский летописец». 1599
– Ясновельможная паненка позволит помочь ей сойти с коня?
– Ах, это ты, шляхтич. Мой конюший должен быть здесь…
– Не иначе замешкался. В такую вихуру немудрено потеряться даже на княжеском дворе. К тому же он так просторен.
– Я не знаю…
– Моя помощь не оскорбит чести ясновельможной паненки – княжне легко в этом убедиться, спросив собственного дядю.
– Нет, нет, я не о том! Благодарю, шляхтич.
– Ясновельможная паненка не иначе устала от долгого пребывания в седле – столько часов.
– О, я могу оставаться на коне целыми днями. Просто – просто я не люблю охоты.
– Княжна не любит охоты? Но разве есть более достойное развлечение для высокородной шляхты?
– Все так считают, но я – я не люблю, когда за обреченным зверем охотится такая громада вооруженных людей, да еще с собаками. И потом раненые животные…
– Их, конечно, следует добивать. Один удар ножа…
– Не надо, шляхтич, не надо!
– Прошу прощения у ясновельможной паненки, но в краях, откуда я родом, к этому привыкают с пеленок.
– Я до сих пор не знаю твоего имени, шляхтич, тем более откуда ты приехал в наши края. Ты ведь не здешний?
– Нет, конечно. Я вырос в литовских землях. А имя – ясновельможная паненка наверняка знает, что не всегда можно пользоваться тем именем, которое принадлежит человеку по рождению.
– Да, знаю, если к этому вынуждают серьезные обстоятельства.
– Вот именно, ясновельможная паненка. Я столкнулся в своей жизни с наисерьезнейшими. К тому же оказался один.
– Твои родители умерли, шляхтич?
– Отец давно, и это его кончина обрекла меня на скитания.
– Ты говоришь, отец. А твоя родительница – она с тобой?
– Тоже нет. И тоже давно. Она томится в монастыре.
– О, Боже! Как это должно быть горько для тебя, шляхтич…
– Гжегож, ясновельможная паненка.
– Ты не называешь своего рода, пан Гжегож?
– Я не могу его назвать, если не хочу еще расстаться с жизнью. Слишком многим моя смерть принесла бы истинную радость.
– Не говори так, не говори, пан! Ничья смерть не должна приносить радость, если человек христианин.
– Тебя осеняет своими белоснежными крыльями ангел, княжна Беата, и скрывает от тебя истинное лицо света. Разве мало крови проливал народ ради торжества христианской веры! Цену собственных поступков можно до конца познать только на Страшном суде. А в земной юдоли мы все и постоянно преступаем Господни заповеди. Это часть нашего существования. Не лучшая, само собой разумеется, но непременная. Это Вседержителю дано судить, что совершал человек злонамеренно, а что по неведению.
– Ты думаешь, по неведению – это меньший грех?
– Для Спасителя важны побуждения наши, а не обстоятельства, которые движут слабостями человеческими.
– Ты учился философии, пан Гжегож?
– Можно сказать и так.
– И кем же решил стать? Твоя образованность должна тебе помочь, и думаю, дядя сумеет ее оценить в полной мере.
– Мое будущее слишком туманно. И для него образованность, о которой ты говоришь, княжна, в одинаковой мере нужна и не нужна. Мою судьбу может решить один Господь Бог. Один он, если на то будет его произволение, определит мое будущее. Оно может стать великим. Или остаться ничтожным. Как сегодня.
– Ты говоришь загадками, пан, но я не хочу нарушать твою тайну своими вопросами. Я… я буду молиться за тебя.
– Ты? Ты, ясновельможная паненка? За меня? Даже ничего не зная? Чем мог я заслужить такое счастье?
– Разве богатство и знатность одни делают человека великим? А наши мученики, праведники, просто ученые, проповедники веры, истинные христиане?
– Ты отнесла меня к ним, княжна Беата? Пусть же твоя ошибка станет для бедного изгнанника добрым предзнаменованием. Ты первый и единственный добрый гений, посланный мне на жизненном пути. Я всю жизнь буду просить у Вседержителя добра и благословения для тебя. А теперь прости ради Христа. Вот и твой запоздавший конюший. Бери коня, Яцек, как бы он не простыл. Смотри, какой ветер.
– Пан Гжегож!
– А, доктор! Ты-то что здесь?
– Ты долго говорил с княжной Беатой. Все обратили внимание.
– И что из того?
– Ясновельможная княгиня может быть недовольна.
– Кажется, я не слуга ее и никогда им не стану. Меня не интересуют ее капризы.
– Но они могут сказаться на бедной княжне. Что ты говорил ей? Не сказал ли лишнего? Не открылся ли? Имей в виду, еще не время, совсем не время. Пустым хвастовством ты можешь разрушить все наши планы.
– Это мои планы, лекарь, мои! Да, ты рядом со мной, и я это очень ценю. Жизнь докажет, что я умею быть благодарным и щедрым, но что касается моих частных разговоров…
– Ты не должен упускать из виду, царевич, они всегда опасны. Я не вправе тебя учить, только советовать – остерегайся. Остерегайся на каждом шагу, особенно с женщинами. Они умеют жертвовать собой с одинаковой страстью, чтобы помочь тебе или – погубить тебя.
В том же году в Москве слит колокол большой, такого веса колокола и не бывало; и поставлен на деревянной колокольне, из-за тяжести…
В том же году расписан чудно храм каменный большой соборный о пяти главах в дому у Пречистой Богородицы в Новом девичьем монастыре; и образы чудотворные обложены дорогим окладом, с каменьями…
В том же году сделаны зубцы каменные по рву, вокруг Кремля-города, где львы сидели, и от Москвы-реки до Неглименных ворот; да у Москвы-реки от Свибловой башни во весь город по берегу сделаны зубцы же каменные и до мельницы до Неглименской…
В том же году взяты из Пскова в Москву из богадельни три старицы-мирянки устраивать богадельни по псковскому благочинию. И поставлены в Москве три богадельни: у Моисея Пророка на Тверской улице богадельня, а в ней были нищие миряне; да богадельня напротив Пушечного двора, а в ней инокини; да богадельня на Кулишках, а в ней нищие, женский пол…
В том же году царь и великий князь Борис Федорович замыслил великое – неизреченную, душевную глубину богатую: Господень гроб злат, весь кован, и ангелы великие литые по писанному: «Единого у главы, а единого у ног», и евангелие златое, и сосуды златые, и крест злат, и всю службу церковную… с камением драгоценным и с жемчугом, которым цены нет.
«Постниковский летописец». 1600
– Ваше королевское высочество!
– Опять ты, отец Алоизий, с этим нелепым титулом!
– Что значит нелепым, принц, он принадлежит вам порождению.
– Что значит рождение без состояния! Сам знаешь, вся Европа зовет меня принцем-бродягой.
– Это не ваша вина, мой принц. Все дело в обстоятельствах, которые готовы с минуты на минуту перемениться.
– И ты в это веришь!
– Я верю прежде всего действительности и уповаю на Божье произволение. Верю, оно будет к вам многомилостивым.
– С чего бы? Ты знаешь нищету, в которой мне пришлось расти.
– Нищету относительно богатств королевского замка.
– Положим. Но ведь мне не раз приходилось ложиться спать на голодный желудок. Невыученный текст или непрочитанная до конца страница были достаточным основанием для отцов твоего Ордена оставлять меня без куска хлеба на ужин.
– Ваше высочество, педагогика имеет свои методы, и таков метод, принятый в нашем Ордене. Каждый из нас испытал его на себе.
– Знаю, знаю: путь к выносливости, стойкости и еще там чему-то. Но дитя есть дитя. И я слишком хорошо помню каждый несъеденный кусок.
– Вам не прибавит сил подобная мелочность.
– По всей вероятности, ты прав.
– И еще я хочу вам напомнить, мой принц, столь строгие правила воспитания дали вам в результате поистине блистательное образование. Вы заслужили имя «Второго Парацельса» по своим опытам в химии. Вы одинаково легко изъясняетесь на польском, немецком, итальянском, латинском языках. И братья иезуиты сообщили вам великолепное знание столь нелегкого для иноземцев русского языка. Московиты свидетельствуют, что у вас даже правильное произношение, так что вы сможете без труда общаться с вашим будущим тестем и с супругой.
– Поистине, приобрести столько знаний для того, чтобы забиться в медвежий угол этой Московии. Если бы ты знал, как мне надоели польские и литовские земли, а эти еще более глухие для образованности. Мой Бог, мне дурно становится от одной мысли связать себя с этой московиткой, к тому же наверняка фанатичкой ортодоксальной церкви, в которой я решительно ничего не смыслю.
– Мой принц, все уверяют, что царевна Ксения удивительно хороша собой, как, впрочем, и ее отец. Она начитана. Играет на арфе. И умеет поддерживать беседу в любом обществе. Царь Борис, еще будучи придворным, очень много стараний и средств положил на ее воспитание.
– А сам, как мне сказали, не научился ни читать, ни писать!
– Одно другому не мешает. И главное, царевна Ксения хочет вырваться из отцовского дворца. Она мечтает о замужестве с каким-либо западным претендентом.
– Понимаю, одни добродетели. И именно поэтому мы остановимся на ночлег в ближайшей корчме. По-моему, она маячит перед нами. Мы закажем за счет царя Бориса роскошный, по местным представлениям, ужин и пригласим местных одалисок.
– Ваше величество, это может дойти до царя Бориса.
– И что из того? Ему нужны мои супружеские добродетели или права на шведскую корону?
– Но он любящий отец и Может…
– Что может? Отказаться от меня? А ты не думаешь, что такой оборот дела станет моим чистым выигрышем? Может быть, судьба таким образом убережет меня от глупого решения.
– Ваше высочество, мы уже говорили с вами на эту тему, и не раз. Никогда не поверю, что вам трудно соблюсти всего лишь внешнюю благопристойность до момента венчания, а там вы станете хозяином всех своих поступков. Если только не влюбитесь в свою молодую супругу и не предпочтете былому образу жизни семейные добродетели.
– Ты знаешь, как я дорожу своей свободой.
– И нищенским существованием, недостойным вашего рождения и тем более образа мыслей.
– И главное – я смогу довести до исступления моего драгоценнейшего кузена Зигмунта, который пытается своим тощим задом занять все возможные и невозможные престолы. Кажется, он не замахивался только на московский.
– Замахивался или нет, но у него ничего не вышло.
– Пан Гжегож! Я узнала, что через полчаса дядя дает тебе прощальную аудиенцию здесь, в библиотеке. Ты едешь в Москву – это правда? Так далеко, в такой неспокойный край!
– Ясновельможная паненка, второй раз Господь посылает мне тебя как светлого ангела, провозвестника добрых надежд. Я не надеялся увидеть тебя. Мне некому было заикнуться о таком. А в Церкви ты не была уже две недели. Как я помню каждый день без тебя! Неужели ты болела? Но об этом во дворце не было разговоров!
– Нет, я не болела. Княгиня-тетушка, пока князя не было в Остроге, велела мне сидеть в моей комнате и чуть не каждый день выслушивать проповеди ее исповедника. Она не теряет надежды обратить меня в свою веру.
– С помощью этого униатского попа?
– Да, отца Теофила.
– И чего он добивался от тебя?
– Признания правоты его догматов.
– И это была цена твоего освобождения? Только и всего?
– Но я никогда не соглашусь нарушить верность нашей церкви. Ведь ты же исповедуешь православие, пан Гжегож, не правда ли?
– Да, конечно. Но главное для человека – свобода.
– Даже ценой измены вере? Ты не можешь так думать!
– Ты не поняла меня, ясновельможная паненка. В душе человек должен сохранять верность своей церкви, а на словах… Ведь что такое слова? Они как шелест сухих листьев, которые уносит ветер. Минута, другая, и от них не остается и следа.
– Но разве человек не остается один на один со своей совестью? Разве совесть не мучает его? Не лишает сна и покоя?
– Все зависит, княжна, от цели.
– Я знаю, – иезуиты утверждают, что цель оправдывает средства.
– И они правы. К тому же иезуиты об этом сказали вслух, а на деле так поступали и будут поступать все люди. Такова их натура.
– Ты знаком с иезуитами, пан Гжегож? Учился у них?
– Да, знаком и многим обязан им в своем образовании.
– Но о чем это я! Время летит, а ты уезжаешь. Я слышала, ты знаешь русский язык, читаешь и даже пишешь на нем.
– Что ж в этом удивительного – человек способен знать много языков.
– Но русский ты узнал не от иезуитов.
– Ты права, ясновельможная паненка. Я знал его с самого раннего детства. Люблю им пользоваться и сейчас.
– Ты родом из тех мест? Я права?
– Есть вопросы, на которые пока я не могу дать тебе ответа, а лгать тебе, княжна, не стану никогда. Это стало бы для меня слишком плохим предзнаменованием. Но, кажется, сюда идут. Шаги… Прости, княжна, тебе лучше уйти. Господь с тобой, Беата.
Дверь на лестницу не скрипнула – чуть-чуть холодком пахнула. Петли в Острожском замке маслом всегда смазаны, вроде и нет их вовсе. Люди в мягкой обуви как тени скользят. Беречься надо, ох как беречься. Слава тебе, Боже, не князь Константы – отец Пимен. Остановился на пороге. Взглядом словно всю библиотеку прошил, все уголки приметил, на закрывшейся двери задержался.
– Никак племянница князева здесь была?
– Была. Только не договаривался я с ней, отче. Допреж меня сюда пришла.
– А ты прежде меня, сын мой. Смотри, Григорий, о твоих же интересах пекусь: не играй с огнем, ни Боже мой, не играй. Отступится от тебя князь Острожский и что тогда? Больше родных сыновей племянненку любит, а ты…
– Что я? Чем же это я честь ясновельможной паненки унизить могу? Это я-то!
– А чем возвысить можешь? Не время еще, Григорий, не время! О чести заговорил, так ведь коли своего достигнешь, нешто пара такая паненка тебе? Тогда уж о крови знатной толковать будешь, выбирать, что державе твоей на пользу, а не сердцу. Сердце венценосцу ни к чему – груз один ненужный. Ни тебе жить с ним, ни рассчитать толком дел своих. Да и чем тебе Беата по сердцу пришлась? Что тебя среди других отличила? Что сирота к сироте льнет? Ничего, Григорий за душой у нее нет. Разве что дядя захочет судьбы высокой. Так тут на пути ему супруга встанет – с ней не больно поспоришь. Лишним умом Господь Бог здешнюю княгиню не обарчил – не утрудил. Шум один пойдет. Да и князь Константы пока мыслей никаких на будущее не высказывал. Осторожничает. И то сказать, минуту подходящую надо обождать. Помнишь, рассказывал тебе, как на поле Куликовом Боброк Волынский с засадным полком до конца крылся, в битву не вступал. Уж, кажется, всех татары окаянные посекли, всех в ряд на сырой земле уложили, а он все терпел, еле-еле воинов своих удерживал. Зато как потом ударил, разметал нечестивцев – следа от них не оставил. Вот и суди задним числом, кто истинной победе виновник – те ли, кто до последнего бились, те ли, что переждали и вовремя вступились. Князь Константы из таких.
– Без тебя, отец, соображу.
– А ты не гневайся. Ум хорошо, два лучше. Чай, во зло тебе ничего не посоветую.
– Час наступит, может, и посоветуешь.
– Вон ты как! Ладно, Григорий. Только покуда такого часа не увидишь, послушайся добрых советов.
– Вот ты как судишь, отче, а я иначе. Чем плохо, что ясновельможная паненка за меня, грешного, перед дядей предстоять будет? Не то что по расчету, а по сердцу. Глядишь, и до него быстрее дойдет, в чем смилостивится, в чем поддержит. Не так разве?
– Слов-то ты ей никаких не давал? Обещаний?
– Полно тебе, отче, и речи такой не вел. Разве что намекнул о роде своем высоком, и то не сказал, каком.
– Всегда знал, ума тебе, Григорий, не занимать. На том и дальше стой. Любовь да ласку царевичеву дорого ценить надобно, да и врагов бы лишних не нажить. Сколько их и так у тебя!
– Торопишься, торопишься ты, Борис Федорович, с дочкой единственной расстаться, голубку нашу из гнезда родимого отпустить.
– Тороплюсь, государыня моя Марья Григорьевна. От тебя скрываться не стану.
– Ведь, кажись, едва на престол успел вступить, а только у тебя и заботы Ксеньюшку сосватать.
– Марьюшка, не тебе такое говорить, не мне тебя слушать. Болен же я, сама видишь, изо всех сил перемогаюсь. Мне не только дочку устроить, дом наш весь царский укрепить. С зятем-то куда способнее и за вас всех спокойней.
– Чужой человек. Неизвестный. Как такому верить.
– А ему верить и не надобно, Марьюшка. Какая во дворцах вера! Расчет один. Вот на него и полагаться можно.
– Весь свой век твой принц Густав Ирикович по Европам шлялся. Где день, где ночь проведет, не знал, а тут печальником нашим заделается.
– Не он важен нам, Марьюшка. Имя принцево, и права его нерушимые. Вот когда они в государстве Московском окажутся, мы ими по своему усмотрению и распорядимся.
– В Москве принца оставишь?
– Ни Боже мой, государыня моя. Ему на первых порах в удел Калугу отпущу. А там с Божьей помощью подсоберемся с войском и на северные земли двинемся. За Финляндией да Ливонией, глядишь, наша Ксенья Федоровна королевой шведской станет. Род наш по всем землям утверждаться станет.
– Баловать гостя хочешь. Слыхала, приготовления какие чинишь, к пирам каким готовишься, Борис Федорович.
– Как же не баловать! Надо, чтобы понял Густав Ирикович, какие богатства-то перед ним несметные, жизнь какая необыкновенная. После бродяжничества – «тулачки»-то его многолетней она еще желанней покажется.
– А того мало, что в зятья его берешь, Борис Федорович? Неужто бродяге мало?
– Так ведь не в одной свадьбе дело, Марьюшка. Веру, веру принцу сменить надо, а они на веру, знаешь сама, какие стойкие, неколебимые.
– Все монахи их треклятые. Не пускать бы их, и весь сказ.
– Хорошо бы. Да иезуитам какие препоны поставишь. Уж до того ловки, в каждую щель протиснуться. Без мыла в душу влезут, да там и захоронятся.
– Вот думаю я, государь мой, частенько думаю, куда бы лучше было, кабы царевич Дмитрий Иванович…
– Что царевич? Опять царевич?
– Да нет, нет, государь, о другом я – не о вестях прелестных. Ничего нового не слыхала, никто ни о чем не толкует. Я просто – кабы тогда, еще при государе Федоре Иоанновиче, просватать царевича и Ксюшу нашу… Нешто не получилось бы у тебя?
– О прошлом, Марья Григорьевна, толковать нечего. Было да сплыло и быльем поросло. О том, государыня моя, забыть изволила, что царица Марья Нагая нипочем бы не согласилась. Лютой ненавистью Годуновых ненавидела.
– Так это уж потом. А из-за кого во дворец-то попала?
– Неблагодарная она. Злобная. После кончины государевой себя уже на престоле увидела. Все одежи царские, поди, во снах на себя перемерила. Прости, Господи, грех мой великий, только на мой разум не столько о сыне она плакала-убивалась, сколько о себе самой беспокоилась. Речей ты ее не слыхивала, воплей неразумных, бессовестных.
– Так мать ведь…
– Вот потому и постричь ее пришлось за материнскую вину – что за сыном не углядела. От смерти лютой не уберегла.
Лето летом, работы полевые в разгаре самом. Приглядывать бы за ними, за управляющими-ворами, а тут кипит Самбор. Котлом кипит. Конюшие еле успевают на гостинце коней новоприезжих принимать. Гости один за другим в ворота въезжают, едва с хозяином потолковав, в обратный путь пускаются. Две дороги им известны – на Львов и Краков. К Тарловым, воеводам Львовским, и к магнатам, что при дворе жить продолжают.
Адам Вишневецкий еле с коня сошел, хозяину кричит:
– Слыхал, ясновельможный воевода, не вышло ничего у Годунова дочь за принца шведского выдать!
– В чем неудовольствие? Ведь пиры, говорили, за пирами задает. Из столовой палаты неделями с гостем дорогим не выходит, даром что сам шагу без помощи ступить не может.
– Гонец примчался – недоразумение у будущего тестя с будущим зятем вышло. Принц Густав с собой девку свою привез. Для развлечений. В отдельной карете.
– Шутишь, пан Адам! Жених-то?
– Борис крепился, крепился, а там и высказал неудовольствие свое, мол, не годится так, мол, девку обратно выслать надобно.
– Еще бы! Обнаглел бродяга, ничего не скажешь.
– А принц, будто бы и не смутившись, отвечал, что покуда жены законной не имеет, то и распоряжаться в своем доме никому не позволит. Тут оно дело-то какое: обещал ему Годунов Калугу на первых порах, а договора не подписывает. Недовольства шляхты да народа боится.
– Бесстрашный какой. За душой ни гроша, а тоже…
– Хоть и ни гроша, а все равно королевский сын. Годунов кто перед ним? Только и Годунов не сдержался. Сколько застолью ни длиться, а к концу его приводить надо. Прямо от принца потребовал православие принять, в ихнюю, византийскую, веру креститься.
– Как условие?
– Первое и окончательное.
– И принц Густав?
– Наотрез отказался! Годунов его и просил, и уговаривал, чуть что ни на колени перед принцем становился – ни в какую. Передают, так и сказал: мол, торг у нас должен быть честный. Ты, государь, мне войска даешь земли обещанные воевать, я тебе даю возможность правами моими на престол шведский пользоваться. Кабы не такой уговор, на что мне твоя царевна.
– Так и сказал?
– Именно так. Все слышали. Алебардщики чуть алебарды не поразроняли – за столом-то боярства, духовенства, шляхты полным полно. Годунов, сказывают, вспыхнул, как бурак стал, да и крикнул: «В тюрьму его самую темную, под стражу самую крепкую».
– Наврал твой гонец, пан Адам. Не может такого быть! Иноземного гостя? Едва не зятя нареченного? Такого скандала отроду в царских и королевских дворах не бывало!
– Считай, ясновельможный воевода, что уже было. Сидит принц Густав в темнице и ждет приговора.
– Что ж, вышлет его Годунов, опять бродяжничать да побираться начнет.
– Похоже, что не начнет.
– Это почему же? Кто помешает нищенствовать?
– Да вот Годунов распорядился принца Густава из Московии не отпускать, государственным преступником считать, а из тюрьмы на новый удел перевести. Пусть живет под присмотром – своего часа дожидается. Так никакими своими правами воспользоваться принц больше не сможет. А удел-то, ясновельможный воевода, какой!
– Какой же?
– Углич! И поселить велел Годунов своего бывшего гостя, теперь узника, в том самом дворце, где царевич Дмитрий жил, за теми же закрытыми воротами, под еще большей, чем у царевича Дмитрия, стражей. Чтобы в случае чего помнил, как оно кончиться в случае неповиновения может.
– Господи!
Лета 7108 (1600) царь и великий князь велел прибавить у церкви Ивана Великого высоты 12 сажен и верх позлатить, и имя свое царское велел написать.
«Пискаревский летописец». 1600
Изволением Святые Троицы повелением великого господаря царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси самодержца и сына его благоверного великого господаря царевича князя Федора Борисовича всея Руси сии храм совершен и позлащен во второе лето господарства их, 7108 (1600).
Посвятительная надпись на куполе колокольни Ивана Великого в московском Кремле
С 1600 года, когда разнеслась молва о Дмитрии Иоанновиче, Борис занимался ежедневно только истязаниями и пытками; раб, клеветавший на своего господина в надежде сделаться свободным, получал от царя награждение, а господина его, или главного из служителей дома, подвергали пытке, дабы исторгнуть признание в том, чего они никогда не делали, не слыхали и не видали.
Яков Маржерет. «Записки очевидца Смутного времени»
– Пора тебе и в путь отправляться, ясновельможный пан, так или иначе дело с московитами к завершению приводить.
– Знаю, канцлер, и много скорблю последние дни о том, как рано ушел от нас король Стефан Баторий. Рука у него на московитов была, и еще какая рука.
– А к власти трудно приходил. Куда как трудно.
– Все наша шляхта. Два года – страшно подумать – бескоролевье длилось. Как только Бог Край наш миловал. Уж каких только кандидатов на престол не придумывали. Без малого все страны европейские в круговерть свою втянули. Все не перечислишь.
– Ну уж, не перечислишь. Расчет-то понятен был. Австрийский эрцгерцог Эрнст, Иоанн. Шведский – король как никак! – Грозный Иван.
– А Пясты?
– Что Пясты? Много их было, верно. Но когда шляхта собралась под Варшавой на прямые выборы, кто победил?
– Французский принц. Да это примаса Уханского заслуга – он всех на Генрихе Валуа замирил. Принц и «Пакт конвента» подписал, и «Генриховские артикулы».
– И сколько в Краю продержался? Всего ничего. Не по нутру ему наша шляхта пришлась. Как братец его король Карл IX скончался, как ошпаренный в Париж помчался.
– Отсрочки просил, чтобы в тех выборах участие принять.
– Просил и получил, а в назначенный срок в Варшаву не вернулся. Новое бескоролевье у нас началось. Новая смута, только что кандидатов меньше оказалось.
– Зато в шляхте разброд великий пошел. Сенаторы императора Максимилиана выбрали, а шляхта мужа для последней Ягеллонки. Думается, ни в одной державе такого не встречалось, чтобы титуловать даму – «король Анна».








