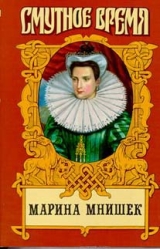
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Доктора Симона Вдоха как на грех не оказалось – в Краков уехал. Свой лекарь навары всякие стал делать. Травами поить. Не помогает. В покой больного хорошую просторную постель внесли. Перины да подушки едва не под потолок взбили.
Дверь в покой плотно прикрыта. Чтоб не дай Бог сквозняком не потянуло. Белье больному по сколько раз на дню менять стали. Челядь с ног сбилась. Вишневецкий утром и ввечеру сам заходить начал: забеспокоился.
Наконец день пришел, попросил пан Гжегож исповедника. Монах-иезуит все время под рукой был. Прошел к больному. Часа два не выходил. А как вышел – к князю заторопился. Ни на один вопрос о хвором отвечать не стал.
Князь от нетерпения навстречу привстал: что, святой отец? Что?
Монах на ладони крест-мощевик нательный протягивает и камень драгоценный, изумруд больше лесного ореха. Вот, мол, хворый последнее, что от дому родительского осталось, просил на погребение достойное его потратить. А крест-мощевик переслать бы в монастырь русский – название на бумажке написано – инокине Марфе передать. Чтобы знала, нет больше ее сына. Помолилась бы.
Князь смотреть не стал: неужто не выживет, святой отец? Неужто средства нет? Монах головой качает: есть средство. Последнее. Если мощевик на алтарь церковный положить и над ним службу отслужить. Захочет Господь, услышит молитвы наши. Нет, так и врачам уже делать нечего.
Вскинулся князь: так чего же ждем? Скорее, святой отец, скорее! Только вот незадача – церкви православной у нас здесь нет, а в костеле силы у молитвы не будет.
Монах головой покачал: един Христос в церквах наших. К нему одному и моление наше. А если будет на то его святая воля, то…
Вишневецкому невтерпеж: что у тебя в мыслях, святой отец? – А то, что если облегчение наступит после нашей службы, тем легче будет пану Гжегожу в лоно истинной папской церкви перейти.
Полегчало! Да как полегчало хворому. После богослужения через несколько часов без посторонней помощи в постели приподнялся. Слаб-слаб, а даже улыбнуться попытался. Улыбка кривая вышла, будто вот-вот заплачет.
Вся челядь набежала на чудо поглядеть. Думали – не жилец, а на поди, как оно случается. Кухарчик еду принес – съел несколько кусков. Поблагодарил. Вежливо так.
На другой день в замке шум. Мнишки с младшими детьми приехали. Топот по переходам. К больному ворвались – разрешения не спросили. Братишки Маринины на постель уселись, лакомства из карманов суют. Толкуют о чем-то. Друг друга перебивают.
Ясновельможная паненка в дверях застыла. Внимательно смотрит. Ни стеснения, ни улыбки. «Пойдешь с нами колядовать, пан Гжегож?»
Присмотрелся: повзрослела ясновельможная паненка. А может, всегда взрослее своих лет смотрелась. Внимания не обращал – все равно ребенок. Сегодня нет. Сегодня от взрослой не отличишь.
«Я вот тут наряды принесла». – Тряпки какие-то в руках держит. – «Корону». – И впрямь корона жестяная. Может, венчальная из костела деревенского. Помята немного. – «Царем Иродом будешь. А мы вокруг тебя хоровод водить будем. Согласен?»
Не просит – приказывает. Надо же! «Не согласен». Удивилась: как это? Ей отказывать? Вроде ушам своим не поверила. «Не согласен Иродом, – повторил. – Ясновельможная паненка сказала – не подумала. Невместно мне. Подумаешь, сама поймешь».
Посмотрела пристально: «А почему тебя Гжегожем зовут? Разве твое это имя?» – «Надо было, потому и Гжегож». – «А почему надо?»
В глазах ни доброты, ни любопытства. «А если я тебя паном Димитром звать буду?» Ответа не получила, снова с вопросом: «А если вашим высочеством царевичем Димитром?» Ближе подошла: «Высочеством – можно?»
«Зачем это ясновельможной паненке?» – Удивилась: «Как зачем? Мне отец еще когда обещал…» Запнулась.
«Что же обещал пан воевода ясновельможной паненке? Боится паненка сказать?» – «Ничего не боюсь, только пока незачем». – «Значит, страх ясновельможную паненку облетел».
«Да нет же! – с досады ножкой в крохотном алом сапожке на тоненьком каблучке притопнула. – Да нет же, ничего не боюсь. Только знать наверняка хочу». – «Что же знать?» – «Можно ли тебя Димитром звать? Твое ли это имя? В крещении святом?» – «Устал я, пусть извинит меня ясновельможная паненка. Нездоров. Очень».
Вскочила и в дверь. Оглянулась – на щеках что твои розы расцвели: «Правда мне нужна! Правда!» – «А она всем, ясновельможная паненка, нужна. И не нужна. Трудно с ней– с правдой».
«Так что же выходит, люди ради легкости лгут?» – «Верно. Чтобы легче жить. Чтобы жизнь спасти. Правда чаще убивает, чем пуля, чем стрела из арбалета. Правды, знаешь, как стерегутся. А тебе она вдруг понадобилась».
Снова ближе подошла: «Всю жизнь за жизнь опасаться? Да стоит ли она того, жизнь-то?» – «Может, и не стоит, да так Господь наш Великий и Милосердный решил».
Головку наклонила. Пальчиками пышные юбки прихватила. В глубоком поклоне чуть не до земли присела: «Выздоравливайте, ваше высочество. С вашего позволения, завтра снова навещу вас. И благодарю царевича Димитра за милостивую беседу».
Братишки так и замерли – ничего не уразумели. Это наша Марыня колядовать собралась? За ней не угнаться: то смеется, то сердится, а то и заплачет. Ясновельможная наша матушка говорит, устает от Марыни за пять минут. Голова от нее болеть начинает.
Голова – это верно. И все же: чем не королева?
Место… Место бы себе найти… Попритульнее. От глаз всевидящих да ушей всеслышащих подале. Что боярыни верховые, что девки под ногами путаются, услужить тщатся, в глаза глядят. А на деле – ложь одна. Лукавство проклятое. Слабины ищут. Огорчения. На то и терем царский, чтоб все людское из человека каленым железом выжечь. Уж не богатства, не деньги – власть! Власть одна всем разум мутит, на что хошь толкает.
Царица! Это в глаза только – государыня Мария Григорьевна. А за спиной? Иной раз дверь не успеют притворить, уже шипят. Не слышишь – нутром чуешь: ненавидят. Как ненавидят. Нипочем не забудут – Малюты Скуратова дочь. Малюты – палача да душегуба. Иначе николи батюшку не называли. А сами? Сами-то что? Лучше были?
Батюшка великому государю верой и правдой служил. Верно говорил: не он, Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский-Малюта, другой бы сыскался. Царский суд – Божий суд: как сказано, так и свершится. Государь-то – наместник Божий!
Божий… А у них с государем Борисом Федоровичем – тоже Божий? Что ж тогда все наперекос идет, дня легкого не выдастся? Ну, не Рюрикович Борис Федорович, не из их роду, так разве не менялись на престоле семьи? Повсюду менялися. Ведь на перемену тоже произволение Господне надобно. Не заслужил его Борис Федорович, что ли? Мало трудился? Умом да храбростью обижен?
От татарского мурзы Чета Годуновы пошли, что при великом князе Иване Даниловиче в русскую службу вступил да как еще обласкан был, с какой честью принят. Он же Ипатьевский Костромской монастырь заложил, великую святыню. Оно верно, что потомки на две линии разделилися: старшие Сабуровыми стали зваться, младшие – Годуновыми. Состояния большого не имели, так в опричнину и пошли – не первые, не единственные. Все к государю ближе.
А государь Иван Васильевич тут же на Бориса Федоровича глаз положил. В Серпуховском походе оруженосцем своим сделал. И то сказать, хорош молодец был! Куда как хорош! Всем взял – и ростом, и в плечах косая сажень, кудри черные копной, взгляд орлиный, а уж голос – какой певчий не позавидует: трубный, а бархатный. Говорит, будто песню поет – заслушаешься. Оттого царь Иван Васильевич дружкой его на свадьбе своей с Марфой Собакиной сделал: люди бы полюбовалися.
Не задалася свадебка – на все воля Божия. Две недели новобрачная пожила, в горячке горела, а там и долго жить приказала. Известно, грудная болезнь не милует. Батюшка сказывал, вся родня о том знала: царица Марфа и Годуновым, и Сабуровым, и нам не чужой была. Да все надежду имели, авось маленько поживет с государем, а уж следующий раз ему под венец не идти: правила церковные не позволят. Того в расчет не взяли, что государь Иван Васильевич никакому чину не подвластен был. Рассуждение имел: грехом меньше, грехом больше – лишь бы перед кончиной покаяться успеть.
В те поры батюшка второпях и меня за Бориса Федоровича отдал, согласия, известно, не спрашивал. Жениха на сговоре, да и то мельком, увидала. О другом тогда думалось: сестрица-то за царского братца выдана была, за князя Ивана Глинского, а мне кто достался? Пожалиться некому было. Батюшка сам обиду мою девичью уразумел, посмеялся: коли все по нашей мысли пойдет, высоко, дочка, подымешься. Кабы знал, что на трон царский!
Батюшки-то, двух лет не прошло, не стало. В честном бою полег – крепость такую, Пайду, брал. В домовине родимого привезли, у приходской нашей церкви схоронили. Теперь-то чего таиться – туго бы Борису Федоровичу пришлось. Спасибо, дядюшка его родной по-прежнему должность постельничего правил, приказом постельничим ведал. Государю без его ведома и шагу не ступить: он и за одежу всю царскую в ответе, и за мастерские дворцовые – коли что Ивану Васильевичу запонадобится, и певчими распоряжался, всю прислугу дворцовую да истопников доглядывал. Его служба – на ночь глядя, все дворцовые караулы обойти внутренние, а там и ко сну улечься с царем в одном покое вместе.
Племянников не забывал, ни Боже мой. Борису Федоровичу должность кравчего спроворил. А как государь Иван Васильевич почал царевичу Федору Иоанновичу невесту искать, сношеньку Ирину Федоровну сосватал. Плакала тогда, ох и плакала, а словечка супротив не молвила. Нешто можно! Слаб ли царевич головкой, али телом, все едино царская кровь. Борис Федорович тогда боярином стал – плохо ли!
Да и с землицей ладно все получалося. Дядюшка Борису Федоровичу строго-настрого заказал государя челобитьем беспокоить. И без его царского величества, мол, обойдемся. Как еще обходились! Вся родня годуновская о бесчестье тягалась с самыми что ни на есть именитыми семействами. А за бесчестье, известно, коли тебе правду признают, вотчинами расплачивались. Дядюшка Бориса Федоровича боярина Умнова-Колычева поборол, нам вотчина Тулуповых досталась.
Бояре тоже не дремали. Люто против Годуновых свирепели, государю в ноги челобитной поклонилися: мол, бесплодна Ирина Годунова, развести с ней царевича надобно. Ее в монастырь, ему – новую супругу.
Государь, не тем будь помянут, с ними со всеми, как кот с мышью, тешился. Вроде бояр обнадежит, и Бориса Федоровича сна лишит. В чем вина сношеньки-то была? Каждый понимал: кровь с молоком, красавица – другую такую поискать, а вот царевич… Господи прости, ни к какому делу не гож. Спасибо, за Ирину Федоровну, как дитя малое за мамкин подол, держался. Иных подчас узнать не мог, ее одну среди всех распознавал. Оторвать от супруги не могли. Государь и с ним говорить собрался, да рукой махнул: кричит царевич, слезами того гляди захлебнется, ножками топает, кулаками машет. Слова вымолвить толком не может – все криком. Пузыри пускает, того гляди об землю ударится. Какого уж тут наследничка ждать!
Никому-то Федор Иоаннович не нужен был. А как государь смертно зашиб старшего царевича Иоанна Иоанновича, выхода не осталося. Пришлось Ивану Васильевичу наследником Федора объявлять. Сказывал Борис Федорович, злорадствовал больно государь: я вам плох был, теперь со слабоумным поживите, меня добрым словом поминайте! О сынке Марии Нагой и разговору не бывало. Как иначе: седьмая супруга, по молитве взятая – «для утишения плоти», не для супружества христианского.
Оно верно, что по первому завещанию хотел государь Иван Васильевич Марии Нагой в удел Ростов определить, а сынку – Углич да еще три города. Только раздумался: в последнем завещании царицу всяких земель лишил, Димитрию один Углич положил да и то, чтоб опека над ним была, – не иначе. Борис Федорович сколько на то сил положил! Да разве все усмотришь? Опекунами Дмитрия Иоанновича государь назначил дядю его родного, Никиту Романовича Юрьева, князя Ивана Федоровича Мстиславского, князя Ивана Петровича Шуйского да Богдана Яковлевича Бельского. О Годунове ни словечка, будто и не было слуги верного.
Бысть же в земле глад великий, яко и купити не добыть. Такая же бысть беда, что отцы детей своих метаху, а мужие жен своих метаху же, и мроша людие, яко и в прогневание Божие так не мроша, в поветрие моровое. Бысть же глад три годы.
«Новый летописец»
Царь же Борис, видя такое прогневание Божие, повеле мертвых людей погребати в убогих домах и учреди к тому людей, кому те трупы сбирати.
«Новый летописец»
По воле государя назначены были особенные люди, которые подбирали на улицах мертвые тела, обмывали их, завертывали в белое полотно, обували в красные башмаки, вывозили в Божий дом для погребения.
Буссов. «Записки очевидца»
Летит, летит во весь опор по дороге к Пречистой, к Новодевичьей обители возок царский. Только бы успеть! Только бы у умирающей благословиться.
Гонец сказал: кончается великая инокиня Александра. Того гляди дух испустит. Коли государь не поспешит, не застанет сестрицы. Мать-настоятельница велела лошадь не жалеть.
Да с чего бы вдруг? Все это числа проклятые. Опять октябрь. Опять день Дмитрия Солунского. Тот, прошлый, едва пережил. Вспомнить страшно. Царевна Ксенья без памяти свалилась – часа два отхаживал. Доктора надежду терять стали.
Знала, знала горлинка наша: все для нее кончается. Теперь уже навсегда. Отца слушать не стала, как в себя пришла. Рукой махнула: значит, не судьба.
Жениха своего только в гробу и увидала – живым не пришлось. Разве что в щелочку разок глянуть.
Решил не отправлять герцога на родину. По латинскому обычаю разрешил тело набальзамировать, чтобы хранилось веки вечные в московской земле, в специально устроенном в Немецкой слободе склепе.
С известием о кончине в Данию Рейнгольд Дрейер поехал. Долго в пути был – только 7 мая следующего, 1603 года, по латинскому летоисчислению, в Москву вернулся.
Слова сказал обидные. Страшные. Что король Христиан не верит в смерть внезапную. Полагает, принял ее брат от яда. А особенно сестра покойного, нынешняя королева Англии, убивается. Простить не может, что отправили Иоганна на заклание к московитам, что никто еще оттуда добром не вернулся. Никто!
Нет, нет, москвичи ни при чем. Он один всему виною. На него, Бориса, заклятие положено: за что ни возьмется, все в прах рассыпается. А яд… Что ж, его и на дворе герцога любой подсыпать мог. Из ненавистников семейства Годуновых. Чтобы не окрепла их держава, не укрепился корень. Это возможно.
Сестра. Арина Федоровна. Не простила. Ничего не простила. Ни власти царской потерянной. Ни пострига насильного. Видеть брата не хотела. Перед племянниками двери кельи закрыла. А уж о царице Марье Григорьевне и говорить нечего. Что батюшку ее Малюту Скуратова, что ее самою никогда не любила. Во всем одну Марьюшку винила.
Когда последний раз виделись – не припомнить. Вроде не так уж и давно. А может… нет, нипочем не вспомнить.
Палаты сестре еще когда велел возвести в Новодевичьей обители. Просторные. Нарядные. Тогда еще через плечо бросила: над склепом сестриным трудишься, Борис Федорович? Не в поместье, чай, не на вольном воздухе, от Москвы подале, а в обители, для невинных узниц поставленном.
Спорить начал – отмахнулась. «Солжешь, братец. Мне ли тебя не знать: ложью, как паутиной в старом амбаре, всю запутаешь. Каждый из нас свое знает, и на том беседу кончим».
Наконец-то ворота. Тяжелые. Дубовые. На колокольцы привратница выглянула, створки отворять заторопилась. Стрельцы помогать начали.
Возница кнутом хлопает. Кони разбежались – стоять не хотят. Вперед рвутся. Палаты сестрины издалека видать, а доехать непросто: все сугробами завалено. Приходится по тропкам пробираться.
Самому идти – одышка берет. В груди колотье. Боль к горлу подступает. У крыльца настоятельница: «Государь! Великий государь!..» – «Что? Что с сестрицей?» – «В забытьи. Ино раз глазки откроет, а кого узнает, нет ли, не догадаешься». – «Лекари?» – «Поздно, великий государь. Да и не хотела их видеть сестра Александра. Двери перед ними на засов запирала». – «Что ж меня не известили? Я бы…» – «Извещали, великий государь. Не ехал ты за своими государскими делами. Государыня Мария Григорьевна говорила, как только поосвободишься…»
Значит, не говорила Марьюшка. Или говорила – разве упомнишь. В сенцах вода в бадейке ледком покрылась. Ковшик порожний рядом лежит. Старенький. Деревянный. Чуни чьи-то. Под лавкой.
Через палаты прошел – келья. От печи широкой, голландской, жаром пышет. От окна холодом тянет. Войлок на нем пообносился. По краям растрепался.
Иринушка разметалась на постели. Лицо восковое. Вострое. Пряди седые на подушке синей. Рука у горла прозрачная, слабая.
Защемило сердце: слышит ли. Узнает ли? В смертный час благословить брата должна. Непременно! Раз ему жить положено – не ей. Все простить. Должна!
Настоятельнице кивнул – за дверью скрылась. Одни. Наконец-то!
– Аринушка! Сестрица…
Только пальцы чуть дрогнули. Простыню примяли.
– Аринушка! Узнаешь ли меня, брата своего единственного?
По векам ровно ветерок прошел. Глаз не открыла – только чуть-чуть вроде бы кивнула.
– Прости, родная. Никак нельзя нам, Аринушка, в несогласии расставаться. Всю жизнь одним снопом держались…
Губы зашевелились. Голос как вздох.
– Не всю… Не всю…
– Все еще зло на меня из-за престола держишь, Аринушка. Так пойми, не было такой силы, чтобы за царицей власть удержать. Обычай у нас иной. Вспомни, как искал тебе женихов, чтобы с мужем законным могла бы на престоле утвердиться, чтобы…
Голос как вздох.
– О престоле поздно… перед престолом Всевышнего… скоро.
– Ангели тебя там ждут, безгрешная твоя душа, Аринушка. Там отдохнешь, блаженство испытаешь. А нас, грешных, прости ради Христа. В чем вольно или невольно перед тобой согрешили. Что тебе, родная, с собой наши обиды да грехи брать. Не нужны они…
– Нужны… навсегда нужны… обманул ты меня… в грех ввел… с царевичем… знала, нежить ему… не воспротивилась… должна была… С тем и отхожу, не удалось вам… царевича… убить… за иное дитя невинное… грех на душу взяли… жив… жив…
– Что говоришь, Аринушка? Как жив? Откуда взяла? Кому сказала?
– Радоваться… радоваться тебе надо… Все знают… Слава Господу… Не приемлет он твоей власти… Людей твоей властью карает… Страшно карает…
– Мало я для них делаю, Аринушка? Поглядела бы, сколько в Москве нашей украшений прибавилось, чего только не построилось.
Глаза тихо-тихо приоткрылись. Глядят строго. Как казнят.
– Зачем… зачем строилось… народ голодом премирает…
– Знала бы ты сестрица, сколько милостыни из царской казны раздаю, сколько нищих и убогих привечаю. Ежедневно!
– Не родит земля под твоей державою… Третий год зернышка единого не выросло… тебя… на носилках… из дворца в собор выносят… живым покойником…
– Как это – живым покойником! Чтобы народ слухам не верил, будто умер их государь, будто…
– Был царевич в Москве… был… все видели… на Посольском дворе жил…
– Бредишь, Аринушка, бредишь!
– И еще придет… скоро… совсем скоро… за все грехи наши…
26 октября 1603 умерла царица Александра. Похоронена 27-го.
В конце октября почила в Бозе старая царица Александра, вдова блаженной памяти царя Федора Иоанновича, сестра нынешнего царя Бориса, постригшаяся в монахини… она умерла, как говорят, единственно от душевной скорби, ибо видела несчастное положение страны и великую тиранию своего брата, погубившего все знатные роды, и предсказала ему много несчастий, которые падут на него; однако всегда была хорошо расположена к нему и была ему доброй советницей; так что он был ее смертью чрезвычайно опечален, но Бог всемогущий взял эту царственную жену из сей плачевной юдоли, чтоб она не видала и не испытала приближавшегося несчастья; и ее похоронили в церкви Вознесения в Кремле, и весь народ горько плакал и был, и это было 27 октября.
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Ясновельможный пан воевода велел дочь позвать. Приосанился. Разрядился. Не одну чашу вина, поди, для храбрости выпил.
– Вот и до тебя очередь дошла, кохана цуречко – дочка любимая. Тебе, Марыню, решать, кем быть хочешь.
– Пусть отец яснее выразится.
– Куда яснее. Полагают магнаты наши и шляхта – пора на Москву идти. Бояр, боярских детей – о дворянчиках уж не говорю – приезжает множество. На царя Бориса жалуются. Другого царя себе просят. На помощь нашу большие надежды возлагают.
– Пусть меня простит ясновельможный отец, но что мне в том?
– А то, что будем мы поддерживать царевича, что столько лет на хлебах и попечении нашем живет. Пойдем с ним до Москвы.
– И что же? Так король решил?
– Я полагал тебя умнее, цуречко. Какой король? Зигмунт не имеет ни воли, ни признания народа. Запутался в юбках своих немок. Он Польше тоже не нужен.
– Вот теперь и вовсе ничего не понимаю.
– Поймешь, Марыню, хоть и молода ты очень.
– Святой отец сказал, молодость как болезнь: проходит.
– Как болезнь, надо же! Хорошо бы эту болезнь в себе до седых волос носить – куда легче жить-то бы было.
– Так чего же ждет от меня отец?
– Не торопись! Ишь, тебя в крутом кипятке купали. Удержу не знаешь! А мне нужно, чтобы ты не только все поняла, да еще на всю свою жизнь прикинула. Приказать тебе в таком деле не могу – сама решай, сама за себя оставайся в ответе.
– Отец начинает запугивать меня? Я не из трусливых.
– Знаю. Так вот король боится московского похода, и это нам на руку. Мы поддержим царевича, поможем ему обрести отцовский престол, прибавим к своим силам силы московские и вернемся в Польшу, чтобы сменить короля. Если все пойдет по нашим планам, Дмитрий станет королем двух держав – Польской и Московской. Настоящим императором… А супруга его императрицей.
– Супруга? Вы знаете, кто это будет?
– Ты же просила у меня царственного жениха, цуречко, разве нет? Жених перед тобой.
– Но он не делал мне предложения. Не объяснялся в любви.
– А вот это твое дело, Марыню. Отец поддержит тебя – как же иначе! Только при условии вашего брака и поддержанных тобою обязательств мы дадим царевичу средства для похода и солдат. Но ты должна заставить его опуститься, у своих ног. Иначе ты никогда не сможешь добиваться от супруга всего, что пожелаешь.
Он должен зависеть от тебя, но и обожать тебя, как покойный король Зигмунт II Август обожал свою Барбару Радзивилл, которая, кстати сказать, известна под фамилией своего первого мужа. Ее собственное происхождение представляется более чем сомнительным. Но любовь не рассуждает.
– Мне нужны будут модные платья – эти слишком просты и не могут покорить ничье воображение.
– Значит, ты согласна?
– Еще притирания. И непременно самые дорогие итальянские духи.
– Ты уже начинаешь действовать, цуречко?
– Хотя молодость и большой недостаток, я не могу дожидаться, пока эта болезнь пройдет естественным путем. Я согласна, как хочет знать отец, на что?
– Стать супругой московского царевича.
– Нет, царицей Московской. Не просто супругой царя, а отдельно, по полному церемониалу венчанной на царство. Супругой этого человека я бы не согласилась стать никогда. Просто он стоит на моем пути к престолу.
– Марыню, но есть… есть неизбежные обязанности супруги.
– Ах, отец об этом. Я не хочу думать о подробностях – я хочу иметь в руках скипетр и державу. Я хотела этого с тех пор, как помню себя.
– Царевичу Дмитрию будет нелегко, и тебе придется ему помочь. Умом. Советами. Преимуществами, которыми располагает хорошее воспитание.
– Это будет не только престол, отец. Это будет и мой трон. Кстати, я видела множество русских людей на нашем дворе.
– Это те, кто раньше знал царевича и теперь добрался до наших краев, чтобы предложить ему свою службу и просить его опеки.
– Они заслуживают доверия?
– Не понимаю.
– Их никто не направлял сюда специально? Никто не подучивал в их речах?
– За это можно поручиться.
– Тем лучше.
– О чем ты думаешь, Марыню?
– Бастарду всегда трудно доказывать свое происхождение. Думаю, что человеку, объявленному убитым, тем более.
– В Московии всегда сомневались в этом убийстве.
– Когда я смогу получить новый гардероб и соответственно встретиться для разговора с царевичем?
– Мне пришла мысль устроить великолепный праздник. Тогда твое появление, цуречко, со всеми фамильными украшениями и в новых нарядах будет особенно убедительным. Пусть это состоится через неделю.
Духовник словно нарочно ждал в костеле. Не успела дверь скрипнуть, появился из бокового нефа.
– Я хочу исповедаться, святой отец. И получить ваши наставления. Если можно, сейчас же.
Тихо в костеле. От почерневших рядов кресел тянет свежим воском. Облачко тумана от курившегося недавно ладана застыло у верхних окон. У алтаря цветы. Огромные букеты. Запах вянущих листьев. Травы. Ковыля…
За дверцей конфессионала темнота. Дыхание за резной решеткой. Складки лилового шелка.
– Святой отец знает – мне предстоит брак с московитом…
– С царевичем Московским.
– Так говорят.
– Другие говорят? А ты – ты что думаешь, дочь моя?
– А если… все рассеется. Значит, я окажусь женой человека без средств к существованию и будущего.
– О чем ты думаешь – о жизни своей с другим человеком. Жизнь может сложиться по-всякому. Поэтому в церковном обряде мы и объединяем брачующихся на радость и горе, на болезнь и здоровье. Чего ты ждешь от меня, Марина?
– Правды! Правды хочу, святой отец!
– Умерь свою гордыню, дочь моя. Опомнись, Марина!
– Гордыню? Так в чем же она, отец?
– Один Господь Вседержитель знает правду. Один Господь и может определить, какую ее часть каждому человеку следует знать. Против его святой воли бунтуешь в тщеславном беспамятстве своем!
– Но ведь моя это жизнь! Мне ехать в чужую страну. Мне быть рядом с другим человеком. Кто он на самом деле? Что знаешь о нем, святой отец?
– Твоя жизнь! Твоя судьба! Сама признаешься в своем высокомерии. Не видишь ничего, кроме себя самой.
– Но как же иначе?
– Забыла, дочь моя, какой ценой поплатились прародители наши за избыток знания, страданиями всех своих потомков поплатились, ничего и для самих себя не получив. Без крова, пищи и одежд остались после жизни райской.
– Здесь нет рая, святой отец, – ты сам говорил. И тот же конец грозит мне, если не дознаюсь.
– Чего, дочь моя?
– Но если нет у московита прав на престол московский, если не положен он ему?
– И снова Господу о том судить – не тебе и не мне.
– А я? Что со мной будет?
– Станешь царицей Московской. Если на то будет Его святая воля. Светом истинной веры просветишь заблудшие эти земли. Послужишь святой нашей церкви и папскому престолу. Род свой утвердишь на московском престоле. Прекратишь кровопролитные, на века затянувшиеся войны двух родственных народов. Поможешь им совместно противостоять натиску неверных. О таком предназначении можно только мечтать. А о долге своем перед будущим супругом ты ничего не хочешь спросить?
– Я не люблю его, святой отец, не люблю! И никогда не буду любить.
– О плотском хлопочешь! Не о душе.
– Он так некрасив…
– На государей смотреть надо не оком телесным, но зрением духовным. Предназначение их усматривать, перед ним благоговеть.
– Низкий. Коренастый. Дышит тяжело, шумно. Как меха кузнечные раздувает.
– Весь в старшего брата, покойного государя Федора Иоанновича. Порода у них такая.
– Волосы черные. Жесткие. Торчком. Хмурый всегда.
– Все рассмотрела ты, дочь моя, а остроты разума не узрела. Редких знаний молодой государь. Каждый диспут выиграть может. Разве это не свидетельство его предназначения к делам высоким?
– Значит, довериться ему?
– Зачем же. Силы свои и его соединить. А что до веры, мы ею обязаны одному Вседержителю и Творцу всего сущего. Только ему.
Также ходил он часто к ворожее, которую в Москве считают святою и зовут Елена Юродивая. Она живет в подземелье подле одной часовни, с тремя, четырьмя или пятью монахинями, кои находятся у нее в послушании, и живет она весьма бедно. Эта женщина обыкновенно предсказывала будущее и никого не страшилась, ни царя, ни короля, но всегда говорила все то, что должно было, по ее мнению, случиться и что подчас сбывалось.
Когда Борис пришел к ней первый раз, она не приняла царя, и он принужден был возвратиться; когда он в другой раз посетил ее, она велела принести в пещеру короткое четырехугольное бревно, когда это было сделано, она призвала трех или четырех священников с кадилами и велела совершить над этим бревном отпевание и окадить его ладаном, дав тем уразуметь, что скоро и над царем Борисом совершат то же самое. Царь более ничего не мог узнать от нее и ушел опечаленный.
Меж тем в Москву каждодневно один за другим прибывали гонцы, и каждый с дурными известиями; один говорил, что тот или тот предался Дмитрию; другой говорил, что большое войско идет из Польши; третий говорил, что все московские воеводы изменники; сверх того народ в Москве с каждым днем все больше и больше роптал…
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии в начале XVII в.»
Бояре шумят, шумят, а совета дельного не дождешься. Каждый свою выгоду блюдет – о царской и не подумает…
Никак двери приотворилися. Так и есть – Семен протиснулся. Чего это вдруг? Делать ему в Думе нечего. К престолу пробирается.
– Великий государь, царица велела поклониться тебе, просить, как ослобонишься, с ней бы на особенности поговорил.
– С чего бы это?
– Сама к твоему величеству поспешать хотела, да рассудила – весь терем переполошишь, толки пойдут. А надо бы, чтоб никто не заметил. Так и тебе, царь батюшка, пересказать велела: чтоб никто… и царевич Федор Борисович тоже.
– И царевич? Поди скажи – бояр отпущу и тут же буду. Иди, иди с Богом. Царица наша Марья Григорьевна попросту не скажет.
Царица у притолоки белее полотна. Руки стиснула. Одна в палате. Видно, всех отослала. Царевнины пяльцы брошены – впопыхах, не иначе. Двери кругом заперты.
– Государь, Борис Федорович…
– Что ты, что ты, Марьюшка? Аль занемогла, не дай Господи?
– Странница… Из Литвы… Странница… К Олене-ведунье прибрела… Вчерась вечером.
– Из Литвы?
– Человек там, сказывает, объявился. Слух пошел: царевич. Дмитрий-царевич…
– Сам себя так назвал?
– Сам молчит. Опасится. Люди толкуют. То ли узнал его кто, то ли жил у кого все годы-то.
– Узнал? Почитай десять лет прошло и узнал? Да как такому быть, сама подумай?
– Слух, как пожар верховой, идет. Будто ветром пламя гонит.
– Куда же заходила черничка, акромя теремов?
– И в теремах не была. У Олены ночевала. Я зазвать ее сюда велела, а она – сгинула.
– Как сгинула?
– Ввечеру спать завалилась в сенях, а наутро нету. Никто не видал, как собралась, не ведают, куда побрела. Да что уж теперь… Разведать, государь, надо. Верных людей послать – что за притча такая. Скорей, Борис Федорович, только бы скорей!








