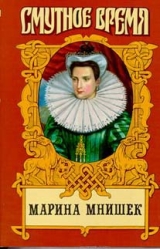
Текст книги "Марина Юрьевна Мнишек, царица Всея Руси"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
– Вот только когда, мой ученый библиотекарь?
«Послание православным русским и грекам, жившим в Польше»
Со времени завоевания турками у греков начали иссякать ручьи Божественной мудрости, заглохло наше просвещение, настал для вселенной духовный голод и жажда. И даже запад, то есть греки, живущие на западе, терпят необычайное несчастие. Ибо те, которые пленены, пришли в такое злосчастие, что едва могут сохранить веру Христову целою и неисказимою и то с большими опасностями и страданиями; те же, которые, по человеколюбию Божию, были свободными от этого плена и его бедствий, мало-помалу попали в другие затруднения, вследствие того много бедственного разделения Церквей, которое приготовлено крайним славолюбием желающих властвовать вместо Христа; таким образом и эти последние страдают, быв подвержены другим бедствиям.
Патриарх Александрийский Мелетий Пигас1593
Той яре Борис, видя народ возмущен о царевичеве убиении, посылает советники своя, повеле им многия славныя домы в царствующем граде запалити, дабы люди о своих напастях попечение имели и тако сим ухищрением преста миром волнение о царевичеве убийстве, и ничто же ино помышляюще людие, токмо о домашних находящих на ны скорбях.
Из «Хронографа» Сергея Кубасова
С детинца княжеского через боковые ворота прямо к Академии выход. Князь Константин частенько таким путем к студентам своим заглядывает. Все припасы им съестные – со своего двора. В одежде, если у кого нужда, никогда не откажет. Типография там же: печатным делом все так же интересуется.
– Вельможная паненка, неужто опять к школярам на службу пойдем? Разве их церковь с великокняжеским собором сравнить? Только что поют славно, атак…
– Лучше мне там, Галька. На душе покойней. Княгиня не рассмотрит, перед дядей не оговорит. Свету меньше, так для молитвы свет наружный и не нужен, лишь бы сердце откликнулось.
– Насчет княгини панна Беата правильно говорит. Ненавидящая она стала, да ведь не так уж давно. Раньше-то все по-иному было.
– Меня винить хочешь, Галю.
– Как бы посмела, ясновельможная паненка! Это я по-простому. Жених-то княгинин куда как хорош был. Чем паненке не пара? На мой разум не понять, отчего бы ему отказывать? Князю вмешаться пришлось, чтобы паненку не неволили. А так уж давно бы панна Беата вельможной графиней стала, сама себе хозяйка.
– Сердцу не прикажешь.
– Подождать паненка захотела. Может, кто больше по сердцу придется. Или уж пришелся?
– Полно, Галька, полно. Ни к чему болтовня такая.
Неприметный проулок разворачивается площадью посреди отступивших узеньких, одна к другой прилепившихся каменичек. Как их иначе назовешь: всего-то в три окошка, а этажей тоже три, да под островерхой кровлей одно оконце. Непременно с ящичком для цветов. С кормушкой для птиц. Только створка распахнется – тучи налетят: воркуют, чирикают, иные и песенку споют.
Напротив каменичек – низкая каменная стенка. Не для обороны – для простой ограды. Ворота низкие. Створки дубовые окованные. За стенкой купола. Дымки над домами стоят. К вечеру ветер угомонился. Жильем запахло. Школяры из города возвращаются.
– Узнала, Галю, о том шляхтиче, что лошадь в поводу ведет?
– Вот бы подумать не могла, что паненка на такого глаз положит: и ростом невысок, и спина сутулая, и руки длиннющие, ходит, будто ногу приволакивает.
– Так узнала, нет ли?
– Да никто его, небогу, не знает. Невесть откуда появился, неведомо на что живет. В Академию когда ходит, когда днями дома безвыходно сидит. Книг много читает. Говорить с одними дидаскалами говорит. Простых школяров то ли чурается, то ли опасается.
– А еще что? Не могут люди языков не развязывать.
– Не могут, да уж больно некрасив небога. Беден тоже.
– Как же беден, когда доктор с ним. И отец Паисий.
– Да тут и про отца Паисия никто не знает. Не здешний он. Один гайдук сказал: московский. А там кто их разберет. Монахи по мне все на одно лицо.
– Звать-то шляхтича как?
– Пан Гжегож. Только странность тут такая. Конюхи толковали – а он больше всего около коней время проводить любит, – на «пана Гжегожа» не всегда откликается. Вроде не его это имя, а чужое – прибранное. Иным разом несколько раз повторять приходится, пока поймет, что его зовут.
– Что имя! Фамилии какой?
– А вот фамилии-то и нету! Никто сказать не мог. Надо бы ясновельможной паненке прямо у дяди спросить. Это он разрешил шляхтичу здесь при Академии поселиться.
– Может, и не он.
– Как же! В нашем-то городе да чтоб комар один пролетел без княжьего ведения – не было такого и быть не может.
– Твоя правда.
– А что сама паненка думает? Ведь парой слов с ним перекинулась, что ни что рассмотрела.
– Что тут скажешь. Обиход шляхетский знает. Разговор тоже. По-латыни изъясниться, видно, может. Диковат только. Неприветлив. А может, горе какое на душе – говорить трудно.
– Ну, перед ясновельможной паненкой у кого язык в горле колом не станет! Не видал он в жизни такой красоты да обходительности. Моей паненке королевой бы быть.
– Королевой! А на деле злотого за душой нету. Все от дяди, от его милости. Родителей не стало – одни долги остались.
Повелением государя царя и великого князя всея России Феодора Ивановича поставлен град деревянный на Москве, вокруг всего Посада и слобод. Один конец его от церкви Благовещения на Воронцове, а другой приведен к Семчинскому сельцу, немного пониже; а за Москвою-рекой – един конец напротив того же места, а другой – немного выше Спаса Нового, и за Яузу тоже.
«Пискаревский летописец». 1595
Историческая справка. Строительство было завершено в 1596 г. Деревянный дом, иначе – Скородом, проходил по линии нынешнего Садового конца. Длина стен составляла 15 километров, их высота – около пяти метров. Стена имела 50 башен, среди них 12 проездных.
Загорелись в Москве лавки в Китай-городе, и оттого выгорел весь Китай-город – и церкви, и монастыри, везде без остатка. А царь и государь и великий князь Федор Иванович был в ту пору в Пафнутиевом (Боровском) монастыре, и приехал в великой кручине, и народ жалует – утешает и льготу дает. А лавки после пожара велел ставить каменные, из своей казны…
«Пискаревский летописец». 1595
Рождество прошло. Отошло и Крещение. Все равно сумерки рано густеть начинают. Сколько еще недель ждать, пока Горынь лед ломать станет. Треск по всей округе пойдет. Далеко еще до весны.
Князь Константин Острожский обычаям не изменил – гостей как положено приветил. Правда, заметил кое-кто – чуть меньше смеялся, стаканы реже подымал. Может, показалось?
Еле последние повозки с гостинца убрались, в библиотеке закрылся. Тем разом не книги – письма перебирает. Из ларца тяжелого, резного особенные листы вынимает, разглаживает. Рука самого государя Ивана Васильевича, что Грозным назвали.
Дивиться не перестает: что за человек был. Не прислал бы князю Острожскому через Михаила Гарабурду списка Библии, не была бы напечатана Острожская библия – первый в землях славянский полный перевод Священного Писания.
Чего только не знал московский царь! «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия в письмах приводил. Уж на что сложна в философских рассуждениях «Диоптра» инока Филиппа – и та ему близка была: с чем спорил, с чем соглашался.
Вся Европа толкует, как держатся московиты православной веры, ни о какой другой слышать не хотят. А вот царь о каждой конфессии понятие иметь хотел. Из Англии потребовал изложение учения англиканской церкви доктора Якова, из Константинополя – сочинения Паламы, из Рима – о Флорентийском соборе. Каспар Эберфельд сам представлял монарху изложение в защиту протестантского учения – не отмахивался, расспрашивал, во все мелочи вникнуть хотел. А уж о «Хронике» Мартына сельского и говорить нечего: наизусть знал, как библейские тексты.
Воспитателями своими похвастать любил – и было кем. Самые выдающиеся в Московском государстве книжники, поп Сильвестр, что Домострой составил, и митрополит Макарий с его Четьими Минеями. Вон на полке стоят: начнешь читать, не оторвешься. Все митрополит собрал сочинения, которые только на Руси читались и в обиходе были.
Все непонятно: откуда при его-то детстве сиротском таких знаний набрался, почему, зная учению цену, о сыновьях не позаботился. Говорят, наследник, царевич Иоанн Иоаннович, что-то сочинять пытался. Не получилось. К управлению государством отец не допускал – к власти каждого ревновал, а уж законного преемника тем более.
И о смерти царевича по-разному толковали. Псковичи на том стояли, что захотел Иоанн Иоаннович сам с королевскими войсками сразиться, войска потребовал. Вот и зашиб его в страшном гневе отец.
Злобен был. Ни в чем удержу не знал. Отец Паисий толковал, что по гневливости и царевича Дмитрия Ивановича все истинным сыном царским признавали. Будто не было для ребенка большей радости смотреть, как домашний скот забивают, того лучше самому по гостинцу за курами да гусями с палкой бегать, бить их насмерть. К учению в Угличе не прилежал – царица не давала. За здоровье сына боялась. Сама еле-еле грамоте знала, как и вся родня ее. А что от итальянского врача или от монахов слышал, на лету схватывал, ничего не забывал. Доктор сказывал, по-латыни ни с того, ни с сего болтать начал. Удивлению эскулапа смеялся, да и опять за палку.
О делах государственных будто бы не слышал, а зимой на том же княжьем гостинце велел изо льда и снега фигур двадцать человеческих слепить. Каждую правильным именем назвал: тот думный дьяк, тот начальник Приказа, тот воевода или ближний боярин. А потом острую саблю принести приказал и принялся рубить. Мол, когда царем стану, вот что с ними сделаю. Одному голову снес, и не кому-нибудь – Борису Годунову. Другому руку, ногу. Кому бедро покалечил. Кого насквозь проколол. Трудился, пока груда снега не осталась. Мать-царица хотела остановить – не перетрудился бы. Не смогла. На нее и то замахнулся, чтобы под руку не попадала.
А Грозный – что ж, недолго после кончины сына убивался. В монастыре подмосковном покаялся. Цесарский посол писал: пешком – ради покаяния – из Александровой слободы, где лет 17 столица Московская находилась, до истинной столицы дошел. И за сватовство новое принялся. Ходить сам не мог – на кресле носили. Голову свесить – невмоготу было: так с задранной к небу и сидел.
Перед смертью на богомолье уже не в силах был ездить. Нарочных посылал, чтоб молились монахи за него: не столько за грехи – о здоровье.
Из кресел в носилки переложили – все по-прежнему гневался, казнил кого словами, кого на деле, жизнь свою проклинал. Кто только при дворе за жизнь свою не опасался! А когда поняли, что не сбылись пророчества звездочетов и колдунов о кончине царя в Кириллин день, нидерландский врач Арендт Классен пришел. Арендт Классен анабаптист, и торговлей в Московии занимался, и медициной. Из его рук принял царь последнюю свою чашу. Пока не закоченел, никто к покойному подойти не решился. И вдруг тоже. Грозный!
С итальянским лекарем говорить не доводилось. Незачем. Хватит того, что отец Паисий пересказал.
Сильно болел царевич. По весне падучей никакая медицина облегчения не давала. На дню сколько раз в припадке бился. После припадка ни о чем вспомнить не мог. Еле-еле лекарь отварами травяным отпоил. Непременно утром и среди дня по ковшику выпивать давал. Чтобы минута в минуту. Царевич привык. Противиться перестал.
Тем разом царица разрешила сыну на двор выйти, с ровесниками поиграть. Сама за стол обеденный села. Перед тем вместе у обедни в храме были.
Двор задний. Закрытый. Народу в нем набралось полным-полно. Кормилица с царевичевым молочным братом. Постельница царицына с сыном. Боярыня, что за ними всеми присматривала. Еще два мальчика-жильца, для игр царевичевых выбранных.
Только мальчики разыгрались, доктор из терема спустился, царевича с собой забрал отвар пить. Пошутил, что всего-то на минуту. Через минуту царевич, будто бы, с крыльца обратно и сбежал. В шитой по вороту жемчугом сорочке. В кафтане атласном алом. Шапчонка с соболевой опушкой на глаза надвинута.
Сбежал и упал. Мертвый. Шапку никто с него не снял. Рубашку тоже. Лицо только совсем прикрыли… Так и схоронили: лицо под белым платком.
Что это? Конский топот… Голоса… По коридору эхо шагов загудело. Ближе. Ближе…
– Ясновельможный князь, гонец к тебе из Москвы! Гонец! Не стало царя Федора Иоанновича! В Крещенскую ночь! В сочельник! Не стало.
Что ж, вот и наше время настало! Теперь только бы все верно рассчитать. Своими руками ничего не делать. Кукол за нитки дергать. Не просрочить. Главное – не просрочить.
– Где же твой гонец, Ярошек?
– Вот он, вот, ясновельможный князь, за мной поспешает. Снег в прихожей стряхнул. Шубейку скинул.
– Дядя, вы разрешите мне остаться?
– А ты здесь, Беата? Нет, ласонька, этим разом не надо. Поди с Богом – не для девичьего разума разговор будет. Поди, Беата.
– Великий князь…
– Не бывал ты еще у нас, добрый человек? Незнаком ты мне.
– От владыки Серапиона, великий господине. Он меня, грешного, к твоей милости послал. Часу не разрешил помедлить.
– С чем же игумен так заторопился?
– Государь у нас на Москве преставился. Государь Федор Иоаннович.
– Новость скорбная. Но ничего о болезни его не слышал.
– То-то и оно, великий господине! Не было болезни. Никакой хвори не было. О том и речь. Отец игумен велел тебе во всех подробностях рассказать. Ничего бы не упустить.
– Погоди, погоди, гонец. Ярошка, за отцом Паисием в Академию пошли немедля. Пусть все вместе со мной послушает.
– На молитве они сейчас стоят, княже.
– Бог простит. Сам святой отец согрешит, сам и отмолит. А гонца, пока суд да дело, покормить. Платье доброе дать. Слыханное ли дело в такой поддергайке сотни верст мерить. Распорядись!
Ушли… Вот и ладно. Теперь бы с мыслями-собраться. Не довелось царя московского, покойного, как и отца его великого, видеть. Говорили о нем много. Ростом, мол, мал. Голова большая. Будто от тяжести к земле клонится. Шея тонкая. Глаза мутные, ни на что не смотрят. Цесарский посол уверял, что людей вокруг себя раз узнавал, раз нет. Царицу только свою хорошо помнил. Норовил всегда за руку держать. Коли на Боярскую думу ей ходу не было, плакать принимался, ногами топать.
Английский купец толковал, что случай такой был. Рассердился государь Иван Васильевич на придворных. Кричать начал: «Плох я вам, жесток и немилосерден, так под юродивым поживите. Сладости такой хлебните!» Это про Федора Иоанновича.
Вон и отец Паисий спешит. Это хорошо, что с ним до гонца можно парой слов перекинуться.
– Великий княже…
– Сказал ли тебе, святой отец, Ярошек новость?
– Сказал, но…
– Вот и настала пора к делу приступать. Послушаем гонца от игумена Серапиона да и примемся решать. Ученик твой как?
– В науках преуспевает, а нрав…
– А тебе что же ангельский понадобился, святой отец? Уж какой есть. Скажешь, учителей и благодетелей помнить не будет? Так благодарность людская – товар всегда куда какой редкий. Лишь бы рассчитал правильно свою выгоду. И чтоб была эта выгода нам на руку. Не мне это ему объяснять – я с ним ни словом не перемолвлюсь, – тебе, отец Паисий. Потому и хочу, чтобы ты во всем сам разобрался. С пристрастием гонца выспрашивай. Во все мелочи входи. Никогда не узнаешь, что пригодится! А ты, гонец, входи. Не жмись на пороге. Гостем будешь. Как величать-то тебя?
– Послушник я, великий княже, послушник Савка.
– Вот и славно, Савва. Так, говоришь, не хворал московский государь? Может, не довел до вас в монастыре слух?
– Великий княже, владыке то было известно от придворных истопников. Им ли не знать! Не появлялись в теремах лекари. На кухне никто отваров каких не приготавливал. В крещенский сочельник после литургии государь великое освящение воды отстоял. А ведь, по обычаю своему, целый день сочевничал: росинки маковой в рот не брал. Что твой инок.
Разговелся, когда в терем возвернулся, с великой охотой. Кутью нахваливал. Мед в ней больно духовит показался. Разве что малость с горчинкой. Откуда бы? Царица успокоила: не иначе с устатку, мол, показалося. Тут же и убрать велела.
– С горчинкой? А государыня той кутьей разговлялась ли?
– Не скажу, княже. Почем мне знать. Слышать приходилось, что с государем вместе завсегда, как птичка-невеличка, клюет. К себе на половину придет, тогда и ест до отвалу. Толкуют, на государя за столом охоты глядеть нет: перепачкается весь, руки обо что ни попадя обтирает. Про то на поварне каждый мальчонка знает.
– Больше разговору о разговленье не было?
– Не было, святой отец. Государь про ход на Иордань толковать начал, что ему с утра идти. Дорога вроде недалека – всего-то от ворот кремлевских к реке спуститься. Вспоминать начал: от каких ворот-то? Запамятовал. На платье большого выхода жаловался: плечи давит. Дышать не дает. Как бы не сомлеть ненароком. Мол, боязно. И еще ноги не слушаются – подгибаются.
– И кто же внимание на жалобы царские обратил?
– А никто, княже. Он ведь больше по привычке царице пенял. Голос тихий, плачливый. Гундел, гундел… Отходя ко сну, стихиру твердить принялся, что на богоявленскую службу читать станут. Истопники сказывали: ни разу не запнулся: «Спасти хотя заблудшего человека…»
– Кто ж той стихиры не знает!
– Не торопись, отец Паисий. Пусть Савва все расскажет, как ему запомнилось.
– Прости, государь, кажется, только время тратить…
– Цыплят по осени считают, что запонадобится. Подождем.
– Так и читал: «…не сподобился еси, в рабий зрак облекшися: подобаше бо тебе, Владыце и Богу, восприяти наша за ны. Тебе бо крещуся плотию. Избавителю, оставления сподобил нас… Тем же вопием Ти, Христе Боже наш, слава Тебе…» Тут его боярин Борис Федорович Годунов и прервал: вот и ладно, сам ты себе, государь, грехи отпустил. Спи, мол, теперь с миром. И прочь пошел.
– Как это – сам себе грехи отпустил?
– Истопники в переходе солому в устье печи закидывали – все слышали. Сами и то диву дались.
– К чему бы такие слова на сон грядущий – вот о чем подумай, отец Паисий. И на том, говоришь, Савва, боярин ушел?
– Порядок в теремах такой заведен: Борис Федорович там всему голова. Ввечеру последним из государевой опочивальни уходил, а то и на всю ночь оставался, поутру первым входил. Никто до него не смел.
– А тем разом что же, царь один был?
– Выходит, один. Утром государя уже закоченевшим нашли: руки-ноги, сказывали, не гнулись. А глаза открыты. Широко-широко.
– Как же ему отпущение грехов – посмертно, что ли, – дали? И посхимили как – над покойником обряд совершили?
– Нет, – владыка так тебе, великий княже, передать велел. Сначала писать собрался, только, поразмыслив, бумаге не доверился. Изустно отпустили грехов скончавшемуся государю. И схимить не стали. Из священнослужителей один владыка патриарх в спальне оставался. Иов.
– Поверить не могу! Православного государя? Молитвенника благочестивого? Кому же быть с новопреставленным, как не попам!
– Не моего ума дело, святой отец. Одно знаю, хоронили государя наспех. Вся Москва диву давалась.
– До всей Москвы дошло?
– Нешто от мира спрячешься, утаишься! А тут положили государя в гробницу не в царском платье, не в монашеском, – сказать стыд, в сермяжном кафтане! Как простолюдина последнего!
– Быть того не может, добрый человек!
– Сталося, уже сталося, княже. Замерла Москва от такого бесчестья своему государю. Поясом, и то простым, ременным, подпоясали! Что пояс – гробницы по росту не подобрали! Невесть откуда малую такую, ровно мальчишечью, раздобыли, и в нее покойника как есть силком затиснули.
– Господи, Боже наш, прости заблудшим душам их прегрешения – не ведают, что творят!
– Я и еще, отче, добавлю. В головах царям сосуд с мирром из самого дорогого венецейского стекла ставят, а государю Федору Иоанновичу – из торговых рядов скляницу самую что ни на есть дешевую спроворили – не устыдились. Как от собаки приблудной, от законного, на царства венчанного государя избавились!
– Вот ты нам и скажи, добрый человек, кто избавился?
– А что тут гадать: Годуновы проклятые. Их рук дело.
– Так владыка Серапион мыслит?
– Все так мыслят. На злое дело они всегда первые, изверги.
– Погоди, погоди; добрый человек! А что владыка мыслит: какой здесь Годуновым выигрыш? То Ирина Федоровна царицей была, теперь по московским-то обычаям одна дорога вдове – в монастырь. Выходит, и шурину царскому со всяческой властью распрощаться придется. Нет им в кончине государевой никакой выгоды.
– И у меня к тебе вопрос, Савва, если великий князь дозволит: кому по духовной престол перейти должон? Деток-то у государя покойного нет.
– То-то и оно, отче. Нет духовной. Нет никакой – ни старой, ни последней, искали, говорят, не нашли.
– Духовной нет? Последней государевой воли? Быть такого не может!
– Объявили уже всенародно: нету. А на словах покойный будто бы одно желание высказывал: царице Ирине в монастырь идти и постриг принять.
– Кто же это слова такие передает?
– Шурин царский – боярин Годунов. Он один тому свидетель.
– Годунов? Чудны дела твои, Господи! А царица что? Ее воля?
– Когда я уезжал, все только о том и говорили: не пойдет государыня в монастырь. Решила: сама будет державой править. Что ж, ведь это ей все государство – дьяки и бояре крест целовали у одра супруга. Что не венчанная она на царство, никто и словом не обмолвился.
– Так это те, что уже у власти стоят. Им перемены ни к чему. Зато те, кому власть только снится, еще свое слово скажут!
– И владыка Серапион так полагает, великий княже.
В ночь с 6 на 7 января 1598-го, по латинскому исчислению, года скончался царь Федор Иоаннович. Последний из рода Ивана Калиты. В западных государствах давно пересказывалось предсказание некоего немецкого звездочета: будут править Московской землей два семейства, каждое по 300 лет, после чего наступит разор и великая смута. Первое трехсотлетие истекло. Русский престол был свободен. Почти свободен. Оставалась царица Александра, инока, принявшая постриг вдова самодержца Ирина Федоровна Годунова.
А царствовал благоверный и христолюбивый царь и великий князь всея России Федор Иоаннович после отца своего, царя и Великого князя всея России Ивана Васильевича, 14 лет праведно и милостиво, безмятежно. И все люди в покое и в любви, и в тишине, и в благоденствии пребывали в те годы. Никогда, ни при каком царе Русской земли, кроме великого князя Ивана Даниловича Калиты, не было такой тишины и благоденствия, как при этом благоверном царе и великом князе.
«Московский летописец»
Утром развиднелось едва – тут и завьюжило. Снег летучий. Сыпкий. В воздухе россыпью, что твои бриллианты, играет. Тишина окрест залегла. Шагу не сделать – заметает. Оно и к лучшему. Без следов.
Посланец Серапионов до рассвета в путь пустился. Провожатого дали – чтоб вопросов поменьше. Еды в мешок наложили, за седлом приторочили – без корчмы долго обойдется. Все, что Серапиону знать надо, на словах князь Константин передал. Бумага – тот же след. За них подчас ох как платить приходится.
Ярошек окна в опочивальне распахнул, вроде теплом повеяло. Да нет – какая там весна! А впрочем – на все Господня воля. Не человеком положено, не по его воле и деется.
– Ярошек!
– Здесь я, ясновельможный княже.
– Лекаря позови в бибилиотеку. Из Академии Джанбаттисту Симона.
– Не заболел ли ты, княже? Неужто нездоровится? Тогда чего ж нашего дохтура не позвать? Нашему верить можно, а тот…
– Не для себя, старик, не печалуйся. Сведаться хочу. Как он?
– На глаза, честно сказать, куда как редко попадается. По твоему приказу, княже, на отлюдье живет. Одних школяров, коли нужда, пользует. Чем ему не жизнь – при таком-то жалованье!
Побежал старик. Осуждает. Только правды и ему знать до конца ни к чему. Не его ума дело. Семь лет назад никто итальянца не звал. С парнишкой приехал. Цену хорошую получил. Домой бы в Италию поспешить. Ан нет, в ногах валялся, чтоб оставить. Так и сказал: дороги, мол, мне обратно нет. Ты, князь, вся моя защита. А лекарь толковый. Вон как парнишку от падучей болезни вылечил. Припадки редко-редко случаются. Да и то, коли Джанбаттисты рядом нет. Прибежит, сразу успокоится. Отварами поит. Не жилец был парнишка – одному итальянцу животом обязан.
– Светлейший князь, вы приказали вашему покорному слуге явиться – я весь внимание. Мне так редко выпадает счастье быть вам полезным.
– Здравствуй, Джанбаттиста. Вот тебе и случай наверстать упущенное. Постороннего человека в Академии видел ли?
– Гонца из Москвы?
– Ну уж – из Москвы. Кто тебе о нем сказал?
– Мне не нужны соглядатаи, светлейший князь. У Джанбаттисты свои глаза и уши. Конь взнуздан по-московски. Седло и сбруя – не здешние. Тем более говор путешественника: мне он куда как знаком. Не то что я – синьор Гжегож сразу заметил. Полюбопытствовал.
– Ладно, не это важно. О кончине московского царя Федора слышал?
– Дидаскалы толковали.
– Вот и объясни мне по лекарскому вашему разумению, почему похоронили его не в царском одеянии, почему после кончины не постригли. Гроба каменного и того по мерке подбирать не стали. Не от небрежения же! При погребении государя порядок строгий блюдется. Ничто тебе на ум не приходит? Болел чем? Или…
– О, светлейший князь, мне остается только подтвердить возникшее у вас предположение: или был отравлен. Яды, как вы наверняка знаете, ваша светлость, имеют разное действие. От скоротечных – по телу знаки тут же идут, опухоль – час от часу растет. Так, рассказывали, было с родителем скончавшегося государя.
– Государем Иваном Васильевичем? Что именно?
– Он будто бы сидел за шахматной доской, когда лекарь поднес ему питье. После первых глотков царь упал головой на доску – только фигуры кругом раскатились. Рука свесилась и на глазах стала пухнуть, словно ее стали надувать воздухом. Все тело тоже, так что когда придворные решились к нему приблизиться, пуговицы стали отлетать от кафтана, а швы на одежде лопаться.
– Господи, спаси и помилуй!
– Может статься, и с царем Федором случилось нечто подобное? Тогда утром из спального, просторного платья переодеть его в дневное стало невозможно.
– Отсюда сермяжный кафтан! Ни у кого из придворных не займешь… Постой, лекарь, а постриг? Монашеское платье любое можно было взять – оно и так широкое.
– Но для пострига, ваша светлость, тело следует обнажить.
– Знаки!
– И пухлизна, ваша светлость. Насколько мне известно, подобный обряд совершает не один человек. Тайны не сохранить.
– И здесь сходится. Но остается маленькая гробница. Это при распухшем-то теле. Нет, по-твоему, лекарь, не получается.
– Осмелюсь возразить сиятельному князю. Каменную гробницу готовят не за один день, не правда ли? Думаю, она давно была исполнена и точно соответствовала размерам государя. Я слышал, он был совсем не большого роста.
– Если верить свидетелям, все придворные были выше него по крайней мере на голову. Московиты отличаются хорошим ростом.
– Так вот, ваша светлость, гробница могла казаться чужой для его царского величества из-за изменившегося объема тела. Вам не кажется это возможным, ваша светлость?
– Пожалуй… Значит, спешили они. Очень спешили.
– И хотели обойтись самым тесным кругом свидетелей.
– Но без слуг все равно было не обойтись.
– Слуги? Но уж их-то и вовсе просто убрать. Навсегда.
* * *
– Слышал, ясновельможная супруга моя собирается в путь?
– С тем и пришла к тебе, Ежи. Хочу до Острога доехать.
– До Острога? С чего это моей супруге на ум взбрело в такую даль пускаться?
– Давно с сестрой не видались. Гонца прислала – очень просит.
– И у меня был человек из Острога. Хозяйка замка, по его словам, жива-здорова, на балах отплясывает ровно девочка.
– Хвала Господу, сестра на здоровье не жалуется.
– Зато моя уважаемая супруга все время жалуется, и вдруг больная спешит здоровую навестить. Что за секрет такой?
– Может, и мне, ясновельможный супруг мой, поездка такая на пользу пойдет. Я долго не прогощу в Остроге.
– Так что же вы задумали, две сестрицы? Может, посвятите меня в свои секреты? Сама знаешь, с князем Константы дел у меня быть не может. Он мне истинной веры не прощает, а я…
– Не знала, что тебе так важны церковные дела, муж мой.
– Это ты о чем?
– Все знают, при дворе покойного короля был ты среди диссидентов, с протестантами дружбу водил, а теперь…
– В верные сыновья папского престола записался, хочешь сказать?
– Я не говорила этого.
– Так подумала, пани воеводзина, что то ж на то ж выходит.
– Не мне судить моего супруга.
– Вот это верно. Но с ортодоксами мне до сих пор дела иметь не приходилось, а потому и князь Острожский…
– В Самборе не бывает. Так как же бы ты захотел, муж мой, чтобы сестра приехала ко мне?
– Могла бы и не приезжать, хотя знаю, верность истинной церкви княгиня не только хранит, но и постоять за нее умеет. Как только мир в их семье существует! А на вопрос ты мой, пани воеводзина, так и не ответила. Я жду.
– Сестра посоветоваться хочет. Слишком князь Константы опекать племянницу свою Беату начал.
– Его дело.
– Его-то его, да Беата стала дружбу водить с тем московитом…
– Каким? Из Литвы?
– Да, с тем, о котором разное говорят.
– Тихо, тихо, Ядзя! Все понятно.
– Вот и теперь московит этот в Москву поехал с Львом Сапегой.
– Выходит, проверить его князь решил. И если во всем убедится…
– То не лучше ли, супруг мой, если не Беате он слово, в случае чего, даст, а дочери нашей.
– А эта Беата какой веры придерживается?
– Вся в дядю, потому князь Константы так ею и дорожит – ортодоксальной церкви одной поклоняется и других склонить в свою веру старается.
– Бог с ней с верой. И со свадьбой тоже. Тут о московите думать надо. Князь Острожский ко двору не стремится, а нам бы помощь в этом деле куда бы как не помешала.
– Вот видишь, супруг мой…
– Пока ничего не вижу. А поехать тебе, пани воеводзина, и в самом деле стоит. Погода славная. Возок мы тебе выберем преотличный. Как на крыльях, туда и обратно слетаешь. На Беату посмотри. Только главное сестре докажи, что через Беату ее сыновья родные, твои племянники, могут большой доли наследства лишиться. Вот что важно, слышишь!
– Слышу, слышу.
– Вот и хорошо. А о дочери ни под каким видом не заикайся. Тут еще крепко подумать надо. Обо всем подумать. Ишь, сватья какая нашлась! Иди, пани воеводзина, в путь готовься. Раз решено, нечего откладывать.
Ушла. Каблучки по каменному коридору застукали. Знаю, недовольна, как детей удалось пристроить. Четыре дочери, пять сыновей.
Урсула за Вишневецким. Сама себе хозяйка. Властная. Как оса, злая. Наряды себе шьет, королевским под стать. А как на кавалера глянет, тот не знает, в какое окно выпрыгивать.
Анна – за Петром Шишковским, каштеляном Войницким. Должность неплохая. Прибыльная. А порода – что ж, из Шишковских об одном только Мартине говорить можно. Лицо духовное. Молод, а уже сколько книг ученых написал. Толкуют, быть ему кардиналом. Когда только – не доживешь, да и Анне проку от любого его церковного чина куда как мало.








