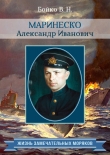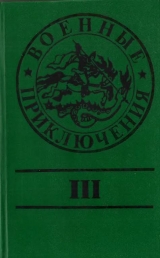
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Валерий Федосеев
НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА
С апреля 1985 года мы стали свидетелями беспрецедентных событий в международной жизни, которые явились логическим следствием нового мышления нашего политического и военного руководства.
Кого из нас могли оставить равнодушными теплые улыбки и крепкие рукопожатия сотен американцев, французов, англичан, западных немцев, китайцев на не запланированных протоколом встречах с М. С. Горбачевым и восторженные лица бывшего президента США Р. Рейгана и его супруги на Соборной площади Кремля, их совсем не голливудское, а искреннее, по-человечески понятное и бесконечное: «Эксентли, эксентли, эксентли!» (Превосходно!)
Кто мог еще два года назад предположить, что прославленная гвардейская Таманская дивизия будет встречать министра обороны США Ф. Карлуччи, а нашего министра, генерала армии Д. Т. Язова, одарят щедро аплодисментами сотрудники Королевского института международных отношений Великобритании.
Подписание Договора по РСД—РМД и его практическая реализация.
Пребывание в Советском Союзе председателя комитета начальников штабов армии США У. Крау, прием федеральным канцлером ФРГ Г. Колем группы советских военнослужащих, советские военные корабли в главной военно-морской базе США на Атлантике Норфолке и американские в Севастополе – все это яркие примеры больших подвижек в разрядке международной напряженности, в укреплении доверия между Востоком и Западом.
Да, позитивные сдвиги налицо, но вот – оборотная сторона медали.
Палата представителей американского конгресса 261 голосом против 162 одобрила проект военного бюджета США на 1990 финансовый год в сумме 305,5 миллиарда долларов. Значительную часть этой суммы планируется израсходовать на программу СОИ, межконтинентальные ракеты MX и «Миджитмен», а также строительство новейших бомбардировщиков B-2 «Стелс».
Франция и Великобритания планируют проведение совместных штабных учений, цель которых – отработка взаимодействия в экстренных случаях за пределами национальных территорий.
Нынешний министр обороны США Р. Чейни в одном из выступлений недвусмысленно дал понять, что вооруженные силы страны должны всегда быть готовы отстоять национальные интересы, даже за границами ее территорий. Большинство глав государств Североатлантического блока придерживаются политики ядерного сдерживания. Тот же Р. Рейган в том же Норфолке на церемонии официальных проводов заявил, что главный итог деятельности американской администрации видит в том, что ей удалось неслыханно поднять и укрепить авторитет армии США.
Вот так в Америке. А как у нас сегодня с авторитетом нашей армии? Прямо скажем, неважно. И кто только сегодня не пытается укусить российских военных, а если не укусить, то хоть штаны на них порвать. Тут и маститый кинорежиссер, которому приятель рассказал байку о том, как он «утирал сопли лейтенантским детям», и сатирик, и «пожилые» поэты, и популярный журнал, около которого кто только теперь не греется, и молодежная газета столицы, и бойкие ребята из программы «Взгляд» и прочая, и прочая. И в чем только не обвиняют родное воинство, захлебнувшись в демагогических словопрениях, «борцы за демократию и гласность». Тут и консерватизм, и ретроградство, и чуть ли не тунеядство.
Слов нет, нас есть за что ругать. Ни «дедовщина», ни случаи хамства по отношению к подчиненным всех категорий, ни бюрократические метастазы не прибавляют нам авторитета. Но мы отлично знаем, чей хлеб едим, и платим за него потом, кровью, а нередко и жизнью.
К слову сказать, неуставными взаимоотношениями сегодня живет все наше общество, а тысячи его представителей бесславно сложили голову в пока что безуспешной борьбе с бюрократами.
Армия, как орудие государства, как часть общества, подверглась коррозии, но отнюдь не проржавела насквозь, как это хотелось бы некоторым представить, и с честью выполняет нелегкие функции, возложенные на нее Конституцией СССР.
Есть категория «критиков», которые не по недомыслию, а вполне сознательно развернули деятельность по разложению Вооруженных Сил, небезосновательно видя в них один из главных гарантов перестройки. С кем сегодня будет армия – вопрос далеко не праздный. Для нас нет альтернативы. Мы – с Родиной, Отечеством, мы – с народом, который выстрадал сегодняшние перемены.
Витийствующие ораторы аз «Демократического союза», «Союза независимых» и прочих «союзов», либеральные публицисты многих изданий, от «Огонька» до «Московского комсомольца» и «Собеседника», готовы сегодня же распустить армию: ломать – не строить. Один раз мы уже разрушили наш мир до основанья, а затем пожинаем нынешние проблемы. Дальше что?
Не надо быть оракулом семи пядей во лбу, чтобы, реально оценивая нынешнюю обстановку, не понять, что даже в рамках разумной достаточности Вооруженные Силы будут нужны еще не один десяток лет. Но вот какими им быть – это тема для размышлений. Сегодняшний дефицит государственного бюджета, обострившиеся до крайности социальные проблемы не позволяют провести радикальные изменения в принципах комплектования армии, ее организационной структуре, формах и методах обучения, материальном стимулировании.
Не претендуя на истину в последней инстанции, позволю предположить, что рано или поздно мы вынуждены будем комплектовать армию по профессиональному принципу, поскольку это веление времени. Представляется, что главной фигурой в профессиональной армии будет командир-единоначальник, сочетающий в себе талант полководца в педагога, гибкую мудрость политика, отцовскую строгость и доброту. А посему, видимо, многие промежуточные звенья, а может быть, и те, которые мы сегодня считаем главными, если и не отомрут, то значительно трансформируются.
Коль скоро мы не можем сегодня говорить в целом о профессиональной армии, то на ее костяк – офицерский состав, ту часть Вооруженных Сил, которую мы называем профессиональной, надо уже сегодня, безотлагательно обратить серьезное внимание.
Сокращая в одностороннем порядке численность наших войск, мы без устали повторяем, что сохраним боеготовность на достаточном уровне за счет качественных параметров. Спрашивается, каким образом? Увеличим пребывание офицеров в частях и подразделениях? Они и так практически там днюют и ночуют. Растянем сутки?
В данном случае качество, т. е. эффективность боевой подготовки войск, находится в прямой зависимости от количества материальных благ, вложенных в офицерский состав. Это элементарно. Это – диалектика. Очевидно и другое: время ультрареволюционных лозунгов и голого энтузиазма кануло в Лету.
Десятилетиями о языков обывателей капало ядовитое: «Бешеные деньги! За что?»
Теперь, когда занавес приоткрылся, оказалось, что и деньги-то так себе, невеликие, и жить негде, работа для жены – журавль в небе, для детей – ни садов, ни яслей, да и школа не ахти какая, да через каждые пять-шесть лет, порой и чаще, вся жизнь сначала. А напряжение адское, и головой рискуешь каждый день.
Не надо удивляться, что конкурсы в военные училища, пожалуй, кроме воздушно-десантного, с каждым годом все ниже и ниже, а кое-где и недобор, а посему укомплектуем хоть кем-нибудь, А потом патетические восклицания: «Вот раньше были офицеры – цвет нации!»
Откуда же ему взяться, цвету нации, если общий интеллектуальный уровень нашего общества катастрофически упал, а всеобщее среднее оказалось ниже начального, да и высшее не лучше.
Специалисты констатируют, что школа стала фактором бездуховности. А вот и известные данные: по образовательному индексу мы находимся на двадцать пятом месте.
Ежегодно армия и флот принимают тысячи новобранцев из этой школы. И большая часть их несет с собой в казармы агрессивность, сексуальную развращенность, у многих психика поражена алкоголем, нарко– и токсикоманией.
И офицерский состав сегодня не готов противостоять потоку бездуховности: образование, которое в настоящее время получают офицеры, не готовит их к работе с людьми в новых, резко изменившихся социальных условиях.
Положение нужно и можно изменить. Но об этом чуть позже.
Не могу не привести слова из ленинских «Страничек из дневника»:
«Оказалось, что, как и следовало ожидать, от всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами (1897 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культуры». Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы».
(Полн. собр. соч. т. 45, с. 363—364).
А вот еще один из выводов Ленина:
«Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были о г р а б л е н ы в смысле образования, света и знания, – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России».
(Полн. собр. соч. т. 23, с. 127).
Я с болью цитирую Полное собрание сочинений потому, что, даже делая поправки на время, прошедшее с октября 1917 года, видно, что, конечно, мы сделали шаг вперед, но вовсе не такой большой, как нужно, чтобы изменить эту удручающую картину. И снова эффект все того же пресловутого остаточного принципа.
Чернобыль, Башкирия, атомная подводная лодка «Комсомолец» и сотни других трагедий – не чрезвычайные происшествия. Это закономерные последствия нашего интеллектуального уровня.
Вот уж воистину «Быть или не быть?», потому что завтра будет поздно, и мы отстанем от настоящей цивилизации не на десятилетия, а навсегда.
Уже сегодня каждая социальная и профессиональная категория должна серьезно заняться проблемой своего воспроизводства, причем на два порядка выше ныне существующего.
Немедленно решая острейшие социальные проблемы в армии, и прежде всего ее кадрового состава, нужно подумать и о перспективах интеллектуального и профессионального роста офицеров. Одной из действенных мер в решении этой важнейшей задачи, думается, было бы расширение числа суворовских и нахимовских военных училищ и увеличение продолжительности обучения в них.
Задача состоит в том, чтобы создать систему, основанную на беспрерывной преемственности этапов обучения: суворовское или нахимовское училище – высшее военное училище – академия.
Суворовцы и нахимовцы и сегодня выделяются в армии и на флоте и статью, и кругозором, и воспитанием.
Как выпускник Свердловского суворовского военного училища, попробую, хотя бы в общих чертах, восстановить то далекое время и с позиций прожитых лет оценить его.
Суворовские училища были созданы в декабре 1943 года в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа того же года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Тысячи мальчишек, лишенные крова, потерявшие родителей в годы военного лихолетья, надели алые погоны. Как написал один из первых наших выпускников:
В годину боевую и суровую
Отчизна нас под знамя созвала,
И именем фельдмаршала Суворова
Она наш юный корпус назвала.
Училище заменило нам родной дом, а офицеры-воспитатели и преподаватели – родителей. И надо сказать, что относились они к нам, как к родным сыновьям, а может быть, и чуточку лучше.
Общеобразовательным дисциплинам уделялось первостепенное внимание. Преподаватели были экстра-класс. Общение с ними – наслаждением. Уроки русского языка, литературы, истории, географии – как спектакли в Малом театре! На каждом из них открытия, откровения, праздник познания.
Если на занятиях по гуманитарным предметам мы пребывали в состоянии великого блаженства, то на уроках по точным наукам нам буквально «выкручивали руки». Естественно, больше других страдали «лирики».
Особенно «зверствовал» наш математик, капитан Морозов, поджарый, высоченного роста; казалось, что от доски до последней парты он дотягивался указкой. Аргументы «может быть», «мне кажется» воспринимались им как бранные выражения, и тогда на весь класс разносилось громогласное: «Единица!!!» Так и звали мы его, нашего дорогого математика, – Единица.
Тот, кто видел картину Богданова-Бельского «Устный счет», без труда может представить наше состояние: та же отрешенность лиц, тот же невообразимый бег мысли. Как говорится: «Ни прибавить, ни убавить». Целый год мы алкали возмездия. Дело в том, что в финале ежегодного майского спортивного праздника по случаю открытия сезона в футбольном матче встречались команды суворовцев и преподавателей. Нетрудно догадаться, кто защищал ворота наших наставников. Забить ему гол, даже с пенальти, было невероятно трудно, почти невозможно. Но если это случалось, ликованию нашему не было предела. Итальянские «тиффози» по сравнению с нами в этот момент выглядели смирными овечками. Неделю отделение, в списках которого значился отличившийся, поило его компотом. Я такой чести не удостоился.
Сравнивая нынешний уровень преподавания в средних школах, а я дважды с сыновьями прошел эти муки ада, могу без преувеличения сказать, что наша альма-матер была почти Кембриджем. В пятнадцать лет мы читали в подлиннике Бернса, Лонгфелло, Теккерея, наизусть знали репертуар Дорис Дей и Луи Армстронга. Занятия по иностранному языку проводились каждый день. А один день в неделю – разговорный, то есть с подъема до отбоя на английском. И так в течение шести лет.
Как и иностранный язык, каждый день физподготовка. Это была одна из самых сложных дисциплин, потому что включала в себя гимнастику, плавание, легкую атлетику, бокс, лыжи, фехтование, полосу препятствий, рукопашный бой, спортивные игры, а в некоторых училищах и верховую езду и вольтижировку. Оценка выставлялась суммарная, и если хотя бы один из перечисленных видов не был усвоен, то общая – «неудовлетворительно». Считалось дурным тоном, если у тебя было меньше двух-трех спортивных разрядов.
По спортивной классификации мы делились на «зеленых», «синих» и «красных». Поколение пятидесятых помнит, какие красивые значки были в ту пору. Зеленая, синяя и красная каймы соответственно обозначали III, II, I разряд. Внутри красовалось изображение боксера, футболиста, хоккеиста и так далее, олицетворявшего вид спорта. Каждый горы готов был свернуть, чтобы стать обладателем такого значка. А представьте, когда у тебя их три на груди, да все красные…
Вообще, спортивные навыки и традиции мы впитывали, можно сказать, «с молоком матери». В штате училища «разнорабочими» значились прославленные конькобежцы Мария Исакова и Рафаэль Грач, на базе нашего спорткомплекса совершенствовали мастерство известные хоккеисты Евгений Папугин, Николай Дураков, Валентин Атаманычев. Вечно мы «болтались под ногами» то у Аркадия Воробьева, то у Нила Фасахова, то у Константина Ревы… Выло на кого посмотреть, было у кого поучиться.
Не с болью, не с жалостью, а с глухим раздражением смотрю я на нынешних патлатых феминизированных неформалов с серьгами в ушах, с которыми мы носимся как с писаной торбой и не знаем в какой угол поставить. Сморщенные лица, тоненькие шейки, согнутые под тяжестью брелка на цепочке, не знают, с какой стороны к перекладине подойти – потенциальные объекты для неуставных взаимоотношений. А вот мы в юные годы любому «деду» могли «бороденку» повыщипать!
У молодежи, конечно, есть справедливые претензии к нынешнему времени. Я далек от мысли осуждать огульно все неформальные организации. Я против тех неформалов, которые выражают протест – кому? – неприглядной внешностью и бездельем.
Может сложиться впечатление, что росли мы этакими мамелюками. Слов нет – с 10—12 лет действительно вели мужской, можно сказать, спартанский образ жизни. Однако мы были детьми, со всеми присущими детству эмоциями. Больше всего давила тоска по дому – каким бы у кого он ни был. Занятые днем важными делами, ночью мы оставались один на один с собственными мыслями. Часто в предрассветные часы, когда одних сны уносили в туманную даль, а другие рапортовали: «Прибыл! Готов! Есть!», в спальных комнатах раздавались разрывающие душу всхлипывания, сквозь которые доносились бормотания: «Мама… мама… мамочка!..»
Но вот наступало утро, и все шло по суворовским строгим правилам: зарядка, обтирание ледяной водой, учебные занятия…
Здоровых увлечений в училище была уйма: столярное и слесарное дело, вождение автомобиля, драматическая студия, музыка, танцы и правила хорошего тона. И везде хотелось успеть, а когда интересы пересекались, чем-то приходилось жертвовать. Помню, присмотрел нас на катке тренер свердловского СКА по хоккею с шайбой. Пригласил в спортклуб – каждому мастерские коньки, шлемы, снаряжение, набор клюшек. Кто устоит? И пошло-поехало.
Чистенькая, интеллигентная, благородная старушка, которая научила меня играть уже в две руки «Как на маленький лужок выпал беленький снежок», занятия которой я перестал посещать в связи с «хоккейной лихорадкой», высмотрела меня как-то остренькими глазками в толпе, поманила пальчиком:
– Молодой человек! В чем дело?
– Да… да… – промычал я.
– Глупо-с, глупо-с…
Как она была права! Недавно душа музыки запросила. Открыл крышку рояля, ударил по клавишам – и получилось как по Некрасову: «Этот стон у нас песней зовется». Вот такая «музыкальная история».
Получали мы уроки нравственности и социальной зрелости, которые на всю жизнь формировали нашу жизненную позицию. Делалось это очень мудро и тонко, как бы исподволь, а след в душе оставляло навсегда.
Помню, готовились к ответственным соревнованиям. Все у нас ладилось, до того ладилось, что на тренировках работали вполсилы, небрежно: вирус зазнайства основательно разъедал команду. Нас надо было немедленно встряхнуть.
Уж не знаю, кто был автором той акции, сейчас думаю, что это плод коллективного творчества: командования, педсовета и тренеров. Честь «фирмы» тогда берегли как зеницу ока все, от суворовца до генерала, о чем бы ни шла речь: математическая ли олимпиада в городе, встреча гостей или спортивные соревнования. Подыскали нам спарринг-партнера – команду ремесленного училища при Уралмаше.
Выкатились на лед, похохатываем, разминаемся: шайбу в борт, на себя, в ворота, за воротами вираж, аж снежные брызги из-под коньков. В общем, «давим» морально. «Противник» ваш в скромной форме, тихонько раскатывается (есть такой спортивный термин) у своих ворот.
Свисток. Шайба вброшена в игру.
«Гости, – как скажет Николай Озеров, – действовали от обороны». Встречали нас у синей линии и ни на шаг, как приклеенные. А ноги сильные, а кулаки у «металлистов» тяжелые, в борт припечатают – искры из глаз. Закончился второй период, 0 : 2 проигрываем. Однако настроены по-прежнему благодушно: время еще есть.
Последний период. Кинулись отыгрываться, но ничего не можем сделать. Торопимся, теряем шайбу в безобидных ситуациях, «фолим» безбожно. А ремесленники прибавляют и прибавляют обороты. Финальный свисток поверг нас наземь, а точнее, на лед: 0 : 4.
Хотите верьте, хотите нет, но до сих пор, когда встречаю ребят из ПТУ, непроизвольно тянусь рукой к козырьку – хочу поприветствовать. Искренним уважением проникся я с тех пор к рабочему классу.
Да иначе и быть не могло. Город наш рабочий. Десятки заводов. Народ прямой, открытый, честный. Здесь мгновенно, без дипломатических выкрутасов, выдавалось доброму за доброе, подлому за подлое. Завоевать авторитет в Свердловске, а тем более первым лицам города, было ох как не просто.
Но город не только работал – город учился, и если вы на трамвае попадали с Уралмаша во Втузгородок, где располагается один из ведущих вузов нашей страны, Уральский политехнический, то складывалось впечатление, что Свердловск – вотчина студентов. Многие выпускники УПИ занимают сегодня ответственные государственные посты. С их деятельностью мы связываем надежды на успешное завершение тех дел, которые начались в апреле восемьдесят пятого.
Театры города, завсегдатаями которых мы были, – воплощение высшей духовности. А какие имена! Архипова, Штоколов, Маренич…
Так и пошли с той далекой поры по жизни с нами Мусоргский и Чайковский, Мольер и Сирано де Бержерак, Островский и Шекспир, Штраус и Кальман.
Незабываемые годы!
В выходные и праздничные дни на всех этажах клубились пары асидола, сапожного крема, одеколона. Как челноки в ткацкой машине, мелькали раскаленные утюги – училище готовилось к балу. И вот долгожданная минута. Маэстро на антресоли взмахнул дирижерской палочкой. Мазурка! В первой паре начальник училища с супругой, за ним его заместители, старшеклассники и мы, стриженные «под ноль», но такие же гордые и галантные.
Как же нас надо было любить и понимать, чтобы даже в экстремальных ситуациях не сорваться на крик, не наломать дров!
Помню, как-то накануне ноябрьского парада канцелярия, в которой висели шашки офицеров парадного расчета, оказалась незапертой. Быстро кинули жребий – двое «махновцев» в засаде, двое «пархоменковцев» в разведке. Я с другом – в засаде. Схватка была жестокой: булат звенел, крошился, плавился.
Утром наш офицер-воспитатель майор Иван Степанович Герасев, вынув шашку из ножен, охнул, смертельно побледнел, сполз по стене на пол и только выдохнул: «Зарезали!» Парад-то принимал Николай Иванович Крылов, человек обаятельный, но правил строгих. Новые шашки получили на складе, а у меня до сих пор спина «кружится», когда и вспоминаю обильно политые потом с о т н и квадратных метров сияющего паркета.
Когда же терпение наших педагогов лопалось, применялись «телесные» наказания. В нашей роте самым популярным видом наказаний были приседания от пятидесяти да ста раз подряд, в зависимости от тяжести совершенного «преступления». К наказанию относились с презрительной усмешкой – дескать, с нашей-то тренировкой. Однако не подозревали, что приседания н а в р е м я носили особый воспитательный смысл. Утром мы были похожи на журавлей: ноги не сгибались.
И вот наконец долгожданный выпускной вечер. Оркестр, цветы, аттестаты, курсантские погоны и наши милые подружки. Прощальные аккорды любимой песни:
Друг мой, одной дорогой
Шли мы из года в год,
Радостей было много,
Много было невзгод,
А унесем с собою
Небо голубое,
Детства безоблачный, ясный сон,
Суворовский алый погон.
Прощались, прятали глаза друг от друга, обменивались новыми адресами и не подозревали, что с кем-то расстаемся навсегда.
Не будем идеализировать нашу жизнь. Все было. Были и потери: кого-то подстерег недуг, кто-то так и не смог осилить учебную программу, кто-то «утонул» в море житейских страстей, но тот, кто удержался на «волне», вынес из стен училища беззаветную преданность Родине и любовь к ней, обостренное чувство достоинства и офицерской чести, верность слову и делу, преданность мужской дружбе.
Из девятнадцати суворовских и трех нахимовских училищ, действовавших в 50-е годы, сегодня в стране – восемь суворовских (Казанское, Калининское, Киевское, Ленинградское, Минское, Московское, Свердловское, Уссурийское) и одно нахимовское – в Ленинграде.
Разумеется, что в середине 50-х годов наше общество испытывало большие трудности: каждая копейка была на учете, и вот сначала расформировали спецшколы, затем сократили суворовские и нахимовские училища. Однако, как свидетельствует действительность, от этих мер мы больше потеряли, чем приобрели: один из первых выпусков суворовцев 1950 года, например, насчитывал примерно четыре с половиной тысячи ребят, прибавим к ним выпускников спецшкол, – вот сколько образованных, воспитанных в лучших военных традициях юношей становились курсантами училищ. Ныне такими абитуриентами мы похвастаться не можем. А сегодняшней армии так нужны кадры, какие начинали растить суворовские училища «старого» образца, которые очень были похожи на лицеи.
Зарубежные специалисты провели в свое время исследования систем образования, существовавших у разных народов в разные времена. Оказалось, что системы лучше, чем та, которая существовала в Царскосельском лицее, человечество не придумало. В самом деле, какая блестящая плеяда выпускников: Пушкин, Кюхельбекер, Данзас, Дельвиг, Пущин!
Одно из главных достоинств образовательной системы прошлого – начала нынешнего века – в ее сильнейшей гуманистической направленности. Для представителей определенных слоев, а среди них обязательно были военные, было просто необходимо знать языки, литературу, разбираться в живописи, искусство. Такое воспитание развивало чисто человеческие качества: патриотизм, порядочность, честь, умение сопереживать, творить добро.
В Царскосельском лицее гуманитарное образование было поставлено на высочайшем уровне. Без всяких оговорок утверждаю, что в суворовских училищах 50-х годов оно также было на очень высоком уровне. И не случайно, что в числе выпускников СВУ нынешние командующие, заместители командующих войсками военных округов, групп войск и объединений, летчики-космонавты, Герои Советского Союза. Среди них наша общая гордость – выпускник Калининского суворовского, Герой Советского Союза генерал-полковник Б. В. Громов, легендарный командарм 40-й.
Теперь в суворовских училищах учатся два года. Безусловно, это не срок для создания прочного интеллектуального фундамента. По мнению большинства преподавателей, ровно год уходит на то, чтобы подтянуть всех зачисленных до необходимого уровня. А за оставшийся год многое ли сделаешь, даже при наличии блестящих преподавателей?
Два года назад в периодике было опубликовано несколько статей о проблемах суворовских училищ, многие авторы которых считают, что продолжительность учебы в них нужно увеличить до трех лет.
Думается, что пятилетний срок обучения самый оптимальный. И именно с двенадцатилетнего возраста, когда у подростка проясняется сознание, идет самый эффективный процесс накопления знаний и информации, когда его душа и тело еще не исковерканы страшными пороками, когда он еще не только сосуд, который можно наполнить знаниями, но и факел, который можно зажечь.
Кого сегодня принимают в суворовские училища? Вот выписка из Правил приема:
«В суворовские военные училища могут поступать учащиеся (юноши) в возрасте 15—16 лет (в год поступления в училище) с восьмилетним образованием, годные по состоянию здоровья к обучению в училищах и желающие в будущем стать офицерами».
Судя по заявлениям, которые оседают в военкоматах с 1 по 25 июня каждого года, 13—14 человек претендуют на одно место в суворовском училище.
Затем суровые испытания медициной: «Годные по состоянию здоровья».
Эта формулировка означает способность переносить физические и психические нагрузки в условиях Заполярья, пустыни, высокогорья, болотистой и прочих местностях, в самых разных климатических поясах. Переносить не в экспериментальных условиях, а в повседневных, до предела напряженных офицерских буднях.
Категорическая резолюция: «Не годен по состоянию здоровья» – ложится на половину заявлений абитуриентов.
В этот первый отсев попадают, как правило, юноши, которые не обладают элементарными навыками физической культуры, той частью общей культуры, которая у нас не без иронической усмешки часто ассоциируется с набившим оскомину и потому потерявшим всякий смысл призывом: «Физкульт-ура! Физкульт-ура! Будь готов!..» Кому «ура!»? К чему «готов!»?
Демагогический лозунг «За здоровый образ жизни» похож сегодня на известное изречение Ходжи Насреддина: «Сколько ни говори: «халва», во рту сладко не станет».
Здоровый образ жизни – это прежде всего социальный оптимизм общества, подкрепленный материальными благами: разнообразным и качественным питанием, рынком, на котором нет проблем с кроссовками, теннисными мячами, футболками, шортами, широкой сетью стадионов, спортивных площадок, бассейнов.
В последние годы в погоне за «олимпийскими резервами и надеждами» мы загнали нашу массовую физкультуру в угол. И если называть вещи своими именами, то у нас ее вообще нет. А наши так называемые спортивные праздники для народа на центральных спортивных аренах? Слезы! Два прихлопа, три притопа под аккомпанемент Аллы Пугачевой. Однако мы отвлеклись.
После медицинской комиссии в дело вступает разнарядка. Облвоенкому, к примеру, она предписывает отобрать 30 человек, а заявлений – в два раза больше.
Потом общий поток заявлений корректируется отборочной комиссией военного округа. В училища отправляются именные списки кандидатов и документы на каждого из них. Получается 3—4 претендента на место.
По терминологии, которую знают сегодня все поступающие в СВУ и их родители, претенденты на алые погоны делятся на три категории: «папанинцы» – от слова «папа», «позвонки» – те, которые по звонку, и «лесорубы» – те, которые с одним «топором» в «непролазной чаще» правил, комиссий, экзаменов, конкурсов.
В самом трудном положении оказываются, естественно, «лесорубы», у которых и подготовка хуже, с которых и спрос строже, по отношению к которым никаких компромиссов. Естественно, возникает вопрос о «балле» на социальную справедливость, который может получить мальчишка из сельской восьмилетки, а таких сегодня среди абитуриентов всего четыре процента, где математику, литературу и физкультуру преподает вчерашняя десятиклассница.
Да, педагогический опыт и выработанная им интуиция – качества полезные. А насколько надежно они могут обеспечить принцип социальной справедливости? Есть ли гарантии, что этот «балл» будет всегда выставлен чистыми руками и от чистого сердца? Справедливости послужит, наверное, и система профессионально-психологического отбора, который предполагается ввести вместо устного экзамена по математике. Тем более что в высших военных учебных заведениях уже накоплен опыт профотбора, который позволяет учителям определить лучших, а поступающим не полагаться в выборе профессии только на эмоции.
Сегодня армия – это сложнейшая техника, электроника, высочайшие физические и моральные нагрузки, и эти факторы определяют требования, предъявляемые к юношам, избирающим профессию офицера. Но вправе ли мы лишать всех желающих посвятить жизнь благородному делу – служению Отечеству, а особенно тех мальчишек, кто обижен нами, кто менее всего защищен социально?
До пятьдесят третьего года, надрывая голосовые связки, мы кричали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» После пятьдесят третьего тоже кричали, правда несколько в другой интерпретации. До слез умилялись, когда смотрели телерепортажи из «Артека» или с Красной площади, где стайка сытеньких, красивеньких, специально по этому поводу одетых девочек и мальчиков, олицетворяющих наше «благополучие», получали коробки с конфетами, как говорится, из первых рук.
А вот наше «светлое будущее» в цифрах: 1 100 000 детей живут и воспитываются государством в детских домах и интернатах. 1 185 000 детей страны страдают психическими заболеваниями, 900 000 подростков ежегодно задерживаются за правонарушения. В 1987 году 2194 ребенка покончили жизнь самоубийством.