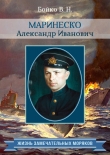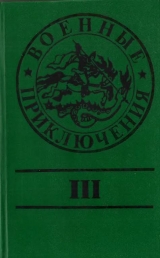
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Гетман еще тешился последней надеждой в проигранной уже битве с русским войском. Здесь полководец польско-литовского войска не строил иллюзий. Он надеялся на то, что московскую конницу удастся хоть на малое время удержать перед огромным войсковым обозом. И под его прикрытием вывести личную дружину, часть конницы на ту сторону Ведроши – столько, сколько позволит мост. И сколько позволит победитель. А остальных побьют русичи или же с бесчестьем возьмут в плен.
Другого исхода идущей к концу битвы Острожский просто не видел. Но он думал сохранить от полного разгрома хотя бы часть великокняжеского войска.
Острожский не успел доскакать до обозов. Наперед мчались ратники засадного полка, явно прицеливаясь к сотне-другой богато разодетых всадников, среди которых металось от бешеной скачки по воздуху княжеское знамя. Бежавшим пришлось сворачивать вправо, к дороге, что без изгибов шла недалеко от днепровских заболоченных берегов.
Здесь-то и набежала на остатки гетманской свиты удалая сотня тверян – детей боярских и их вооруженных на войну холопов под командованием Кузьмы Новгородца. Воевода Щеня правильно рассчитал, что нельзя было допускать князя Острожского до обозов.
Часть гетманских слуг схватилась за оружие. Воины Новгородца разом взяли их в сабли и уложили под ноги коней. На пыльной дороге вокруг теснившихся около князя Острожского шляхтичей-«рыцежей» и слуг-похаликов сомкнулось плотное кольцо окольчуженных русских всадников, Из их рядов кричали:
– Сдавайтесь! Или смерть вам будет здесь!
Теперь судьба окруженных зависела от воли гетмана. Думать ему долго не приходилось. И Константин Иванович, будущий великий полководец Польши и Литвы, принял решение. Высмотрев среди крутящихся на конях русских всадников старшего, князь Острожский подъехал к нему:
– Сдаюсь на волю московского воеводы князя Даниила… – И протянул сотнику Кузьме Новгородцу дорогую, всю изукрашенную золотом и драгоценными каменьями гетманскую саблю рукояткой вперед. Тот молча принял клинок в руки.
Войско Великого княжества Литовского осталось без полководца.
Гетман оглянулся на своих приближенных. Они следовали его примеру: под ноги коней летели сабли, кинжалы, копья, боевые рукавицы, мисюрки… О бессмысленном сопротивлении никто и не думал. Впереди была неволя до тех пор, пока великие князья не подпишут между собой мир, теперь уже неравный – в пользу победительницы-Москвы, и не договорятся о размене пленных. Или об их выкупе. Владелец обширных земель, многих городов, местечек и сел на Волыни, в Подолии и других мест стоил дорого. И мог заплатить за себя большие деньги. Если на то, разумеется, согласятся победители – Москва считалась не из бедных столиц.
Новгородец приказал сдавшимся в плен сойти с коней. Всем, кроме великого гетмана. Побежденный оставался князем. И мог еще стать большим воеводой в огромном войске великого московского князя Ивана III Васильевича. Было правило в те времена у сильных владык – храбрых военачальников врага, взятых в плен, брать на службу к себе.
Оставив пленников на попечение старшего из десятников, Кузьма Новгородец, развернув по дороге коня, повел гетмана навстречу воеводе Щене. За ними везли родовое знамя князей Острожских. Сотник не без гордости смотрел прямо перед собой: еще бы, главный военачальник вражеского войска сложил свое оружие перед ним, в недавнем времени простым порубежным стражником из псковских земель.
Когда к ним подскакал с походным «штабом» старший воевода московского войска, Кузьма Новгородец молча протянул князю Даниилу Васильевичу гетманскую саблю. Родовое знамя Острожских склонилось перед фамильным стягом будущего рода Щенятевых, что вошли в историю России из боярского рода Патрикеевых. А князь Константин Иванович сошел с коня и встал перед воеводой Щеней с непокрытой головой…
Тем временем почти все польско-литовское войско сгрудилось на берегу Ведроши среди тысяч обозных повозок и телег. Крики отчаяния и бессильной ярости неслись от реки. Бежавшие с поля боя нашли на ее крутом берегу вместо спасительного моста лишь еще дымившиеся, обуглившиеся его остатки. Русские воины лишили противника последней надежды на спасение бегством в заречные леса.
Однако нашлось немало отчаянных шляхтичей, которые, сбросив с себя хоть что-то из тяжелых доспехов, расставшись с оружием, кидались с конями в полноводную реку, Смельчаки, сразу попадая в водовороты, тонули с мольбами о спасении. Но некому было им помочь. В те времена Ведрошь вниз по большой Московской дороге не имела брода вплоть до впадения в еще более полноводный Днепр.
Лишь единицы пытавшихся вплавь перебраться через глубокую реку сумели с невероятным трудом достичь противоположного, обрывистого берега. Тем, кому посчастливилось сделать это, пришлось бросить на погибель спасительных коней. И пешими, безоружными без оглядки бежать в ближайшие леса.
А Ведрошь понесла по Днепру к морю множество людей и коней, нашедших в ее светлых водах погибель свою.
В поисках брода сотни конных поляков и литовцев бросились вдоль берега Ведроши к Днепру. В тщетной попытке спастись они неслись галопом по зеленой луговине. Но ноги притомившихся коней стали вязнуть в болотной воде. Несмотря на отчаянные понукания потерявших голову всадников, храпящие кони дальше не пошли…
Когда конные тысячи Дмитрия Патрикеева и засадного полка на всем скаку подлетели к загроможденному неприятельским обозом берегу Ведроши, сопротивления они не встретили. Побежденные молча сходили с коней, бросали на землю оружие, бережно укладывали на траву знамена я штандарты полков, личных дружин магнатов, отрядов…
Подскакавшие к обозу воеводы Юрий Кошкин с братом Яковом и Дмитрий Патрикеев сигналами набатов и рожков остановили разгоряченных воинов своих полков, готовых с размаху влететь с саблями наголо во вражеский обоз.
Битва закончилась.
И боярин Юрий Захарьевич, и молодой Патрикеев приказали своим тысяцким принимать пленных по счету, собирать оружие в знамена, сбивать в табуны оставшихся без хозяев коней. В захваченном обозе выставили строгую стражу – чтобы не было какой шалости со стороны пленных и своих же ратников. Огромный обоз стал военной добычей великого князя московского.
А сами полковые воеводы стали принимать в плен себе равных, знатных людей польских и литовских земель. Принимая их личное оружие, беседовали с ними и находили многих в дальнем или даже в ближнем родстве. В те далекие века родовые ветви русских, польских и литовских князей не раз переплетались между собой.
Вечерело. Солнце, ушедшее за Ужу, за недалекий от Дорогобужа Смоленск, играло по вершинам окрестных лесов последними своими красками.
По всему Митькову полю разжигали костры. И там, где устраивались на ночлег прямо под открытым небом сотни московского войска, и там, где разбивались для князей и тысяцких шатры. Десятки гуляй-города по случаю победы разрешали разводить костры прямо под щитами – в тех местах, где деревянная крепостная стена победно завершила свою атаку.
За русскими кострами было весело и шумно, хотя то здесь, то там, крестясь, добрым словом вспоминали павших в битве товарищей, родных и близких, просто земляков. Много слез будет пролито по ним на Москве и в Твери, городах и весях Смоленщины, новгородских и рязанских земель, в Заволжье…
Горели костры и в лагере, где расположились на ночлег, тоже на голой земле, в большом числе пленники. Тихо было вокруг их костров. Здесь молча вспоминали о погибших. Лишь ходили вокруг лагеря и перекликались между собой ночные стражники…
Уже ночью кашевары в сотнях первый раз в день накормили воинов горячей пищей, обильно сдобренной крупно порезанной копченой говядиной. Варево запивали из ковшиков прохладной речной водой.
Лишь в княжеских шатрах всю ночь шел пир. Воеводы, тысяцкие и избранные из сотников и детей боярских справляли победное застолье. Подымали заздравные чаши в честь великого князя московского, его любимого воеводы Даниила Васильевича Щени из рода Патрикеевых, других отличившихся воевод русского войска. Славили и сотников – Кузьму Новгородца и Валентина Осипенкова. По заслугам была и им честь.
И, по обычаю, пировали с ними побежденные князь Константин Иванович Острожский со своими магнатами из польских и литовских земель. Те, кого в жестокой битве миновал железный дроб пищалей гуляй-города, тупая стрела самострела, секира или сабля русского ратника. Те, кто не бросил с разбега своего загнанного коня в губительные воды неизвестной им до сих пор реки Ведроши.
А в дубраве выли волки, почуявшие добычу и стаями сходившиеся к Митькову полю. Им из-за реки подвывали собратья…
Рано утром, по восходу солнца, оставшиеся в живых вышли в Митьково поле к павшим в битве. Хоронили их в братских могилах. Русичей отдельно от погибших поляков и литовцев. Священники из русского войска, из войска поверженного противника справили по ушедшим из жизни тризну. И победители, и побежденные встретили в день 15 июля восходящее солнце с непокрытой головой.
Старший воевода велел собрать с поля битвы брошенное оружие и воинские доспехи. Сосчитать потери в людях – собственные и противника. И о том докладывать великокняжескому писарю – ему скрипеть перьями по пергаментным листам, готовя победное донесение в Москву.
В кругу воевод Щеня назвал имена сотников, которые повезут в Москву великому князю Ивану III Васильевичу радостную весть о славной победе русского оружия. О победе в битве на реке Ведроши, что впадает в Днепр близ смоленского города-крепости Дорогобужа, стоящего на большой Московской дороге. Такими вестниками стали сотник засадного полка Валентин Осипенков, заслуживший столь высокую честь своей ратной доблестью при уничтожении ведрошского моста, и командир сотни разведчиков старшего воеводы Кузьма Новгородец, стороживший польско-литовское войско по ту сторону Ведроши.
Князь Даниил Васильевич так и сказал с поклоном позванным в его шатер Новгородцу и Осипенкову:
– Не каждый сотник может предстать перед очами нашего владыки Ивана Васильевича, да еще в великокняжеских московских палатах. То честь вам за мост, что спалил огонь во вчерашней битве, за то, что враг, выказав себя, не видел войско наше…
…Вместе с гонцами разлетится по всей Руси добрая весть о великой битве и славной победе над сильным противником. Будет передаваться из уст в уста и имя старшего воеводы князя Даниила Васильевича Щени. И будет славить его и войско русских ратников во всех больших и малых церквях, монастырских храмах. Славить под малиновый колокольный звон…
…Потери почти сорокатысячного русского войска были несравненно малы с теми потерями, что понесло войско противника. Павшие были среди воинов передового полка воеводы Дмитрия Патрикеева. Были погибшие, а еще больше раненые среди защитников гуляй-города. Его дубовые щиты послужили воинам надежной защитой даже в самые жаркие часы битвы. Среди московских и тверских конных ратников, что входили в состав засадного полка и шли в атаку из-за стены деревянной полевой крепости, потерь почти не было.
Воевода, одержав победу в большой битве, сохранил великому московскому князю его главное войско. То было проявлением великого ратного искусства великого русского полководца.
Потери польско-литовского войска были несравненно большими. Только одних убитых насчитали на поле битвы свыше восьми тысяч. Не считая тех, кто утонул в Ведроши и погиб в схватках с передовым полком на большой Московской дороге от реки Ужи до ведрошского моста. А войско гетмана Константина Острожского насчитывало в своих рядах чуть более сорока тысяч человек. Сумели переплыть Ведрошь лишь единицы. Более трех четвертей гетманских воинов попало в плен.
В плен попал и сам полководец вражеского войска князь Константин Иванович Острожский. И, как писали летописцы, вместе с ним в полон ушли двенадцать великих воевод-вельмож польской и литовской земель.
В руки победителей досталась вся артиллерия, собранная со стен городов-крепостей и замков Польши и Литвы по случаю великого похода для отвоевания Дорогобужа.
Среди трофеев оказалось все оружие и доспехи войска противника. Все знамена и шатры. Воеводские набаты – особая гордость и украшение любых армий тех времен. Весь огромный войсковой обоз с огневыми припасами, продовольствием и снаряжением. Гетманская казна. И несколько десятков тысяч боевых копей и обозных лошадей.
Главное войско будущего короля польского, великого литовского князя Александра Казимировича, собранное с подвластных ему земель от границ с Крымским ханством до границ с Ливонским орденом рыцарей-крестоносцев, перестало существовать.
…Посланные старшим воеводой главной русской рати гонцы, не раз и не два меняя по большой Московской дороге коней, быстро домчались до кремлевских стен. Скуповатый на милости, великий князь прилюдно обласкал их, поднеся собственноручно сотникам позолоченные чаши из серебра с хмельным вином. Великокняжеские дарственные чаши и стали наградой Кузьме Новгородцу и Валентину Осипенкову за ратные труды в битве на Ведроши.
Ответным гонцом из Москвы поскакал ближний боярин. Довольный победой на реке Ведроши, Иван III Васильевич послал его к князю Даниилу Васильевичу Щене, велев в знак чрезвычайной великокняжеской милости «спросить о здравии» своего главного воеводы. То была редкая честь.
Ближний боярин скажет похвальное слово от великого собирателя земли русской и другим воеводам – братьям Юрию и Якову Кошкиным из славного на Руси княжеского рода, молодому Дмитрию Патрикееву, князьям Ивану Воротынскому и Иосифу Дорогобужскому, служилым великокняжеским людям Федору Рязанцеву и Василию Собакину… Тем, кто мечом добывал себе честь, великому московскому князю – славу, а будущему государству Российскому – Смоленщину и землю Северскую с древним городом Черниговом.
Юрий Лубченков
ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ
Ларги гром
В русско-турецкую войну 1768—1774 годов летняя кампания 70-го года – самая яркая. Отныне и навсегда вошла она в военную историю России и всего мира как образ наступательной стратегии.
Войну эту зачастую зовут «румянцевской», поскольку все основные победы ее связаны с именем фельдмаршала Петра Александровича Румянцева.
Сын «птенца гнезда петрова» Румянцев родился в 1725 году. Подпоручик в 15 лет, полковник – в 18, генерал – в 31 год. Герой Семилетней войны с Пруссией, все основные сражения которой – Гросс-Егерсдорф, Кунерсдорф, взятие Кольберга – происходят при его доминирующем участии, он по праву считается после нее одним из наиболее умелых военачальников Европы.
Война с Турцией закрепила и упрочила это мнение.
Наиболее выдающиеся его победы в этой войне – при Ларге и Кагуле. До Ларги было сражение при урочище Рябая Могила, где русские разгромили татарскую конницу. Теперь же им противостояла кроме татар и отборная османская пехота…
Ночью в неприятельский лагерь бежал офицер – поляк прапорщик Квитковский, выдавший все планы Румянцева, – теперь противник знал о готовящемся наступлении. Фактор внезапности был утерян.
Однако предательство Квитковского изменило планы русского командования лишь в малой степени. Понимая, что сражение не отменишь – хан, да и турецкие паши были настроены решительно – и что превосходство противника в людях при атаке будет более внушительным, Румянцев лишь перенес начало своего наступления на два часа ранее. Желая хоть немного дезориентировать хана, выступавшего в роли главнокомандующего, он приказал оставить на месте ночлега палатки и лагерные костры, надеясь, что Каплан-Гирей поверит в невозможность сегодняшнего наступления русских в связи с предательством бывшего офицера.
План атаки был оставлен в неприкосновенности: 7 июля наступать должна была вся армия, кроме арьергардного отряда полковника Каковинского, Малые силы русских предполагали удар в едином порыве – это был единственный залог успеха.
Каждый из генералов, казалось, наизусть помнил слова диспозиции, произнесенные на военном совете главнокомандующим.
– Тогда как вся армия будет атаковать противника в правый фланг, корпус генерал-поручика Племянникова ударит по левому неприятельскому крылу.
– Господин генерал-поручик, – обратился Румянцев к Племянникову, – корпус Ваш будет состоять из вверенной Вашему превосходительству дивизии, к которой определяется еще один из егерских батальонов полковника Фабрициана, шесть эскадронов кавалерии от корпуса генерал-квартирмейстера Баура и часть легких войск.
– Корпусам господ генералов Репнина и Баура выступить из их мост и следовать: генералу Бауру – на левую оконечность нашей линии, генералу Репнину – подле него справа. Приблизясь к Ларге, навести четыре моста, перейти реку и построиться к атаке.
– Главные силы армии – под моим командованием – начнут движение к моменту наведения мостов через Ларгу. Им надлежит идти за корпусами господ Репнина и Баура в трех колоннах. Коннице быть промеж передовых каре и каре главных сил. Казакам и арнаутам быть на флангах для сдерживания нападок на наши тылы и фланги. Впрочем, в писаной диспозиции вы прочтете сии пункты, более подробно изложенные.
– И последнее, господа, прошу вас данное довести до сведения и подчиненных ваших. Конечно, всякий верный сын Отечества сделает все полезное и сверх предписания сего. Начальники полков, увидя какую-нибудь перемену в ходе битвы, не пропустят случая сделать движений, согласных с успехом сражения. Это все, господа. Готовьте людей. Скоро уже в бой…
Отряды Репнина и Баура наступали тремя каре по хребту между реками Ларга и Бабикул, имея на флангах егерей уступом вперед. Перед этим, соблюдая предписанный порядок, в полнейшей тишине, от которой зависел успех дела и жизнь – всех, с изумительной точностью – согласно намеченному – перешли Ларгу. Никто не подталкивал и не направлял – каждый знал свои действия и свое место. Слышны были лишь тихие команды начальников:
– Осторожнее, ребята, не шуметь.
Переправившись, русские заняли высоты левого берега и перед самым рассветом выстроились к бою.
Татарские пикеты, согнанные с места движением корпуса Баура, возвестили в своем лагере о шествии неприятельских войск. Поэтому поначалу в ставке у татар показались большие огонь и дым – сигналы тревоги, а потом раздался всеобщий крик и началось обыкновенное метание во все стороны внезапно разбуженных людей: хан все же до конца не верил в возможность наступления столь малыми силами на его войска.
Первое, что сделали татары, это открыли по наступающим русским каре сильную канонаду со своих батарей. В ответ на это Румянцев приказал подготовить атаку подковообразного укрепления, сначала подавив его огнем своей артиллерии, а затем предпринять наступление группами Репнина, Баура и Потемкина.
Основные силы под его начальством шли за этими тремя отрядами в едином большом каре, имея позади всю регулярную конницу.
Вглядевшись в картину разворачивающегося перед ним сражения, Румянцев бросил через плечо адъютанту:
– Генерал-майора Мелиссино ко мне!
Тот появился почти сразу же:
– Я здесь, Ваше сиятельство.
– Все орудия Вашей бригады – к атакующим каре. Поставьте батареи между кареями господ Репина и Потемкина. Весь огонь – на главный ретраншемент.
– Слушаюсь!
170 орудий полевой бригады Мелиссино создали мощную огневую поддержку наступающим.
Назначенные к атаке каре подошли к укреплению на 200 шагов и открыли сильный огонь картечью из полковых и полевых орудий. Особенно губителен для татар и турок был залп бригады Мелиссино. Неприятельская артиллерия, начав захлебываться, вскоре замолчала вовсе.
– Что Племянников? – вновь задал вопрос Румянцев своему окружению.
– Перешел Ларгу, Ваше сиятельство! – мгновенно ответил Олиц. – Выстраивается для атаки 3-го и 4-го ретраншементов.
– Добро!
Корпус Племянникова, исполняя самостоятельную задачу, определенную ему диспозицией главнокомандующего, в самом начале боя наступал в направлении моста через Ларгу, не доходя до которого версты полторы развернулся перед оврагом и тем самым привлек к себе внимание неприятеля, имитируя направление главного удара.
Действуя в составе двух каре, Племянников открыл против левого фланга Каплан-Гирея жестокую канонаду. А после того как татары отвлекли все же с этой стороны часть своих сил для защиты правого фланга, подвергающегося атаке главных отрядов армии Румянцева, быстро двинул свои каре по деревянному мосту через реку, продолжая отвлечение хана.
Но деятельность его не ограничивалась лишь имитацией атаки – это также было предусмотрено: максимальная деятельность малыми силами. И к четырем часам он, как и Репнин с Бауром, сбил передовые татарские посты и приблизился к укреплениям. Когда же Племянников услыхал сильную канонаду, производимую Мелиссино, то тоже открыл артиллерийский огонь по противнику, подойдя вплотную с севера к Ларге.
Боясь атаки с двух сторон, хан решил ударом во фланг и тыл Репнина и Баура, а также и главному каре отразить их наступление. Для этого он бросил со своего правого фланга долиной Бабикула всю конницу.
Румянцев тотчас отвратил опасность от армии и свел на нет все маневры противника.
– Яков Александрович, – обратился он к начальнику третьей дивизии Брюсу, – отрядите в лощину бригаду Римского-Корсакова. Надо запереть там татар. Да не забудьте артиллерию.
– Слушаюсь, Ваше превосходительство. – Брюс распорядился направить в долину Бабикула бригаду генерал-майора Корсакова в составе Санкт-петербургского и Апшеронского полков и батарею большой артиллерии майора Внукова.
Бригада спустилась в долину и открыла продольный огонь, встав в каре, по идущей там коннице, что заставило татар выйти из противоположной стороны лощины на высоты. Чтобы сбросить их и оттуда, Внуков расположил на северной возвышенности, где стояли русские легкие войска, свою батарею и также открыл продольную пальбу через долину.
Вскоре Румянцеву было доложено, что противник из долины прогнан, опасность нападения на русский тыл ликвидирована: фланг и тыл, атакующий каре Репнина, Баура и Потемкина, были теперь надежно прикрыты.
Румянцев в этот момент также прибыл к этим каре, препоручив вести построенное им главное каре в боевом порядке Олицу, а левую сторону – предохранять Брюсу. Сам же он решил в определяющем пункте лично руководить боем:
– Вперед, ребята! В атаку! Ура!
Каре Репнина и большая часть сил Потемкина атаковали турок и татар с фронта. Часть сил отряда Потемкина под командой бригадира Ржевского охватывала их правый фланг. Корпус Баура вышел еще левее и открыл сильный огонь вдоль укреплений и в тыл неприятелю.
Бригада Мелиссино пришла на помощь артиллеристам Внукова – татарская артиллерия была отогнана от русских тылов окончательно.
1-й ретраншемент хана был атакован с трех сторон. Противник стал подаваться, и каре Репнина под прикрытием артогня подошло к самому укреплению. Пехота не шла, а бежала, не теряя строя, на крутую гору и с разбегу заняла окопы. Подполковники Ельчанинов и Фалкеншильд первыми ворвались туда с криками победы:
– Лупи, ребята!
– Ура, братцы!
– Алла!
Противник ожидал, что русские бросятся грабить лагерь, – хан отступал столь поспешно, что не успел ни вывезти, ни спрятать, а его подчиненные не успели растащить богатейшую казну. Солдаты постоянно натыкались на груды монет, россыпи жемчуга и камней, но поскольку им было не до этого – враг еще сопротивлялся, – все это кучами так и оставалось лежать.
Сохраняя полный порядок, русская пехота продолжала рваться в глубину расположения противника.
С началом атаки на 1-й ретраншемент корпус Племянникова в двух каре двинулся к долине Ларги. Первое каре генерал-поручик возглавил сам, имея в нем в подчинении генерал-майора Гротонгельма и бригадира Гудовича, а второе свое каре поручил генерал-майору Замятину. Поставив батарею на краю долины, командир корпуса приказал открыть огонь по укреплению левого фланга. Турки отвечали. Канонада гремела оглушающе, но в общей симфонии боя ее почти не было слышно. И поэтому Румянцев, руководя наступающей пехотой Репнина, Баура и Потемкина, все время мучительно прислушивался.
– Что-то не слышно Племянникова. Где его пушки?
– Ваше превосходительство, – отвечали ему, – генерал-поручик Племянников ведет огонь на левом фланге Каплан-Гирея.
– Пошлите сказать ему, чтобы не забывал о главном. А сие – 4-й ретраншемент!
Фронтальная атака Племянникова удалась – он овладел правым укреплением и пошел на левый ретраншемент, 4-й. Укреплениями своими это отделение превосходило все три первых примыкавших к нему с правой стороны шанцев. Батареи и глубокие рвы заграждали к нему проход, как и сама увесистая гора, на которой эти укрепления была построены.
Каре Племянникова – полки: 4-й гренадерский, астраханский и московский пехотные – спустились в долину Ларги и вплотную подошли к ретраншементу. Турки из своих левофланговых укреплений попытались атаковать русское каре во фланг, но все их попытки были решительно отражены.
Полки сами начали движение вперед – и полезли на крутизну. Подъем был настолько сложен, что солдаты сначала поддерживали друг друга, а потом, хватаясь руками за пучки травы, ползком продвигались к окопам.
Б это время каре, состоящее из Бутырского и Муромского пехотных полков и батальона егерей под командованием Замятина, по приказу командира корпуса, атаковавшее 3-й ретраншемент, левее большого оврага, отделявшего его от 4-го, уже справилось со своей задачей.
Относительная легкость предприятия заключалась и в том, что Репнин, Баур и Потемкин, подкрепляемые главными силами, уже овладев правым укреплением, быстро взяли – на плечах турок – и 2-й ретраншемент, поскольку он был обращен к ним тылом. Османы начали сбегаться к 3-му, куда двинулись и эти каре.
Все три генерала шли вдоль третьего укрепления, а Замятин атаковал его в лоб. Противник не выдержал перспектив полного обхода и начал поспешное отступление к самому сильно укрепленному и по какому-то недоразумению считавшемуся им неприступным 4-му ретраншементу.
Пехота Племянникова почти уже преодолела склон, как тут, продолжая свое движение, появились три передовых русских каре, готовясь к атаке во фланг, – Репнин, Баур и Потемкин, чтобы не идти через утесистый овраг, до этого приняли влево и теперь вышли сбоку от окопов.
Увидев себя окружаемыми, турки принялись бросать позиции, и русская пехота, наконец преодолев все трудности, снося залпы неприятельской артиллерии, под выстрелами своих батарей вступила во внутренность ретраншемента.
В итоге противник обратился в паническое бегство на юг по восточному берегу Прута. Пехота русских не могла преследовать турок – так резво те ретировались. Тяжелая кавалерия Салтыкова долго преследовала конных татар, но без особого успеха, так как последние на своих легких лошадях постоянно отрывались от драгун.
Приказ же Румянцева Салтыкову – отрезать турецкую пехоту – до того своевременно не дошел, поэтому потери у неприятеля были не такие, какие могли и должны были быть после подобного разгрома: тысяча убитых. Было взято триста орудий, восемь знамен и весь лагерь.
После боя Румянцев лично подъезжал к каждому начальнику и изъявлял признательность за их благоразумие и мужество, а солдатам их – за рвение и храбрость. Солдатам же корпусов Репнина, Баура и Племянникова досталось и по тысяче рублей на отряд – именно они бились на кисетах с пиастрами и каменьями. Отмечая это, главнокомандующий сказал:
– Благодарю вас, воины, что не посрамили вы славного имени российских солдат! Что не ринулись вы алчущей толпой на рухлядь османскую, забывая при том, что главная добыча воинства – мощь Отечества! Спасибо вам за викторию!
Наградой Румянцеву за Ларгу был орден Святого Георгия I степени. Не считая Екатерины II, которая также возложила подобный знак на себя как гроссмейстер ордена, Румянцев стал первым кавалером высшей степени единственного военного ордена России.
Вскоре был Кагул, и он стал фельдмаршалом. Был переход с армией за Дунай, и он стал Румянцевым-Задунайским. В 1774 году он заключил мир с Портой и по-прежнему управлял Малороссией, которая ему была поручена еще в начале 60-х годов. Потом была еще одна русско-турецкая война – 1787—1791 годов, и вновь он – командующий одной из армий.
Умер Румянцев в 1796 году – через несколько недель после воцарения Павла I, захватив, таким образом, всю российскую историю XVIII столетия – от Петра до Павла.
Лучшим – труднейшее
Племянник канцлера императора Петра III Романа Воронцова и брат императрицыной же фаворитки Семен Воронцов родился в 1744 году. В силу своего вопиюще близкого положения у трона при прежнем правителе Семен при новом – после свержения Петра и воцарения императрицы Екатерины, второй по счету – оказался не у дел. Именно поэтому с начала русско-турецкой войны в 1768 году он начал усиленно рваться в действующую армию и наконец был милостливо туда отпущен.
Он прибыл к Румянцеву в чане премьер-майора. Командующий, решив действовать но принципу «кто утонет – тот не моряк», бросил Воронцова к егерям – снайперской пехоте, созданной и лелеемой им самим лично. Здесь были собраны лучшие из лучших, и Воронцову было доверено возглавить их – один из считанных батальонов на всю армию. «Справится – честь ему и хвала, не справится – плакать не будем. Жили без него – проживем сим способом и далее», – решил Румянцев.
Воронцов справился. По прошествии долгих десятилетий, уже плотно осев в Лондоне, он будет часто вспоминать эти прекрасные и яростные годы…
Егерский батальон Воронцова входил в авангард корпуса генерала Баура. Это еще одна непростая судьба того причудливого века, когда карьеры строились молниеносно, и так нее, вдруг, люди уходили в тень небытия.
Боевой офицер армии Фридриха II Баур после окончания Семилетней войны перешел в русскую службу. Екатерина II, проверив его организационные способности, дала ему чин штабного генерала – генерал-квартирмейстера и с самым теплым сопроводительным письмом отправила в армию Румянцева. Тот не любил рекомендации людям военным от лиц штатских, подозревая, что достоинства свои в этом случае они выказывали более на паркете, чем в бою. И, как правило, сие подтверждалось. Но в данном случае командующего постигло приятное разочарование – Баур стоил своих лестных отзывов, и поэтому ему было доверено командование авангардным корпусом, который должен был по замыслам Румянцева стать острием всех его планов. Кончик этого острия составляли егеря…
Самыми значительными в этой войне были победы русской армии при Ларге и Кагуле, – прежде всего они потрясли Османскую Порту и всю Европу, раз и навсегда утвердив мощь русского оружия в землях блистательного султана. Именно в этих сражениях и отличились более всего егерские роты Воронцова.