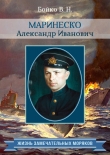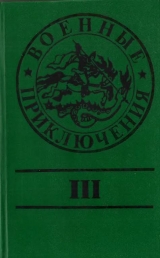
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
За Ларгу уже подполковник 3-го Гренадерского полка, в состав которого входили его егеря, в дальнейшем переименованного в лейб-гренадерский Екатеринославский, Семен Воронцов награждается орденом Святого Георгия IV степени под номером «12» – «за оказанную храбрость при овладении неприятельских ретраншемента и батарей»…
Через две недели был Кагул…
В пятом часу, когда сквозь сероватую и холодную дымку утреннего тумана только начали проступать контуры окружающего, днем по южному яркого и многоцветного, мира под мерный, ввергающий в транс единения, грохот полковых барабанов русские каре начали подступ к турецкому лагерю. День 21 июля 1770 года наступил.
Согласно диспозиции главнокомандующего генерал-аншефа и кавалера Румянцева русская армия наступала четырьмя группами: авангард генерал-квартирмейстера Баура – четыре тысячи штыков – атаковал турок в охват левого фланга их укреплений; дивизия генерал-поручика Племянникова – 4,5 тысячи человек – должна была атаковать левый фланг турецкой позиции с фронта, в лоб; дивизия генерал-аншефа Олица – 7,5 тысячи солдат – совместно с дивизией Племянникова также атаковала левый фланг турок; дивизия генерал-поручика Брюса – 3 тысячи человек и авангард генерал-поручика Репнина – 5 тысяч пехоты шли на правый фланг противника. Главные силы конницы – до 3,5 тысячи сабель генерал-поручика Салтыкова – двигались между дивизиями Олица и Брюса.
Последовавший бой потребовал от каждого предельного напряжения сил. Корпус Баура штурмовал боковые укрепления. После четверти часа ураганного артогня главнокомандующий турецкой армией великий визирь Халиль-бей, под началом которого в этом сражении находилась 150-тысячная армия, бросил и против этого корпуса, как прежде против Олица, Репнина и Брюса, спагов, свою отборную конницу. Издавна турки лучше всего владели белым – холодным – оружием. Вот и теперь, когда они с криками и рвущим душу визгом на рысях пошли на сшибку, казалось, что их удар будет страшен: геометрически прямая фронта каре будет растерзана, первые ряды будут вырублены в минуту. Но этого не произошло – русская армия уже научилась обходиться с османскими конными лавами раз и навсегда. Ружейный и орудийный огонь охладил наступательный запал спагов – их отогнали. Тогда они ударили русским в тыл, надеясь хоть этим задержать их наступление. Но Баур, оставив арьергард, лишь убыстрил движение своего каре. На подступах к укрепленной высоте русским преградили дорогу янычары, с которыми завязалась жаркая рукопашная, постепенно перемещавшаяся в глубь турецкой обороны.
Русские военачальники знали, что, как правило, осман хватает лишь на самый малый наступательный порыв – долгое напряжение боя они не любят. Вот и теперь янычары стали все чаще оглядываться назад и наконец побежали. Укрепление было взято, но отдыхать было еще рано.
– Граф, – обращаясь к Воронцову, подчиненные которого сейчас столь успешно расстреляли атаку спагов, а потом первыми ворвались в ретраншемент, прокричал Баур, сам еще не остывший от горячки боя, – берите своих людей и ударьте с фланга в центральное укрепление визиря. Я вас прикрою.
Тут же раздалась команда:
– Батальон, за мной!
Генерал вовремя приказал, а Воронцов быстро понял суть – удар с фланга в центральный ретраншемент был действительно необходим, ибо события в середине наступающих русских порядков менялись стремительно: каре Племянникова, заняв гребень высоты, теперь было на острие атаки. Дивизия почти уже дошла до турецких окопов, состоявших из тройного рва, как внезапно была атакована отборным более чем десятитысячным корпусом янычар. Незадолго до этого янычары неприметно спустились в лощину, примыкавшую к левой стороне их лагеря, а вот теперь, выбрав самый уязвимый момент зыбкого равноденствия перед решающей атакой, нанесли русским сильнейший удар.
Удар пришелся в угол правого фаса и фронта. Здесь были полки Астраханский и первый Московский. Едва передний ряд астраханцев успел выстрелить, как тут же был смят янычарами, ятаганами – ружей те в атаку даже не взяли, – прокладывавшими себе дорогу внутрь каре. Турок было вдвое больше, чем солдат у Племянникова, и сейчас, в рукопашном бою, это фатально сказывалось: в несколько минут два угловых полка были смяты и расстроены. За ними та же судьба постигла Муромский, четвертый гренадерский и Бутырский полки. Строя больше не было. Каре оказалось разорванным пополам. В руках янычар уже два полковых знамени, которые они срочно отправили к себе в лагерь, зарядные ящики. Русских быстро теснили к войскам Олица, наступавшего чуть-чуть сзади и немного левее Племянникова, и янычары сквозь разорванные ряды передового русского каре уже промчались перед фронтом главного отряда Румянцева, начиная с ним отдельные пока стычки.
Турки вывели на прорыв достаточно сил, но немало их оставалось еще и в ретраншементе. Поэтому они достаточно спокойно восприняли появление на фланге их укрепления небольшого отряда русских – батальона егерей. Разгоряченные общим достигаемым успехом, они собирались также по-молодецки расправиться и с этой жалкой кучкой гяуров. Но Воронцов, зная свои силы и увидав, что происходит перед турецким ретраншементом, решил действовать пока иначе. Расположив своих егерей рассыпным строем, он приказал открыть плотный ружейный огонь по янычарам так, чтобы им было не поднять головы, одновременно и выбивая защитников укрепления, и прикидывая, откуда его лучше штурмовать.
В главном же месте боя – у каре Племянникова – обстановка все обострялась. Наступала та минута боя, когда особенно значимо усилие каждого на весах общего успеха. Еще несколько минут торжества турецкой пехоты – и гибель русской армии станет неизбежной. Оторванная от баз, имея в своем тылу восьмидесятитысячную конницу крымского хана, она вся поляжет здесь, вся без остатка.
Военачальники главного каре – каре Олица – во главе с Румянцевым несколько мгновений как зачарованные смотрели на появившуюся перед их фронтом яростную толпу янычар во главе со своими знаменосцами. Но вот наконец и голос командующего, как освобождение от морока – успевшего и сумевшего за несколько кровавых секунд принять единственное, ведущее к победе и спасению, решение:
– Отсечь турок от лагеря картечью! Лишить их подкреплений!
Начальник артиллерии генерал-майор Мелиссино бросился выполнять приказ.
– Салтыкову ударить во фланги и тыл!
И на́рочные тотчас отправились к командиру русской конницы.
– Генерал Олиц! Для подкрепления Племянникова приказываю выделить первый гренадерский полк.
Потом, обернувшись, искоса посмотрел на принца Брауншвейгского – волонтера при его штабе, в начале боя все рвавшегося сразиться с турками, а сейчас как-то уже и не особенно жаждущего этого. Подмигнув принцу, Румянцев сказал ему обычным голосом:
– Теперь наше дело.
С этими словами, вскочив на коня, он бросился к полкам дивизии Племянникова. С маху влетев в толпу, Румянцев осадил скакуна и спрыгнул в самую гущу рукопашной. Выхватив из ножен шпагу, главнокомандующий закричал своему в расстройстве отступающему войску:
– Стой, ребята!
Громкий знакомый голос заставил остановиться ближайших к нему. На них натыкались другие, и скоро вокруг Румянцева оказалось достаточно людей, вновь вспомнивших о своем солдатском долге, для того чтобы заново начать отбиваться от янычар уже грудь в грудь, а не только способных подставлять свои спины под ятаганы. Бой принял новое ожесточение, ибо турки, поняв, кто этот генерал, столь быстро вернувший своих солдат для боя, отчаянно рвались к нему. Отбиваясь от наседавших на него янычар, командующий продолжал руководить:
– Солдаты! Разбирайтесь по ротам! Становись в каре! Слышите? Наши уже рядом!
Невидимые ими, им помогали егеря: ведя плотный ружейный огонь, они раз за разом сметали с флангового фаса ретраншемента всех тех, кто пытался в противовес им отбить их медленный неуклонный наплыв на укрепление. Наконец уже никто из турок не рисковал высунуть головы из-за бруствера, а егеря тем временем приблизились почти вплотную к валу. Крики турок, переходившие временами в захлебывающийся вой, крики, доносившиеся со стороны схватки с каре Племянникова, лучше всякого сигнала сказали Воронцову «Пора!» – и он повел батальон на штурм укрепления, доверившись штыку.
Как раз в этот момент первый гренадерский полк под командованием бригадира Озерова, отделившись от главного каре, в штыковой атаке опрокинул турецкую пехоту и пробился к Румянцеву. Пять минут гренадеры сдерживали янычар, с визгом и возгласами «Алла!» рвавшихся для последнего удара но разгромленному каре Племянникова. За эти пять минут, подчиняясь магии голоса и личному примеру главнокомандующего, раздробленные, растерзанные полки заново построились и приготовились к контратаке.
Снова раздался голос Румянцева:
– Солдаты! Товарищи! Вы видите, что ядра и пули не решили. Не стреляйте более из ружей, но с храбростию примите неприятеля в штыки!
С этими словами он подобрал с земли одно из многочисленных валявшихся там ружей.
– Вперед! – И стальной еж каре со штыками-иголками быстро покатился на начинающих терять запал янычар. Тяжелая русская конница, на рысях пришедшая к месту сражения, ударила по туркам с тыла. Те побежали. Не отставая, пехота на плечах отступающих ворвалась в укрепление, где его защитников уже добивали егеря Воронцова. Фортуна круто повернула свое колесо, и многие из тех, кто еще пять минут торжествовал победу над гяурами, так и не узнали, что уже в эти мгновения они были обречены, поскольку у них в тылу уже были русские снайперы.
По взятии этого укрепления османы почти уже и не сопротивлялись – началось повальное бегство. Турок долго и успешно преследовал кавалерийский отряд генерала Игельстрома. Уже у Дуная, когда неприятель, переполняя лодки, массами тонул, к реке вышел подоспевший в последнюю минуту корпус Баура, с ходу открывший ружейный и артиллерийский огонь. Егеря, как всегда, и на этот раз стреляли метко.
В этом бою роты Воронцова вообще отличились знатно – именно они, взяв на штык турецкое укрепление, отбили 40 орудий и два знамени, захваченные янычарами в ходе атаки на корпус Племянникова.
В ознаменование данных заслуг Воронцов семнадцатым во всей русской армии получил Георгия II степени. Вскоре он был произведен в полковники и назначен командиром 1-го гренадерского (лейб-гренадерского) полка, которым он командовал до своего выхода в отставку в 1776 году.
В 1788 году он поступает на дипломатическую службу и долгие годы будет Чрезвычайным российским послом в Лондоне. В 1806 году он окончательно расстался с государственной службой и вел частную жизнь. Умер он на восемьдесят восьмом году жизни, пережив многое и многих, многое и забывая, но всегда помня, как сквозь пороховой дым и визг картечи он вел веривших в него людей к победе.
Охота на Гергея
Бурный 1848 год. Год революций и надежд, ожиданий и разочарований. Европа клокочет. Русским же посольствам, разбросанным по западноевропейским столицам, из Петербурга поступает циркуляр:
«…ни в Германии, ни во Франции Россия не намерена вмешиваться в правительственные преобразования, которые уже совершились или могли бы еще последовать… Пусть народы Запада ищут в революциях этого мнимого благополучия, за которым они гоняются. Пусть каждый из этих народов по своему произволу избирает себе тот образ правления, который признает наиболее ему свойственным, Россия, спокойно взирая на таковые попытка, не примет в них участия, не будет противиться оным… Она (Россия) не потерпит, чтобы чужеземные возмутители раздували в пределах ее пламя мятежа, чтобы под предлогом восстановления исчезнувших народностей покусились отторгнуть какую-либо из частей… единства Империи. Если наконец из хаоса всех политических переворотов, всех возбужденных ныне вопросов и взаимных прав, всех противоположных стремлений суждено возникнуть войне, то Россия в свое время рассмотрит, соответственно или нет ее выгодам вмешиваться и до какой именно степени в распри между тем и другим государством, тем и другим народом».
Но обстоятельства изменялись с завораживающей быстротой, и 28 апреля 1848 года последовал манифест:
«Смуты и мятежи на западе с тех пор не укротились. Преступные обольщения, увлекающие легкомысленную толпу обманчивым призраком такого благоденствия, которое никогда не может быть плодом своеволия и самоуправства, проложили себе путь на Восток в сопредельные нам, подвластные турецкому правительству, княжества Молдавское и Валахское, одно присутствие войск наших совместно с турецкими восстановило и удерживает там порядок. Но в Венгрии и Трансильвании усилия австрийского правительства, разрозненные другой еще войной с врагами внешними и внутренними в Италии, не могли доселе восторжествовать над мятежом; напротив, укрепясь скопищами наших польских изменников 1831 года и других разноплеменных пришельцев, изгнанников, беглых и бродяг, бунт развился там в самых грозных размерах».
Так писали. Конечно, нам, воспитанным на уж очень обструганных учебниках истории, сие читать весьма непривычно. Но ведь так же писали, так считали, в это верили, горячились, отстаивая! Поэтому примем к сведению и размышлению – ведь из песни слова не выкинешь. Для общего же панно, как известно, ценен каждый кусочек мозаики. Или теперь так уже не считают?
И еще один камешек в то же панно: Венгрия пользовалась в рамках Империи Габсбургов значительной самостоятельностью. Здесь целенаправленно искоренялось и омадьяривалось все, что имело несчастье быть невенгерским. Особенно это касалось русских, проживавших на территориях, примыкавших к Галиции. Они как-то традиционно приходили в упадок, служа разменной монетой большой политики и имперских склок. Дошло до того, что даже русские православные священники говорили проповеди по-венгерски (но уже в 1850 году в Мукачевской епархии русский язык был восстановлен). Что же касаемо иных славян – поляков – то они действительно в значительном количестве вливались в революционное войско венгров, вплоть до командования армиями и отдельными отрядами. Многие из них сделали ненависть к России своей профессией и судьбой, и найти их, готовых слетаться по первому зову, в эти годы можно было везде – от европейских столиц до Кавказа, где у Шамиля они также были боевыми командирами, воюя против ненавистных им русских. Поэтому, да и не только поэтому, разгоравшееся восстание в Венгрии начало лизать огненными языками живших здесь русских, как-то не рвавшихся поддерживать своих вчерашних угнетателей в их сегодняшнем свободолюбии и том самым подпадавших под дамоклов меч любой революции, провозглашающей: «Кто не с нами – тот против нас!»
Россия, сформулировав свое кредо, в иных новых, но по сути так же пришла на помощь Габсбургам, к которым славянский элемент Венгрии уже не раз обращался с просьбой о прямом подчинении Австрии.
Венгерская кампания русской армии под командованием генерал-фельдмаршала князя Паскевича-Варшавского открылась в конце апреля 1848 года, победоносно велась всего в течение нескольких недель, закончилась разгромом и пленением основных военных сил противника и свелась, по сути, к преследованию – охоте Гергея, главнокомандующего венгерской армией.
Доселе Гергей удачно противостоял австрийцам, но тут он встретил противника сильнее себя и ничего не смог поделать. Хотя, как человек мужественный, он сопротивлялся почти до самого конца, в тщетной надежде обнаружить слабые места в монолите своего противника. Тому множество примеров, и один из них – сражение между селами Тур и Самбок, состоявшееся 8 июля.
Главным героем его был генерал-лейтенант граф Алексей Петрович Толстой. С 1813 года он – офицер, кавалер множества орденов, в том числе и военного ордена Святого Георгия IV степени, полученного им за турецкую кампанию 1829 года, в том же году он получил чин генерал-майора.
Сейчас под его началом находился особый отряд, сформированный но приказу Паскевича и предназначавшийся для прикрытия вагенбурга, остановившего движение к Пешту и сосредоточившегося около Саода. В состав отряда входили 2-я бригада 5-й пехотной дивизии с двумя пешими батареями, взвод саперов, 2-я бригада 2-й легкой кавалерийской дивизии с 4-й конно-легкой батареей, конно-мусульманский полк, две сотни 32-го казачьего полка и 2-я донская резервная батарея. Для поддержания отряда к селу Уйфалу были выдвинуты 1-я бригада 5-й пехотной дивизии и ее артиллерия.
Однако диспозиция 8 июля значительно уменьшила силу отряда графа Толстого, так как часть его – в виде авангарда главных сил – начала движение в Хатван. Сам же генерал-лейтенант с тринадцатью эскадронами гусар, двумя сотнями казаков и четырнадцатью орудиями конной артиллерии пошел к селу Самбок, прикрывая продвижение Паскевича с правого фланга.
С утра, когда Толстой даже еще и не двинулся к Самбоку, разведка харьковских улан донесла, что туда же уже перемещаются значительные силы неприятеля и их авангард – порядка пяти тысяч человек – уже занял село Тот-Альмаш.
У Тура генерала застало новое донесение улан: их дивизион отступил, теснимый кавалерийской дивизией под личным командованием начальника 10-го корпуса Дежефи – 17 эскадронов.
Когда две силы, влекомые судьбой, прут, не сворачивая, навстречу друг другу, то жестокое кровопролитие неизбежно. Толстой построил свой отряд в боевой порядок, выдвинув его за село Тура.
Первую линию образовал Елизаветградский гусарский полк в дивизионных колоннах, в среднем интервале его – донская резервная батарея. Вторая линия – пять эскадронов Лубенского гусарского полка с 4-й батареей. Казаков и влившихся харьковских улан граф выдвинул вперед – и для замедления наступательного пыла неприятеля, и для маскировки батарей донцов.
Два часа Дежефи наблюдал покойно стоящих русских, ожидая подхода всей своей кавалерии. Наконец в час пополудни он решился – его конница неторопливо пошла вперед. И тут же рьяно вступила в дело вся артиллерия противника.
Ответить надлежало достойно – и Толстой не стал лишать венгров удовольствия сразиться с сильным неприятелем. Его приказы выполнялись моментально – уланы и казаки мигом канули в резерв, рядом со 2-й батареей возникла 4-я, прикрываемая слева пятью эскадронами дубенцов. И в ответ на выстрелы двенадцати венгерских орудий четырнадцать русских ударили сплошным шквалом огня.
Тут еще раз русские артиллеристы подтвердили свое высокое мастерство, вызывавшее недовольство их частого противника – турок – еще с прошлого века: воюют не по правилам – слишком часто стреляют! Да и метко к тому же. Вот и здесь: пушек вроде бы почти поровну, но все равно кажется, что у Толстого их намного больше. Словом, Дежефи, проиграв артиллерийскую дуэль, решил проверить крепость русской стали, и после часа канонады его кавалерия рванулась в атаку сразу на оба фланга Толстого…
На левый фланг графа мчалось несколько эскадронов польских улан. Командир Лубенцов оставил один свой эскадрон при батарее, с остальными начал выходить шагом навстречу спешащему неприятелю. Но тот остановился, удовлетворенный собственным маневром, сковавшим силы русских и лишившим их возможности помочь Елизаветградскому полку.
Тем приходилось сейчас жарко – сначала на елизаветинцев насело десять эскадронов венгерских гусар, немного погодя к ним начали присоединяться все новые и новые эскадроны, появляющиеся – как черт из шкатулки – из леса, раскинувшегося против позиции русских гусар. Елизаветинцы устроили неприятелю большую карусель и рубились, не отступая ни на шаг. Но противник все прибывал и прибывал. И за минуту до того, как общее его количество могло достигнуть критической массы, Толстой сам повел в атаку свой последний резерв – казаков и харьковских улан.
Их порыв опрокинул неприятеля, а оправиться от него судьба уже не оставила времени – в этот миг на поле боя бегом выскочили русские пехотинцы – командир 5-й дивизии генерал Лубенцов с семью батальонами. И с ним – две артбатареи.
Дежефи был окончательно смят, и только прибытие его пехотной бригады помешало превратить окончание сражения в побоище: венгры отступили быстро, но без ужасающих потерь. Из русского же отряда выбыло всего порядка пятидесяти человек.
За этот бой Алексей Петрович получил Святого Георгия III степени. И когда через шестнадцать лет генерал от кавалерии граф Толстой умирал, он по-прежнему считал этот орден своей самой высокой наградой. Ведь что может быть почетнее для воина, чем награда, полученная в битве?
Стоять за одно
То, что мы привычно называем Крымской войной 1853—1856 годов, памятуя о подвигах защитников Малахова кургана и Корабельной слободки, вспоминая имена Нахимова, Корнилова, Истомина, Хрулева, на самом деле называется В о с т о ч н о й войной. У Соловков и на рейдах Петропавловска-на-Камчатке, на Дунае и Балтике – а не только на Черном море – шли упорные бон. Шли они и на Кавказе.
19 ноября 1853 года на Башкадыкларских высотах разыгралось упорное, кровопролитное сражение. Турок, предводительствуемых сераскиром Абди-пашой, насчитывалось 36 тысяч, русских же было не более двенадцати.
Как только первая линия наших войск открыла огонь по неприятельскому центру двумя батареями, командующий действующим корпусом генерал-лейтенант Василий Осипович Бебутов приказал всей второй линии, включавшей в себя первый и второй батальоны Эриванского карабинерского полка, первый и четвертый батальоны Грузинского гренадерского полка, под началом генерал-майора Ивана Константиновича Багратиона-Мухранского принять влево, обойти левый фланг первой линии русской позиции, подняться на Башкадыкларские высоты и в штыковой атаке овладеть правым флангом главной позиции Абди-паши.
Бебутов не случайно именно Багратиону-Мухранскому отдал этот приказ. Служа в армии уже почти четверть века, князь с началом войны был назначен командиром Кавказской резервной гренадерской бригады, как раз и состоявшей из Грузинского и Эриванского полков, Кавказского строевого батальона и трех батарей артиллерии. Это была отборная кавказская пехота, «боевой молот Паскевича», бывшего в свое время главнокомандующим на Кавказе, когда достигались наиболее яркие военные победы.
Генерал Багратион – как и всегда – исполнил приказание наилучшим образом. Следуя по указанному ему командующим направлению, при этом все время находясь под сильнейшим огнем турок, он стянул четыре батальона в удобной для этого лощине, закрытой от неприятельских выстрелов, и, дав там людям несколько минут отдыха, повел потом карабинеров вперед с барабанным боем и развернутыми знаменами – через довольно глубокий овраг – на штурм правого фланга главной позиции турок, расположенной на скалистой высоте.
Поднявшись на эту высоту, карабинеры, предводительствуемые князем, были встречены пехотой османов, но после весьма непродолжительного батальонного огня русские опрокинули ее.
До этого момента русские батальоны – по приказу Багратиона – шли вперед в полном молчании. Но тут по его сигналу раздалось мощное «Ура!».
И во главе с генералом карабинеры пошли в штыковую на турецкие батареи. Артиллеристы в последний раз успели дать залп картечью по наступающим русским цепям и тут же были подняты на штыки. Им на помощь Абди-паша срочно выслал четыре батальона пехоты, которые открыли плотный и слитный ружейный огонь по карабинерам Багратиона.
Генерал вновь повел солдат в штыки на вдвое сильнейшего неприятеля, который, отстаивая батареи, применил против русских холодное оружие. Штыковой бой не может длиться долго – у кого-то из противников сдают нервы. Скоро турки, не выдержав натиска, побежали. Шедшие в штурмовой колонне за карабинерами батальоны Грузинского гренадерского полка тем временем постепенно принимали вправо, чтобы в свою очередь произвести атаку на турецкую позицию. Неприятель заметил это, когда был уже плотно вовлечен в бой с карабинерами. Но все же почти сразу противник выделил особые подразделения против гренадер, и тут завязался ожесточенный рукопашный бой, после которого турки и на этот раз были принуждены отступить.
На батареях главной турецкой позиции заполоскались на резком ветру знамена первого и второго батальонов Эриванского карабинерского полка, а вслед за ними – и знамена гренадерских батальонов.
В то время, когда карабинеры и гренадеры начали наступление на неприятельскую позицию, генерал-майор Александр Федорович Багговут, получивший затем за этот бой чин генерал-лейтенанта, племянник одного из героев Отечественной войны 1812 года Константина Федоровича Багговута, воевавшего на Кавказе еще почти тридцать лет назад, расположил почти всю русскую кавалерию – третий и четвертый дивизионы Нижегородского драгунского полка, семь сотен Кавказского линейного казачьего войска и дивизион конных орудий, вкупе с дивизионом Донской конно-казачьей 7-й батареи сообразно рельефу и, поддерживая штыковые атаки Багратиона-Мухранского, открыл артиллерийский огонь по правому флангу турецких батарей, отдав приказ кавалерии приготовиться к атаке.
Тогда же по приказу Абди-паши масса иррегулярной конницы, высыпавшая на укрепления, завязала перестрелку с казачьей цепью и, произвела натиск, а регулярный полк турецкой кавалерии пошел на рысях в атаку.
Подполковник Евсеев с четырьмя сотнями линейных казаков двинулся против него, но турки, расстроенные несколькими удачно брошенными гранатами, не приняли боя и повернули назад.
Тем временем толпа иррегулярной кавалерии Абди-паши продолжала движение вперед, и Багговут послал против них два орудия под прикрытием третьего дивизиона драгун. Удержав этим напор значительно превосходящего по числу неприятеля, Багговут, желая воспользоваться этим моментом, закрепить и развить успех, вновь направил вперед подполковника Евсеева и усилил огонь артиллерии. Иррегулярные части турецкой кавалерии были опрокинуты и частично бежали, частично рассеялись, хотя и продолжали еще до самого конца боя беспокоить крайние части русской кавалерии, но уже не натисками, а перестрелками и фланкированиями.
Между тем регулярный полк турецкой кавалерии, заметив, что русские артиллеристы переменили позиции и громят их иррегулярные части, снова предприняли атаку на третий дивизион драгун, но генерал Багговут встретил их несколькими карточными залпами и вновь заставил отступить.
Командир русской кавалерии, задержав конницу противника, выждал приближение русских штурмовых колонн первой линии. Но те, подойдя, замешкались, осыпаемые градом снарядов. Тогда Багговут принял решение атаковать турецкие батареи кавалерией. Для этого он отдал приказ:
«Третьему и четвертому дивизионам драгун, имея в интервалах четыре конные орудия, наступать прямо на правый фланг главной позиции неприятеля; семи сотням казаков – обскакать его и выйти противнику в тыл».
Генерал лично возглавил начавшиеся наступления русской кавалерии. Это произошло одновременно с решительным ударом батальонов Багратиона-Мухранского. Крутой овраг не остановил русскую конницу – она пронеслась через него во весь карьер. Взвод конной батареи под командованием есаула Кульгачева первым вынеслась на противоположный край оврага, вслед за ним – третий дивизион, затем – другой взвод батареи и четвертый дивизион драгун.
Турки осыпали их картечью, и драгуны понесли большой урон. Но, несмотря на это, третий дивизион под командованием майора Петрова тотчас же пошел в шашки на фланговый батальон османов.
Этот батальон, быстро перестроившись в каре, расположил по иглам построения орудия и открыл сильнейший картечный и ружейный огонь по наступающей русской коннице. Огонь не остановил драгун. Майор Петров с подчиненными воинами все же пробился сквозь огненный смерч, врезался в каре и начал жестокую рубку. Подоспевший четвертый дивизион врубился в это же каре на другом смежном фасе.
Турки начали поспешно отступать. Кроме артиллеристов, показавших себя героями. Они защищали орудия до последнего и полегли на них под русскими шашками.
В это же время разворачивались события и на фланге первой линии русского корпуса. Командир Нижегородского драгунского полка генерал-майор Ясон Иванович Чавчавадзе направил порученные ему три дивизиона драгун, двести линейных казаков и дивизион Донской конно-казачьей батареи на позицию – он расположил их в боевом порядке по небольшому оврагу, отделявшему русские войска от турецких.
Турки поначалу хотели, не попадая на первую линию, обойти ее, намереваясь броситься на обоз. Чавчавадзе в ответ на это стремительно двинулся через овраг, поручив казакам удерживать иррегулярную конницу османов. Одновременно он приказал открыть артиллерийский огонь, ибо на его драгун шли в боевом порядке два полка регулярной кавалерии турок, а два батальона пехоты с четырьмя орудиями расположились правее своей конницы и открыли огонь по русской кавалерии.
Чавчавадзе счел, что только контратакой он сможет отбросить или, по крайней мере, задержать неприятеля. По его приказу вперед – на ближний картечный выстрел – пошли два дивизиона драгун с двумя орудиями, которым удалось опрокинуть турецкую кавалерию на пехоту.
Турецкие батальоны встретили драгун частым ружейным огнем и картечью, а в это время еще два подошедших готовились ударить им во фланг. Тогда Чавчавадзе бросил против них пятый пикинерский дивизион – последний резерв, который выполнил воинский долг, отбросив турок на линию задних батальонов.
После этого драгуны едва успели собраться и вновь построиться в боевой порядок, как турецкая конница и пехота пошли снова в очередную атаку. Чавчавадзе, опасаясь, как бы турки из-за многочисленности не охватили его фланги, перестроил драгун развернутым фронтом и повел их в атаку. Немногие из османов решились встретить драгун в шашки. Большинство беспорядочно бежало. Самые же храбрые были порублены почти мгновенно. Драгуны же вслед за турецкой кавалерией атаковали и пехоту, смяли ее и истребили один батальон почти полностью. Во время атаки в упряжке одного из русских орудий была убита лошадь. Батальон турок бросился на этот столь желанный и возможный трофей. Но артиллеристы успели снять пушку с передка и ударили по туркам картечью. Чавчавадзе с несколькими драгунами бросился на помощь и погнал батальон.
Однако численное превосходство турок – более чем в восемь раз – не позволило генералу перейти в общее наступление. К тому же он постоянно помнил, что основная его задача – охрана правого фланга и обоза, что давало возможность штурмовым колоннам Багратиона-Мухранского действовать без оглядки на собственные тылы. Поэтому Чавчавадзе остался на месте, еще дважды отразив контратаки турок.