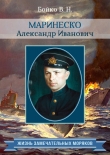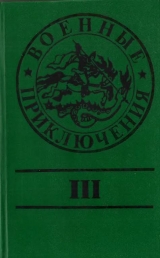
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
«Что же сейчас делает та, которая в засаде? Как угадать ее дальнейшие маневры?»
Началось состязание умов, состязание командирской грамотности, опыта, смекалки, интуиции…
– Лево на борт! Акустик, внимательнее слушать лодку!
«Тринадцатая», послушная рулю, покатилась влево, курсом на вражескую субмарину. Но и на ней, несомненно, был опытный командир.
– Лодка повернула вправо! – доложил акустик Шнапцев, сменивший по боевой тревоге более молодого товарища.
Теперь вражеская подлодка уходила от «тринадцатой», приводя ее на невыгодно острый курсовой угол. Фашистский командир явно не желал подставить борт своей субмарины под торпеды «С-13». Сложная, хитроумная это игра – поиск момента для точного торпедного залпа, когда ни один из противников не видит другого. Только шум винтов – единственная зацепка, единственный ориентир. Если гидроакустик – мастер, если у него тонкий слух и точное знание характерных оттенков изменения звука при поворотах подлодки, есть шанс выйти победителем. Но если на акустической станции недостаточно опытный и умелый специалист, человек, страдающий хотя бы элементарными погрешностями слуха, если он слабо разбирается в едва заметных оттенках звука и не способен отличить, в каком положении субмарина противника, куда она поворачивает, идет на лодку или от нее, – никаких шансов остаться в живых, а не то чтобы одержать победу!
Великое счастье экипажа «тринадцатой» было в том, что Иван Шнапцев обладал поистине феноменальным музыкальным слухом. Акустик ежеминутно четко докладывал командиру о малейших изменениях в движении вражеской лодки. И Александр Иванович как бы зрительно представлял: вот субмарина уходит вправо, затем резко поворачивает влево, устремляется в глубину, потом, увеличив ход до максимального, как бы в крутом вираже выходит на контркурс…
– Лодка выпустила торпеды! – тут же доложил акустик.
– Право на борт!
Теперь все решали мгновения. Успеет ли «тринадцатая» уйти с курса наполненных грузов взрывчатки «сигар» или, секунды спустя, одновременно с адским грохотом сверкнет пород глазами подводников стремительное красно-желтое пламя, разбрасывая в стороны клочья стальной обшивки, и… все?! Невольно моряки напряглись всем телом, как бы желая надавить на палубу, ускорить погружение лодки.
– Стоп моторы! Заполнить быструю!..
«С-13» стремительно упала в глубину, и в это мгновение моряки услышали, как над их головами с надрывным воем промчалась торпеда, за нею – вторая…
«А теперь вперед, только вперед! Всплыть на прежнюю глубину и гоняться, гоняться, гоняться!»
«Тринадцатая» развернулась на вражескую субмарину, прибавила ход. Видимо почувствовав, что назревает ответная атака, фашистский командир отвернул свою лодку, потом лег на обратный курс…
Больше четырех часов продолжался невидимый для глаз напряженный поединок ума, находчивости, мастерства, нервов. Этого состязания гитлеровский «морской волк» не выдержал. Одну за другой он расстрелял все свои – девять! – торпеды, так и не сумев выйти на пеленг и дистанцию точного удара, а затем постыдно бежал…
Поединок этот, неожиданный и потому чрезвычайно опасный, дал экипажу «тринадцатой» основательную нервную встряску. Люди еще раз убедились, как опасно размагничиваться, расслабляться, успокаиваться, находясь в море, в боевом походе. Минутное, даже секундное снижение бдительности может закончиться трагически. Тем более трагично, если случится такое в считанных милях от базы, когда, казалось бы, уже все опасности позади!
Пережив такую встряску, моряки особенно остро почувствовали, как недостает им сейчас родных берегов, недостает оставшихся там боевых друзей, товарищей. Быстрее домой, в базу, увидеть их, поделиться с ними переживаниями, испытанными в нелегком этом походе!
В обговоренный радиограммой срок, в 11.00 14 февраля, «тринадцатая» пришла в заранее определенную приказом точки встречи с кораблями сопровождения. Соблюдая все меры предосторожности, всплыла под перископ. На горизонте – никого. Только огромное поле бело-голубых пластинок битого льда. Да, уверенно подходила к концу зима, однако морозы продолжали еще держаться. Вдоль берега протянулось огромное поле плотного ледового припая. Самостоятельно пробиться сквозь него вряд ли можно. Нужен ледокол.
Но в чем же дело? Почему пуст горизонт? Где обещанные корабли охранения и сопровождения? Можно понять удивление и возмущение командира с вахтенным офицером. Практика не раз уже доказывала, что подходы к базе – район опасный. Здесь вполне могут оказаться вражеские корабли, прежде всего – подводные лодки, наконец – просто минные банки, выставленные врагом под покровом ночи. Опасно!
«Где вы есть?» – полетел в эфир запрос. В ответ – молчание.
Лодка, чтобы соблюсти скрытность, снова ушла на глубину. Некоторое время спустя опять всплыла. Опять радисты запросили, где же долгожданные ледокол и корабли охранения. Тщетно! Никого и ничего.
Что могло помешать выходу кораблей, нарушению обговоренного и строго установленного порядка встречи подводных лодок, возвращающихся из боевого похода? В конце концов, стоит ли ждать и сколько ждать – это ведь не прогулочная яхта в мирном море. Минута промедления может оказаться решающей в судьбе корабля и экипажа!
И тогда командир принял решение идти в базу незнакомым фарватером самостоятельно.
Подводная лодка погрузилась на перископную глубину и, опустив перископы, медленно подошла под поле битого льда. Это исключало вероятность встречи с фашистскими подлодками, обычно караулившими у опушки шхер наши возвращающиеся лодки и атаковавшими их, когда те всплывали.
«Если потребуется всплыть среди ледового поля, – рассуждал командир, – это не проблема. Такое уже делал командир триста двадцать четвертой «щуки» Анатолий Михайлович Коняев»….
«Тринадцатая» вошла подо льды. Конечно же, в принципе Александру Ивановичу были известны подходы к Ханко. В предвоенные годы, командуя «малюткой», он базировался именно на эту военно-морскую базу. Правда, о того времени прошло немало – целых четыре года. Что-то подзабылось, какие-то изменения могли произойти в этом районе. Главное – не знал командир об истинной минной обстановке. Словом, именно сейчас, в таких вот условиях, ему нужен был лоцман.
И все-таки командир сумел самостоятельно провести «тринадцатую» в шхеры. Затем лодка всплыла и ревунами известила лоцмана. Часа через два он прибыл. Однако вслед поступила радиограмма с приказанием следовать в финский порт Турку, куда к тому времени перешла плавбаза дивизиона «Смольный».
Час за часом с треском и шорохом ползли льды по корпусу лодки. С трудом пробивалась «тринадцатая» сквозь их нагромождения, пока справлялся нож форштевня с такой преградой. Наконец вынуждена была остановиться и начать зарядку аккумуляторных батарей…
Только после полуночи к «тринадцатой» подошел базовый тральщик «БТЩ-217», с которого сошел командир дивизиона капитан 1 ранга Александр Евстафьевич Орел. Бегом но льду бросившись к лодке, издалека еще закричал он ожидавшему на мостике Маринеско:
– Я знал, я знал, что ты придешь с победой!
– Получили твои радио о потоплении крупного транспорта и крейсера, – продолжил комдив, поднявшись на мостик лодки. – Молодцы! Данные подтверждаются. Ну, а со встречей, извини, брат, плохо получилось…
Оказалось, что из-за отсутствия опытных лоцманов посланный корабль пришел не в оговоренную точку встречи. После настойчивых требований командования в конце концов прибыл умелый лоцман. Но время уже было упущено…
Разумеется, причина была уважительная. Но как на пытался командир, поставив себя на место тех, кто отвечал за организацию встречи лодки, понять, как это могло произойти в отработанном военном организме, никакого оправдания случившемуся не находил. Ведь в принципе, твердо соблюдаемом в любом корабельном соединении, такие мероприятия обычно заранее продумываются и строго контролируются. Только халатность, граничащая с преступлением, могла привести к тому, чтобы возвратившаяся из боевого похода подводная лодка с уставшим, измотанным экипажем, без боезапаса на борту оказалась в опасном районе без охранения, по сути, обреченной на гибель. И можно понять состояние всех членов экипажа, только что переживших подводную схватку, больше похожую на схватку усталого и безоружного человека с вооруженным до зубов бандитом – схватку в кромешной тьме. Горечь, обида, непонимание!..
Состояние это еще более ухудшилось, когда моряки узнали от комдива, что в квадрате моря, соседнем с тем, в котором «тринадцатая» торпедировала два фашистских судна, совсем недавно, буквально на днях, погибла «С-4» – лодка их дивизиона. Значит, погибли знакомые ребята, друзья, Среди них бывшие члены экипажа «тринадцатой» старпом А. Гусев, моторист М. Ласковый…
Словом, день возвращения в базу особой радости команде «тринадцатой» не принес.
Правда, встреча в Турку была торжественной, даже трогательной.
Конечно, погода не радовала. Гудели напрягшиеся от лютого мороза и свирепого норд-веста провода. По брусчатке улиц мела сухая колючая поземка. Черепичные крыши домов казались пегими от усыпавшего их снега. Улицы были пустынны, будто вымерли…
А в Угольной гавани, где стояли подводные лодки дивизиона и плавбаза «Смольный», причал был заполнен матросами, старшинами и офицерами.
Едва «С-13» ошвартовалась, боевые друзья Александра Ивановича Маринеско – командиры «Л-2» Р. В. Линденберг, «Л-3» – В. К. Коновалов, «Л-21» – С. С. Могилевский, «Лембита» – А. М. Матиясевич, «Щ-407» – П. И. Бочаров и комдив «щук» Г. А. Гольдберг – окружали героя, а затем, подхватив на руки, вынесли на причал, начали качать.
И сразу схлынула у моряков «тринадцатой» обида, растаял лед неприязни к тем, по чьей вине к боевым испытаниям прибавились испытания невниманием и отсутствием заботы. Боевые друзья отогрели их души неприкрытой и искренней радостью встречи, щедростью сердечного тепла. Вскоре после швартовки сошедшие на причал матросы, старшины и офицеры экипажа с улыбкой вспоминали перипетии погони за «Густлофом», нюансы торпедной атаки «Штойбена», недавнюю «подводную карусель», так издергавшую их нервы, и – странно, но отходило вдаль, в небытие, в глубокое прошлое все то мелкое, наносное, ставшее несущественным теперь. Становилось легче дышать и радостнее смотреть на мир. Знали они, что главное не в тех досадных огрехах в накладках, а в том, что подводная лодка возвратилась из тяжелейшего боевого похода целой и невредимой, нанеся врагу серьезнейший урон.
И убедились в этом еще раз, когда увидели своими глазами финские и шведские газеты последних дней, заполненные снимками лайнера и сообщениями о количестве ушедших на дно гитлеровских генералов а офицеров, партийных бонз, эсэсовцев и гестаповцев, а главное – подводников. Уж они-то знали, как много значили для фашистов подводные силы, и представляли, как здорово «подрубила крылья» рейху гибель 3700 специалистов и 100 командиров субмарин!
От сознания этого тепло и радостно было на душе героев. Их ждали заслуженные правительственные награды, знаки внимания и уважения всего советского народа.
IX
На кораблях, как бы ни старались командиры, политработники и соответствующие службы, даже куда более строгие секреты не очень-то долго удерживались в тайне от моряков, а уж о представлении экипажа подводной лодки к гвардейскому званию, тем более командира ее – к званию Героя Советского Союза, матросы, старшины и офицеры «тринадцатой» узнали через считанные часы.
– Радости не было предела, – рассказывал бывший гидроакустик Иван Шнапцев. – Особенно ликовали мы по поводу Александра Ивановича, нашего бати, как мы его любовно звали между собой. Знали мы, что у него довольно часто случались размолвки с начальством, а ведь он для нас был душа-человек. Таких, как он, – строгих, но и внимательных, справедливых, честных перед собой а другими – надо поискать. Но особо любили мы его за командирское мастерство, не один раз спасавшее нам жизнь, Ведь даже в том, знаменитом, январско-февральском походе он нас трижды спас от гибели…
Эти слова гидроакустика подтвердили потом все моряки экипажа, когда затевался с ними разговор на эту нелегкую тему. Действительно, разве не находчивость командира, не его умение проникнуть в психологию фашистских наблюдателей с «Вильгельма Густлофа» сохранили жизнь «С-13», когда зашла она буквально в ловушку между берегом и лайнером? А разве не его хитрость и военно-морская грамотность вывели «тринадцатую» из-под глубинок после торпедирования «Густлофа»? А разве не выдержка, не командирское мастерство позволили «С-13» вывернуться из-под торпед той самой фашистской подлодки, что подкараулила героев у самой базы?
И еще одно подтверждение непревзойденного командирского таланта: ведь из всех подводных лодок этого типа на Балтике (а было их в боевом строю в годы войны тринадцать!) осталась «в живых» только «тринадцатая». Почему такое произошло? Случайность? Везение? Нет! Тут уж никаким везением не объяснить этот факт. Тем более что лодка не отстаивалась в базах, так сказать, не отсиживалась за спинами других. Она, вошедшая в боевой строй в середине 1942 года, совершила четыре боевых похода, в том числе три – ведомая Александром Ивановичем, который командовал этой лодкой всего два года. Причем нельзя забывать, что полтора года – 1943-й и половину 1944-го – подлодка вообще не выходила в море на боевую работу.
Стоит заметить, что выдающиеся способности и командирское мастерство Александра Ивановича были оценены и добросовестно изложены в тексте представления Маринеско к званию Героя Советского Союза, подписанного комдивом. Приведем его почти дословно.
«Капитан 3 ранга Маринеско Александр Иванович находится на должности командира подводной лодки с 1939 года. С начала Великой Отечественной войны участвует в боевых походах… В 1941 году, командуя подводной лодкой «М-96», совершил два боевых похода в Финский и Рижский заливы, во время которых действовал мужественно и решительно, выполняя задания командования по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на море.
В 1942 году капитан 3 ранга Маринеско действовал в Финском заливе и за время боевого похода утопил транспорт противника водоизмещением 7000 т, за что был награжден орденом Ленина. В этом же году капитан 3 ранга Маринеско выполнял задание по высадке разведчиков в глубоком тылу противника.
В 1944 году, будучи командиром ПЛ «С-13», капитан 3 ранга Маринеско совершил боевой поход с задачей прикрытия фланга армии, очищающей остров Эзель от немецко-фашистских захватчиков. Присутствие ПЛ «С-13» в этом районе заставило немецкое командование отказаться от посылки к острову Эзель крупных надводных сил для поддержки своих войск на суше. Перейдя через несколько дней на южные коммуникации противника, капитан 3 ранга Маринеско преследовал и утопил артиллерией в непосредственной близости от базы флота противника один транспорт водоизмещением 5000 т, за что был награжден орденом Красного Знамени.
В 1945 году ПЛ «С-13» вышла на выполнение боевого задания в южную часть Балтийского моря и, благодаря умелым и решительным действиям командира ПЛ капитана 3 ранга Маринеско, добилась выдающихся успехов в борьбе с немецкими захватчиками.
30 января 1945 года, находясь на подходах к Данцигской бухте командир ПЛ «С-13» обнаружил, преследовал и тремя торпедами потопил шедший из Данцига немецкий лайнер «Вильгельм Густлоф» водоизмещением в 25 484 тонны. Лайнер «Вильгельм Густлоф» имел длину 208 м, ширину 23,5 м, осадку 8,2 м, ход – 15 узлов. В момент потопления на борту лайнера находилось свыше 8000 человек, из которых 3700 человек обученных специалистов-подводников, которые следовали к месту назначения для использования в предстоящих операциях немецкого подводного флота. (Сведения о потоплении лайнера «Вильгельма Густлофа» подтверждаются шведскими газетами и радиостанциями.) Спасти удалось только 988 человек. Потоплением лайнера нанесен непоправимый удар по подводному флоту фашистской Германии, так как при потоплении погибло такое количество подводников, которого было бы достаточно для укомплектования 70 подводных лодок среднего тоннажа, Этим ударом «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеско сорвала планы фашистских захватчиков на море.
Продолжая действовать на коммуникациях противника, командир ПЛ «С-13» 9 февраля 1945 года ночью обнаружил немецкий крейсер типа «Эмден», шедший в охранении эсминцев. Несмотря на сильное охранение, капитан 3 ранга Маринеско, умело маневрируя, в течение 4,5 часа настойчиво преследовал противника и добился победы. Обе выпущенные торпеды попали в крейсер… (На самом деле потоплен был военный транспорт «Генерал фон Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн с 3600 танкистами на борту, имевший силуэт, похожий на крейсер. – В. Г.).
За время Великой Отечественной войны, плавая в должности командира подводной лодки, капитан 3 ранга Маринеско утопил: 1 крейсер, 1 лайнер водоизмещением 25 484 т и два транспорта общим водоизмещением 12 000 т. Кроме того, выполнял задания по прикрытию фланга наступающей Красной Армии…
За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, за отвагу и мужество, проявленные при уничтожении транспортов и немецкого крейсера типа «Эмден», за потопление 3700 специалистов-подводников командир ПЛ «С-13» капитан 3 ранга Маринеско достоин высшей правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 1-го дивизиона ПЛ БПЛ КБФ капитан 1 ранга А. Орел
20 февраля 1945 года».
(Подлинник этого примечательного документа находится в Центральном военно-морском архиве, ф. 88, опись 2, дело 416, лист 160. – В. Г.).
Подвиг экипажа и командира в этом документе представлен достаточно ярко и выпукло.
* * *
Сорок пять лет живет советский народ мирной созидательной жизнью. Все это – благодаря тем, кто не жалел крови и самой жизни на фронтах неслыханно жестокой войны. В том числе – благодаря Александру Ивановичу Маринеско и его подчиненным.
Так спасибо и низкий поклон всем им – мертвым и живым участникам Великой Отечественной войны! Спасибо за их огромный вклад в нашу Великую Победу, за завоеванные и защищенные ими мир, счастье, созидательный труд!
Николай Стариков
ПОБЕГ ИЗ РАЯ
Поэма
1
Я за собою жгу мосты, —
Я убегаю из Москвы,
Такси,
Сквозь улицы и лица,
Впиваясь шинами в шоссе,
Через московские просторы,
Через тяжелые раздоры
Меня уносит из столицы,
Из прошлой жизни вообще.
Мелькает вязь литых проспектов,
И путь, непознанной длины,
Меня уносит однозначно
От подчиненности задачам
Семьи и быта; от прожектов,
Которым чувства не даны.
Уже на трассе просветленность,
И оживают краски дня,
А мне все чудится погоня,
А мне все кажется: погода
Возьмет и сдержит
Устремленность,
И выдаст прошлому меня.
Я убегаю, бросив вызов
Давно чужому очагу
И женщине со странным взглядом,
Словно меня ей высечь надо,
Что я от мелочных капризов
Еще – смотрите-ка! – бегу.
Я тороплю в душе таксиста,
Но неоплаченной мольбы
Не слышит он и без азарта
Рулит по корочке асфальта…
Я не потомок Монте-Кристо,
Чтоб откупаться от судьбы,
И все же,
Все же осторожно
Шепчу я: «Шеф, держи… Беда!»
Я объяснить ему не смею,
Что нас преследует не фея…
Тот веселеет: «Это можно!» —
И нажимает на педаль.
И тает,
Тает в отдаленьи
Столицы жесткое клише.
Я расправляю робко плечи,
Дышу спокойнее и легче,
И светлый дух освобожденья
Неслышно селится в душе.
И потому я жгу мосты
И убегаю из Москвы.
2
В Москве недавно прописала
Мою судьбу моя страна.
Руководящая Россия
По всем углам легко носила
И вот меня, почти под старость,
Столице вверила она.
Друзья завидуют – еще бы! —
На это множество причин:
Я кресло в а ж н о е имею
И ни о чем «не сожалею».
Теперь – считают – я до гроба
Благополучный гражданин.
Я был бы рад такой раскладке,
Да вот сомненья завелись.
И так, что я порою трушу,
Мне точат,
Точат,
Точат душу…
Неужто вправду:
Ж и т ь в д о с т а т к е
Для нас единственная высь?
Вот-вот,
Вопрос высокой мерки,
Тут заковыка – будь здоров!
Мы все как будто бы не лживы
И говорим порой красиво.
С чего ж так часто на проверку
Цена обманчива у слов?
С обычным людом дело проще,
Тут скажем правду не тая:
Кто вынес гайку из завода,
Тот, значит,
В р а г в с е г о н а р о д а.
А для врага —
Пускай не ропщет! —
Всегда отыщется статья.
А вот как быть:
Не «вор в законе»,
А чин, способный услужить,
Вовсю бесчинствует в границах
Номенклатурной единицы.
Его дела – в запретной зоне,
Там и закон не уличит.
Кому-то крепко он угоден,
Коли с поста —
Ни снять, ни сбить.
Не потому ль никак поэтам
Не подступиться к темам этим:
За гайку – срок,
За взятку – орден.
Вот-вот, вопросец…
Как тут быть?
Но – тсс…
Я закрываю рот,
Чтобы попасть на самолет.
3
Аэропорт встает в неоне,
Надменно, холодно встает.
Властитель тех, кто рвется к небу…
Здесь ничего, мой друг, не требуй:
Ведь здесь живут по тем законам,
Что пишет сам Аэрофлот.
Аэрофлот…
Контора, что там!
Погода есть – счастливый путь!
А нет – так нет…
Аэрофлоту
Чужды насущные заботы:
Помни бока.
Умойся по́том,
Перекантуйся как-нибудь.
И персонал не беспокоя,
Пройди досмотр и не шали.
Закрыв глаза, приемли грубость,
Всегда готовь к улыбке губы…
Не то
Пришьют тебе такое —
Не оторвешься от земли!
Но, слава богу, все в порядке:
Передо мною трап, как сон.
Я по нему, уже законно,
В салон вбегаю просветленно,
И замирает сердце сладко:
Неужто все-таки – спасен?
Трап отъезжает,
Дверь закрыта,
Я отсечен теперь – ничей! —
И от семьи, и от квартиры,
И от завистливого мира,
И от наскучившего флирта
«Дипломатических речей».
А кресло, кажется, впитало
Все тело,
Страхи отогнав.
И я, наверно с глупой миной,
Уже посапываю мирно,
И даже в шелесте дюраля
Улавливаю шелест трав.
И утомленный давней болью,
Я отхожу…
Мне повезло,
Что в этом быстром перелете
Я не завишу от кого-то,
И что лечу на Ставрополье,
В родное русское село.
4
Меня, конечно, не встречают:
Я не министр, не депутат.
Я – рядовой, солдат народа…
Меня встречает лишь природа
Простыми, тихими речами,
Не признающими оград.
Автобус всасывает долго
Толпу приезжую в проем.
И лишь, когда он стал как бочка,
Шофер решил поставить точку.
А как просторно
В черной «Волге»,
Где думы – чаще о своем.
До краевого центра было
Езды каких-то полчаса.
Меня ж дорога укачала
Не тем,
Что с трех сторон сжимало,
А тем,
Что прямо в уши били
Разноязычно голоса.
Я приспосабливался к давке,
К свистящим звукам у виска.
И замечал я не без грусти:
Как глухо говорят по-русски! —
Как будто сдавлена удавкой
Гортань родного языка.
Такое время, видно, ныне,
Тут упрекать кого и в чем?
Мы жен своих не истязали
За то, что мало нам рожали,
Зато горбатили их спины
Чернорабочим хомутом…
Мои раздерганные мысли
Исчезли сами по себе,
Когда кассир за толстым «плексом»
Ответил мне по-русски, с блеском,
Что, мол, билеты нынче вышли,
А бронь…
Она, брат, не тебе!
Что ж,
Не впервой такое чудо,
И не в последний раз, видать.
Мне столько колесить случалось!..
И ничего не оставалось,
Как обратиться к добрым людям —
Они-то выручат всегда.
5
Лечу в разболтанной попутке,
Водитель – матерный мужик.
Хоть говорит без остановки,
А сколько мудрости и толка
В его почти трагичных шутках.
Силен, знать, с детства на язык.
Ему попутчик как награда:
Пооткровенничаешь всласть!
Глядишь, и сердцу полегчало,
И меньше горечи в нем стало,
Что не от водочного яда…
Да это что ж,
Намек на власть?
Да нет,
На тех, кто к ней дорвался,
На тех, кому она хмельна…
Мужик – он что, оно известно,
Везет телегу бессловесно,
Но как бы он ни надрывался, —
Туда ли катится она?
– Слышь, – он твердит, —
Наш председатель
Все кулаком:
То в стол, то в грудь.
А все колхозные излишки
Текут на разные д е л и ш к и…
а он же, слышь меня,
П р е д а т е л ь!
А вот никак не сковырнуть!
Что тут сказать и что ответить?
Мужик и сам-то с хитрецой.
Порой такого наворотит,
Что не поймешь:
Он «за» или «против»?
И ни к чему ему советы —
Он сам мудрей в конце концов.
А говорит он для острастки,
Чужак ведь что: сошел – и с плеч:
А вдруг свое промолвит
С л о в о?
Глядишь, и в е р с и я готова.
Тогда сельчанам без опаски
Он передаст ч у ж у ю речь.
Что ж,
Человек – он небезгрешен,
Он даже в слабости силен.
Его сомнения, как язва,
На нем,
На теле государства,
И если нынче он повержен,
То завтра, смотришь,
Счастлив он.
6
Порой ему, чужому счастью,
Завидуем мы впопыхах.
Но и чужое счастье тоже
Сдирало ногти или кожу,
И, может, часто, слишком часто
Оно испытывало страх.
Страх
Перед взглядами знакомых,
Перед упреками родных,
Перед случайностью любою,
Что обливала сердце болью.
Ведь нет их,
Нет пока законов,
Оберегающих двоих.
А двое
Порознь шли по свету,
Их жизнь кружила, как и всех,
И кто мог знать,
В какой дороге
Объединятся их тревоги.
И разнесется ль над планетой
Их общий, выстраданный смех?
Глава о счастье, как ненастье,
Ее нельзя сложить порой.
О, если б в жизни было просто
Сказать: я счастлив, нет вопросов!
Сказать: не надо мне участья,
Сказать – и выронить перо!
Но что ж его сжимаю крепче?
Еще чуть-чуть – и брызнет кровь.
И сразу вспыхивает память,
И чем унять больное пламя,
То пламя мыслей, что увечит
В нас беззащитную любовь?
Нет,
К счастью путь неотвратимо
Лежит сквозь горе и сквозь гнев,
И добывается, не скрою,
Неимоверною ценою,
Или глотает столько дыма,
Что умирает, не созрев.
А мы хранить еще но можем
Едва пробившийся росток.
И так обыденно мы толчем
Над чем
Почти всю жизнь хлопочем.
Я тоже был неосторожен,
Я тоже мог быть счастлив, мог.
7
Все началось
Тому лет двадцать:
Я был юнец, она – вдова.
Я был наивен и беспечен,
Она поопытней, конечно,
К тому же так могла смеяться,
Что вдруг хмелела голова.
Я до нее не знал ни женщин,
Ни ласк любовных, ни утех.
И, не смущая наших граждан,
Признаюсь: целовался дважды…
И долго был я безутешен,
Что целовал – увы! – не тех.
В те времена девчата знали,
Как ухажера укротить.
И на гулянках, за подружку
С ретивых так сгоняли стружку,
Что те надолго забывали,
Как говорится, есть и пить.
Да с кем такое не случалось
До встречи с самой-самой, с той!
Моя неробкая невеста
Меня поставила на место,
А я ее – не огорчаясь —
Нередко сравнивал с мечтой.
Мне было радостно и горько,
Я падал вниз и вверх взлетал.
Я был всесильным и бессильным,
Порою даже инфантильным,
И верил ей одной настолько —
И жизнь вокруг не замечал.
И брошенный командировкой
В иные дали и места,
Я, возвратившись из отъезда,
Бывало, по всему подъезду
Соседей спрашивал неловко:
«Куда ж ушла моя… мечта?»
Тогда, вращаясь в странном круге,
Нагим подставленный под свет,
В любые крайности бросаясь,
Я прозревал…
И мне казалось,
Что видел я в своей подруге
Те качества, которых нет.
8
Герой задумался…
Не будем
Его тревожить без нужды.
Увы, теперь он не мальчишка,
Теперь герою сорок с лишком.
И если сам себя он судит —
Другие не нужны суды.
Пока он думает о прошлом,
Мы предыдущий монолог
Дополним выкладкой недлинной.
Пусть совершенно не былинный,
И все ж – по нашим дням —
Не пошлый
Образ героя…
Косный слог!
Кирилл Уваров, скажем вкратце:
Молчун, нескладен, не силач.
Он от жены сбежал негласно
И, стоя на черте опасной,
И сам не знал, куда податься
Помимо отчего села…
…Райцентр героя встретил молча.
Закрыто все!
Что ж, выходной…
Как будто кто-то их ограбил,
На станции ругались бабы:
«Ведь зной, а горло не промочишь.
Хотя б водою ключевой».
Видать, на все указы сверху
Здесь, на местах, другой указ!
Как чистить рыбу, всем известно,
Она ж гниет с другого места.
И тут, наверно, не до смеха
И тем, кто выше, выше нас!
От перестройки к перестройке
Метались чувства и умы.
Потом спохватывались: боже,
Таким путем идти негоже!..
Знать,
Мы не только «из-за стойки»
Дошли до нынешней сумы.
Вот и герой наш:
Что нашел он?
Что все свершается кругом
Не так, как пишется в газетах,
Не так, как видится поэтам?
Хлеб бытия – он так же солон
И добывается с трудом.
9
Село…
Родимый дом, родимый…
Как одряхлел он, как поник!
Как ветерок полощет ставни…
И что с ним,
Что с ним, милым, станет
В тот роковой, неотвратимый,
Все приближающийся миг?
Через открытую калитку
Я захожу во двор отцов.
Какое всюду запустенье,
Как будто здесь ютятся тени!
И мать походит на улитку,
И смотрит горестно, без слов.
Страна!
Забудь на миг заботы,
Взгляни с космических высот
На наши русские селенья,
Что догорают, как поленья,
Хотя они немало пота
Вложили в дерзкий твой полет!
Во всех республиках союзных
Бывал по долгу службы я.
И ни в одной,
нигде,
ни разу
Ничто не укоряло глаза:
Да, в них —
И в западных, и в южных —
Светлей палитра бытия.
Россия жилы надрывала,
Чтобы сестер одеть, обуть.
Чинила улицы и грады,
Давала хлеб,
чины,
награды.
Все от себя же отрывала —
И в том ее натуры суть!
И я, как Родину, покрепче
Обнял тоскующую мать.
Ведь много ль ей, старушке, надо?
Сын возвратился —
В доме радость!
Теперь-то, знамо, станет легче
И ей хозяйство поднимать.
Оно бы так…
А все же гложет
Вопрос: а где ж семья, жена?
Да и надолго ли к порогу?
О эта вечная тревога
Так зябко охлаждает кожу,
Что даже радость не видна.
Прошла неделя в отчем доме,
«Я не виновен» – все твержу.
Хоть и сбежал, свободен вроде,
Но боль и здесь меня изводит.
И ни в одном марксистском томе
Ответа я не нахожу.
10
Она мне встретилась случайно,
Упав с небесной высоты.
Она сидела тихо рядом
И не меня искала взглядом,
Но мне запомнилось отчаянье
Ее уральской красоты.
Я и не знал: ее спасут ли
Мои бесцельные слова.
Мне скажут критики: «Все ясно —
Жена плоха, она – прекрасна!»
И не поймут,
Что в главной сути
Их мысль болезненно права.
Порою в жизни все сплетется
В такой мучительный клубок,
Что ничего – за все издержки! —
Не надо, кроме лишь поддержки.
Откуда же она возьмется,
Когда ты, в общем, одинок?
Но вот он – случай, вот – награда,
Не упусти же их, смотри!
И ты в отчаянной надежде
Найти потерянное прежде
Бежишь,
Спасаясь от разлада,
Забыв,
Что он в тебе, внутри.
Разлад чего?
Души и духа?
Ума и плоти?
Дел и слов?
Или разлад твоих воззрений
С холодной волей чьих-то мнений?
А ты, как будто бы стряпуха,
Покорно варево готовь?
Так что ж,
Борьбы сегодня нету?
Или враги наперечет?
С чего ж тогда в слоях различных
Твердят со злобой заграничной:
«Ах вы, романтики-поэты,
Еще посмотрим, чья возьмет!»
Немало тех, кто этот лозунг
Пока что прячет, как обрез.
И увлекает в подворотни
Народ —
Повзводно и поротно…
И остро чувствую угрозу,
Как будто бритвенный порез!
11
И сердце туго спеленала
Тоска, как рыбу перемет…
И я от той тоски, сквозь хляби,
Бегу,
качу,
лечу – в Челябинск…
Но и в полете не стихало:
«Еще посмотрим, чья возьмет!»
И мой сосед, скорей из «бывших»,
Шипел: «Ты, милый, прыть умерь…
Нам, знаешь, эта перестройка
Всего лишь горькая настойка.
А мы пивали кой-что чище
И будем так же пить, поверь!»
О боже,
Истина-то – рядом!
Вот в чем беда, вот в чем разлад:
Мы все выходим из народа,
И стало чем-то вроде моды
Кичиться купленной наградой…
Как ныне много тех наград!
Мы все выходим из народа
И… забываем про него.
А он, народ,
Не любит барства
И тянет, тянет государство,
Не признавая по природе
Вот этот лозунг «Кто кого?»!
Живет, не мудрствуя лукаво,
Не веря разным чудесам.
Ведь лозунги нередко тоже
Лицом на их творцов похожи,
Но в этом ли святое право,
Что завещали предки нам?
А завещали нам немало,
И не какой-то там пустяк:
Е д и н с т в о —
Жить семьей одною,
Где в с е равны перед страною,
Где труд для всех
И есть начало —
Не персональных – общих благ!
И как бы землю не качало,
Мы знаем, верим «кто кого»!
А чтоб не омрачалась радость.
Нам крепко присмотреться надо:
Кого свергаем с пьедестала,
Кого мы ставим на него!
Ведь и от слова мало толку,
Когда оно о пустяках…
И вызревает неподспудно:
Пока
лишь мысли
все подсудно!..
Мы только начали прополку,
А всходы – в тех же сорняках!
12
А под крылом —
Дымы Урала,
И трубы встали, как шприцы,
Что в небо впрыскивают туго
Болезни наши и недуги…
А матери дают устало
Младенцам полные сосцы!
И мы,
Подверженные с детства
Расстройствам трактов и аорт,
Издержки века и правительств
Передаем, еще не видясь,
Потомкам нашим, как наследство,
Ведя губительный отсчет…
В полете столько всяких мыслей —
Их и в поэму не вберешь!
Кем ты ни есть в державном штате,
А будь всегда готов к расплате,
Если, цену себе завысив,
Вседозволением живешь.
Кто сквозь закон,
Как нож сквозь масло,
Кто власть, как нож,
Зажал в руке,
Кто смотрит на простые лица,
Как будто он из-за границы, —
Тот мнит:
Не он для государства,
А государство для него!
Когда и как вошло все это
В жизнь,
в кровь
и даже в разум наш?
И мы давно твердим – не спьяна! —
О роковых издержках плана,
Загнав мыслителя-поэта
В подбор, в обрубленный тираж!
…Но что там за столпотворенье?
С чего пронзительны глаза
У пробежавшей стюардессы?
И нет об окончаньи рейса
Торжественного объявленья.
Хоть он закончен… по часам?!
В салоне тоже перемены:
Покоя в лицах не видать.
Сосед притих: да как же это —
Не принимает нас планета!
А он-то думал, что пельмени
Его у трапа будут ждать!
13
Никто но верит, обнаружив
И дым, и пламя за крылом,
Что на поверхности металла
В игру рисково заиграли —
Из нас же вырвавшись наружу —
Больные мысли о былом.
О эти игры!
Где в них правда?
Где кривда? – разве различишь,
Когда смешались дым и пламя,
Любовь и ненависть за нами,
И ты —
Так вот она, награда! —
К земле распятием летишь.
Когда, казалось, до ответа
Всего минута – приземлись!
А тут —
Хрустят суставы сплава,
И самолет, словно держава,
Из голубых высот планеты
Летит, обугливаясь, вниз!
Еще летит…
Сквозь запах тленья,
Сквозь пустоту – до полосы…
Но как стремительна бетонка,
Она черна, как похоронка,
И страшен
миг прикосновенья
К ней
раскаленного шасси.
Еще летит, скрывая раны,
Над певчим лесом, над травой…
А позади —
Вся жизнь, как солнце,
А впереди —
В мечту оконце,
И ты скользишь по тонкой грани,
А там —
Иль все, иль ничего.
Соседу, вижу, стало ж а р к о:
Он весь обмяк и сразу сдал.
Зову зачем-то стюардессу,
А сам вдыхаю запах леса…
И отчего-то стало жалко
Жизнь,
От которой я бежал.
Не так уж плохо было в прошлом,
Не так уж плохо…
Только – стой!
В такие жесткие минуты
Как раз и сбрасывают путы,
Чтобы не выглядело пошлым,
Чем раньше жил,
Что взял с собой.
А грань тонка, тонка, как жизнь.
Шасси, коснись земли…
Коснись!
14
Как в экстремальные минуты
Все примирить в себе, смирить?
Считать побег
Поступком чести?
Страсть к власти, к деньгам —
Жаждой лести?
Вседозволенье – корень сути —
Приняв за должное, п р о с т и т ь?
Тогда как быть,
Чем ж и т ь герою,
Что истязал не год один
Себя за преданность декретам,
За право быть во всем Поэтом:
Ведь так и не обрел покоя
«Благополучный гражданин»!
Герой не брал в расчет везенье,
И нам его не брать в расчет.
Уваров —
Человек обычный.
Не оттого ли непривычно
Его
Последнее паденье
Мы
Ощущаем, как полет?
Глава скатилась к середине,
Но истощились вдруг слова…
Как мало времени осталось,
Чтоб завершилась,
Досказалась
Так славно начатая ныне,
Еще н е я с н а я глава…
ВЕДЬ ТАМ, ЗА ГРАНЬЮ КЛЮЧЕВОЙ,
БЫТЬ МОЖЕТ ВСЕ, ИЛЬ – НИЧЕГО!
1985