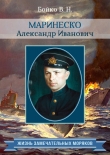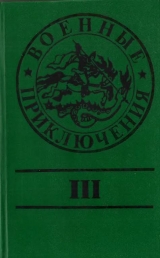
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
VII
«…Беру в руки исторический журнал нашей подводной лодки, – написал мне в одном из очередных своих писем бывший инженер-механик лодки Яков Спиридонович Коваленко, – читаю лаконичные записи (подробно записывать нам тогда было некогда) и вспоминаю все, что происходило с нами от записи 30 января до второй подобной записи, сделанной через десяток дней… Напряженное это было время. Нужно было прежде всего осмотреться и разобраться с неисправностями…»
– Да, так оно и происходило, – единодушно подтвердили члены экипажа. – Как только окончательно оторвались от преследования, сразу же всплыли в надводное положение, чтобы подзарядить аккумуляторную батарею и пополнить запасы воздуха высокого давления. Занимались этим мичман Василий Иванович Поспелов, старшины и матросы Василий Пархоменко, Федор Данилов, другие моряки…
А тем временам в носовом отсеке возле торпедных аппаратов накоротке собрались торпедисты мичман Василий Федорович Осипов и Владимир Курочкин, герои дня сигнальщик Анатолий Виноградов и гидроакустик Иван Шнапцев, моряки других боевых частей. Разговор зашел о том, как из четырехторпедного залп оказался трехторпедным.
– Дернул я рукоятку, – вспоминал командир отделения торпедистов Владимир Курочкин, чернобородый и черноусый богатырь, – чувствую, вроде бы автомат-коробка сработала. Но ведь торпеда-то из аппарата не вышла! Уж это я как-нибудь понимаю… В чем же дело? В голове тысячи мыслей, а главная, одна-единственная: что с кораблем будет, если торпеда торчит из аппарата?! Ведь в этом случае курок откинулся, машины торпеды заработали, вертушка инерционного ударника от встречного потока воды вращается. Еще немного, и ударники освободятся от стопоров. А там – достаточно резкого толчка, близкого взрыва глубинки, и боек ударника наколет капсюль. Охнуть не успеешь – рванет торпеда, сдетонируют запасные… Словом, гибель неминуемая. Даже руки вспотели от волнения! Хорошо, что в самом деле автомат-коробка подвела, не сработала. Торпеда из аппарата так до конца и не вышла. Но напереживался я, да и Василий Федорович с «бече» нашим основательно!
– У каждого свои переживания! – подхватил гидроакустик Шнапцев. – Я ведь тоже было труса спраздновал, когда услышал в наушниках, сколько сторожевиков со всех сторон на нас накинулось. Локационные импульсы не только по корпусу лодки, а и по ушам мне молотят. Гул в ушах, а попробуй ошибиться, ее обнаружь хотя бы одного на них – я ведь пятнадцать насчитал! Командир примет неверное решение, лодку прямо в лапы фашистам направит. Вот когда почувствовал я, какая огромная ответственность на мне лежит. Жизнь лодки, ваша жизнь, ребята! Так что ошибаться нм в коем случае нельзя! И как же рад я, что сумел точно определить, где они, эти сторожевики да миноносцы!..
Однако переживания переживаниями, а боевой поход продолжался. Надо было восстановить боеготовность лодки. Для этого «тринадцатая» прошла чуточку к северу от Штольпен-банки и легла на грунт.
Все торпедисты собрались в своем отсеке, чтобы перезарядить аппараты.
Сложное и ответственное это дело. С помощью талей надо снять со стеллажей восьмиметровые стальные сигары, наполненные тротилом, потом вручную загрузить их в торпедные аппараты. В тесноте отсека не развернешься. Здесь даже физической силы такого здоровяка, как Владимир Курочкин – чемпион Кронштадта но борьбе, – было явно недостаточно. А большему числу людей негде поместиться. Значит, в такой работе нужны большие навыки, отличные знания, а еще – смекалка и ловкость. Обычно весь экипаж переживает за торпедистов в те минуты.
«Зарядили мы первый аппарат, подходим ко второму, – сообщает в письме торпедист Илья Павлятенко. – Вдруг слышим – хлопнула переборочная дверь между третьим и вторым отсеками, и тут же голос командира:
– Ты куда?
– Да вот, товарищ командир, к торпедистам с горяченьким!
– А-а, это хорошо. Ну и нам с комиссаром налей по стаканчику горяченького…
Через мгновение открывается переборочная дверь в отсек, и появляется наш кок Дима Кондратов.
– Разрешите, товарищ капитан-лейтенант, кофейку нашим торпедистам?
– О-о, Кондратов! Пожалуйста.
Все мы переглянулись и с довольными улыбками протянули кружки к чайнику. Как приятна забота товарища! Ведь не только мы, а каждый в экипаже здорово устал, недаром была команда «Свободным от вахты и работ отдыхать!». А вот он проявил такую душевность и внимание.
Зарядили мы аппараты, привели их в исходное положение. Командир бече пошел докладывать о проделанной работе. Слышим через переборку:
– Ясно. Значит, все хорошо?
– Так точно.
– Комиссар! Ты по отсекам ходил?
– Ходил.
– Люди отдыхают?
– Нет.
– А как ты думаешь, если я дам команде по 75 граммов и хорошую закуску?
– Будет правильно.
– Степаненко! – это командир нашему доктору и главному провизионщику кричит, – выдать команде по 75 граммов, ветчины с горячей картошкой, какао и по плитке шоколада! А потом лично проследи, чтобы, кому положено, отдыхали!..»
Приятно читать такие строки. В них характерные для подводников забота и внимание командира к команде и членов экипажа друг к другу. Кстати, именно этими качествами экипаж «С-13» здорово выделялся среди других.
…Низкие, лохматые тучи ползли над волнами, порою разражаясь коротким злым снегопадом. Грозно шумело неуспокаивающееся море. Уже наступил февраль – один из самых штормовых месяцев на Балтике. Еще короче стали мглистые ночи, и потому почти до самого рассвета торопливо грохотали лодочные дизели, пополняя запасы воздуха высокого давления и использованной за день электроэнергии.
Подходил к концу месяц пребывания «С-13» в зимнем море. Пожелтели матросские лица, ввалились щеки, неуверенной стала походка, особенно у молодых подводников. Сказывалась большая физическая и нервная усталость. Радость и прилив душевных сил, вызванные удачной атакой крупного фашистского лайнера, уже сгладились в повседневных заботах и тревогах.
Бессонные ночи и напряженные дни изматывали моряков. Порой и командиру казалось: стоит приткнуться где-нибудь в уголке – не разбудят даже пушечным залпом. Хотелось спать, спать, спать. Однако подводники крепились, по-прежнему внимательно несли вахты, мгновенно бросались на боевые посты по тревогам.
Чтобы поднять настроение экипажа, при всплытиях для подзарядки аккумуляторных батарей включали радиоприемник и слушали сводки Совинформбюро. Они были радостными – наступление наших войск продолжалось. Несколько раз радисты Сергей Булаевский и Михаил Коробейник выходили на волну Берлина, но там звучала только траурная мелодия – похоронный марш Зигфрида, печальные песни «Гибель богов» и «Был у меня товарищ». Германия продолжала траур по «Вильгельму Густлофу» с его пассажирами. И это радовало моряков. Задали они фашистам забот!
Оставаясь в прежнем районе, «тринадцатая» продолжала поиск. Под утро 6 февраля, чуточку спустившись южнее, почти на меридиан маяка Хел, лодка в крейсерском положении легла на курс 290 градусов. Ночь была туманной и на удивление (наконец-то!) штилевой. Вахтенным офицером стоял Лев Петрович Ефременков. Изредка оглядывая горизонт, больше для проформы – что увидишь в тумане! – и полагаясь в основном на уши гидроакустика, он перебрасывался скупыми фразами с штурманом, оставшимся на мостике после смены с вахты. Напрягая слух и зрение, вахтенные сигнальщики то и дело поворачивали головы то вправо, то влево. Туман был так плотен, что, казалось, глушил даже рокот дизелей, работавших на подводный выхлоп.
И вдруг Редкобородов дернул вахтенного за рукав:
– Лева, смотри!
Правее два-три градуса по курсу, кабельтовых в четырех-пяти вырастало какое-то темное пятно.
– Лево на борт! – молниеносно среагировал старпом. – Право на борт! – бросил он следом, – Срочное погружение!
«Тринадцатая», сделав мгновенный поворот координат, буквально в десяти – пятнадцати метрах разошлась с узким и длинным телом стоявшей в дозоре фашистской подлодки. Оказалось, та лежала в дрейфе, потому и не было слышно работы ее двигателей.
Уже разминувшись, подводники услышали, как заклацал затвор автоматической пушки немцев, потом длинная светящаяся трасса хлестнула за кормой «С-13». Но… туман уже скрыл лодки друг от друга.
Оказывается, обеспокоенные дерзкой атакой на лайнер, гитлеровцы усилили корабельные дозоры, даже послали в море авиацию и подводные лодки, чтобы держать под наблюдением этот важный район.
Уже когда «тринадцатая» оказалась на глубине, инженер-механик поинтересовался у командира, а почему, мол, не атаковать бы ту лодку.
– Во-первых, – спокойно ответил Александр Иванович, – обстановка для нас невыгодная. Во-вторых, торпеды надо беречь для более крупной цели. Наконец, противник тоже наверняка уклонился – не будет же он ждать нашей атаки. А искать в тумане…
Командир будто предвидел, что предстоит встреча с крупной целью. Несколько последних дней осунувшийся, побледневший Александр Иванович чаще приникал к перископу. Пока стальная труба, поднимаясь к поверхности моря, скользила вверх, по командирскому лицу пробегали зеленоватые, оранжевые, наконец, яркие солнечные блики, проникающие через окуляр. Зимняя Балтика распогодилась, однако оставалась пустынной.
В общем-то это было на руку экипажу, потому что в последние дни появилась в работе газотурбинных наддувочных агрегатов какая-то неисправность. Пришлось мотористам основательно потрудиться: они поочередно, один за другим, разбирали агрегаты, докапываясь до причины. И только днем 6 февраля, находясь еще в подводном положении, мотористы сняли защитный кожух компенсатора и обнаружили, что он сильно прогорел. Компенсатор – штука сложная, самим изготовить нельзя. Как же быть?
Тогда по предложению моториста Василия Прудникова приготовили асбестовую смесь, обмазали ею компенсатор, поверх наложили асбестовое полотно и стянули все вязальной проволокой.
Трое суток подряд работали мичман Павел Гаврилович Масенков, старшина 1-й статьи Петр Плотников, старшие матросы Василий Прудников, Николай Кот, Алексей Юров, Петр Зубков и Владимир Ревякин, врачуя дизели под водой, а в надводном положении несли вахту. И ни единого звука об усталости!
Именно в этот день, 9 февраля, из штаба флота получена была радиограмма о том, что наши летчики заметили вышедший из Либавы вспомогательный крейсер в охранении шести эсминцев. Даны были предположительный курс и скорость отряда. Ориентировка неплохая.
Но ведь отряд этот мог в любой точке моря отвернуть в любую сторону, изменить ход. Мало ли какая ему поставлена задача! Обстрел берега, блокада района моря, высадка десанта… Где его искать? У него курс один, а вот лодке – сотни курсов поиска.
Однако Александр Иванович сразу же «загорелся». Крейсер найти во что бы то ни стало! Часто стал поднимать перископ. Потом, что-то рассчитав, спокойно замер на излюбленном месте – на разножке возле перископа, рядом с вахтенным офицером. А потом неожиданно и незаметно забылся короткий тревожным сном. Видимо, волевым усилием успокоил себя, приказал «отдохнуть!». Иначе не выдержать напряжения. В тусклом свете отсечного освещения морякам особенно заметны стали сединки, усеявшие виски тридцатидвухлетнего командира, бешено пульсирующая тоненькая жилка на шее и трепещущие порой мускулы лица. Замерли люди в отсеке. Бесшумнее, мягче, осторожнее стали выполнять свои дела, чтобы не потревожить командира.
Через час Маринеско открыл глаза и посмотрел на руку со светящимся циферблатом. 22.00!
– Пора, инженер-механик!
Лодка медленно заскользила вверх.
Море было укрыто сплошной стеной тумана. Стена эта колыхалась буквально в десятке метров от лодки.
Напрасно напрягали зрение вахтенный офицер Редкобородов, наблюдатель сигнальщик Геннадий Зеленцов и фельдшер лейтенант медслужбы Григорий Андреевич Степаненко, выделенный в помощь им командиром. На глаза в таких условиях надеяться не приходилось. Теперь главным действующим лицом становился гидроакустик.
Иван Шнапцев, нахлобучив на голову черные колпаки телефонов, замер над шумопеленгатором. Едва, давая ход лодке, загрохотали дизели, он насторожился, затем обрадованно крикнул в переговорку:
– Пеленг – 50! Шум винтов крупного корабля!
Плотнее прижав наушники руками, акустик внимательно вслушивался в ритмичный говор винтов.
– Товарищ командир, похоже на тот, что потопили!
Слышимость была чрезвычайно слабой – значит, цель очень далека. Однако командир тут же поднялся наверх, чтобы, не прерывая идущую подзарядку аккумуляторных батарей, самому лично удостовериться, что обнаружена та самая цель, о которой предупреждал штаб флота.
Непроницаемая тьма окутывала горизонт – зги не видать. Но снизу непрерывно шли доклады, и командир, в общем, представлял обстановку. Иван Шнапцев, гидроакустик, снова и снова докладывал о судне, идущем с постоянной скоростью. Старшина предполагал, что крейсер идет постоянным курсом, потому что пеленг изменялся довольно равномерно. Только увидеть судно командиру и наблюдателям все еще не удавалось. То ли светомаскировка была безупречной, и силуэт судна терялся во мраке. То ли дистанция все еще не позволяла увидеть его напрямую. Следуя докладам гидроакустика, командир приказал лечь на курс сближения, потом еще и еще раз подвернул. Но что за наваждение: цель все еще пряталась от глаз. А ведь она была уже где-то близко. В этом, судя по четкости пеленгации, были уверены и командир, и гидроакустик. Какой-то непостижимый «летучий голландец»!
Пролетели полчаса-час погони. Вот уже полночь миновала. Начались новые сутки – десятое февраля. А цель, как и прежде, была только слышна.
– Огоньки, правый борт 20! – вскрикнул вдруг сигнальщик Зеленцов.
– Цель, пеленг 280 градусов! – подтвердил снизу гидроакустик.
Вглядевшись в указанное сигнальщиком направление, командир и сам заметил два постоянных белых огонька – тусклых, едва приметных. Наконец-то подводная лодка догнала и обнаружила тот самый отряд кораблей, о котором говорила радиограмма штаба фронта!
– Оба – малый! – приказал Маринеско. Он учитывал, что ночная тьма резко скрадывает расстояние, и можно проскочить цель, так и не успев подготовить данных для залпа.
Однако после поворота резко усилилась продольная качка, и лодка еще больше потеряла скорость. Пришлось увеличить ход до среднего… Полчаса гналась «тринадцатая» за огоньками, а они были по-прежнему далеки, то появляясь, то скрываясь у темного горизонта. И только минут через десять, когда внезапно очистился горизонт, командир на фоне темно-серых облаков увидел темные силуэты боевых кораблей. До них было около двадцати кабельтовых!
– Боевая тревога! Торпедная атака! Носовые и кормовые торпедные аппараты к выстрелу приготовить!
«Но мы в светлой части горизонта. Нас могут обнаружить!» – мелькнула у командира мысль, и как продолжение ее автоматически сорвалось:
– Оба полный вперед! Право на борт!
Едва прозвучала команда «Боевая тревога!», мостик лодки обезлюдел.
Штурман метнулся с мостика в центральный пост, к штурманскому столу. Фельдшер вслед за ним – во второй отсек, на свой боевой пост. Вместо вахтенного офицера на мостике рядом с командиром оказался старпом Ефременков. Александр Иванович, определяя по ночному прицелу данные для выхода на боевой курс, встал на площадку между тумбами перископов – привычное удобное место.
Расстояние до цели было малое. Чтобы фашисты не обнаружили лодку, командир перевел ее в позиционное положение. Теперь обстановка требовала от Александра Ивановича не только смелости и решительности, но быстроты а точности решений, полного хладнокровия. Главную цель охраняли три новейших эскадренных миноносца типа «Карл Галстер»: впереди и по одному с каждого борта.
– Видно, что-то ценное. Охрана очень уж солидная, а, Лев Петрович? – обратился командир к старпому. – И все-таки, что это такое: боевой корабль или транспорт?
– Издалека напоминает крейсер, – подсказал вызванный наверх штурман. – Видите, две чуть наклоненные трубы, характерные надстройки, похоже – легкий крейсер типа «Эмден».
– Да не все ли равно, кого топить! – откликнулся старпом. – В конце концов любой мертвый фашист лучше живого!
«Тринадцатая» продолжала сближаться с конвоем. Затем пересекла его курс за кормой, вышла мористее по правому борту. Опять, как и в прошлый раз, приходилось атаковать в надводном положении: скорость конвоя была порядка пятнадцати узлов, а лодка под водой такой скорости дать не могла.
«Значит, только в надводном и на самом полном ходу, иначе не успеем!» – решил командир.
Скрываясь на фоне темных низких облаков, лодка обошла эсминец конвоя с правого борта. Конвой, используя покров ночи, твердо удерживал курс 250 градусов. Очевидно, стремился как можно быстрее пройти опасный район моря. Догоняя его, «С-13» вспарывала мрачные волны буквально в десяти – двенадцати кабельтовых от кораблей, идя параллельным курсом. Поначалу все шло превосходно. Постоянный курс, постоянная скорость. Что еще надо? Вот-вот можно ложиться на боевой курс.
И вдруг ближний эсминец круто повернул на подводную лодку. «Неужели обнаружены? Неужели идет на таран?»
Было очевидно: надо уклониться во что бы то ни стало. Атака сорвана. Но все ли окончательно потеряно?
– Право на борт! На румб – 340 градусов. Старпом, пересчитай на стрельбу кормой! – бросил Маринеско. Он, оказывается, хорошо помнил отданное предварительно приказание – готовить к стрельбе и носовые, и кормовые аппараты. Удивительная предусмотрительность!
Описывая дугу циркуляции, подводная лодка скользнула в полумглу поредевшего тумана.
– Оба кормовые торпедные аппараты, товсь! – распорядился Ефременков. – Угол растворения – два градуса! Интервал – 14 секунд!
Командир решил атаковать на отходе, атаковать кормовыми аппаратами. Их, правда, всего два, значит, вероятность попадания уменьшится. Но командир был уверен в точности своего маневрирования, в расчетах старпома и в опытности торпедистов кормового отсека – мичмана Осипова и старшего матроса Павлятенко.
Из-за редкой завесы тумана увидел командир, как быстро нарастают контуры мчащегося корабля. Вот эсминец с мощным гулом проскочил мимо, не заметив низко сидящую в волнах лодку. На полном ходу он помчался в хвост конвоя.
Отлегло от сердца. Что-то другое насторожило немцев. Атака продолжается!
Торопливо наклонившись над визирной линейкой, командир увидел, как в прорезь прицела медленно вползает силуэт крейсера, и тотчас бросил:
– Аппараты, пли!
Тут же машинально глянул на часы: 02 часа 50 минут.
Легкий, чуть заметный толчок известил: торпеда вышла. Через четырнадцать секунд – второй.
– Вперед полный!
Торопливо отстукивая свое, летели секунды. Вот промчалось тридцать, пятьдесят. А взрывов все не было.
– Ну, старпом, промазали мы! – в сердцах бросил было Маринеско, как вдруг, расколов огненной полосой тьму ночи, громыхнул взрыв. Огромный столб пламени взметнулся в районе мостика корабля. И сразу же за ним точно такой же огненный столб взвихрился возле второй трубы. Несколько секунд спустя над кораблем взвился огромный шар черного дыма, затем сплошная стена пламени охватила все судно. Высоко в небо взлетели раскаленные обломки и куски металла…
Теперь ждать было нечего. Дело сделано! «Тринадцатая» увеличила ход. А десять минут спустя раздался троекратный оглушительный грохот. Даже издалека было видно, как от торпедированного судна во все стороны, словно от гигантского костра, брызнули искры. Три гидравлических удара один за другим обрушились на лодку. Видимо, на корабле взорвались котлы или сдетонировал боезапас. И тут же зарево, охватившее было судно, исчезло. Зато вспыхнуло несколько прожекторных лучей. Это со всех сторон, включив прожекторы, к тонущему судну бросились, подоспевшие дозорные корабли. Тем временем корабли охранения утюжили море во всех направлениях, отыскивая «виновницу». Над морем повисли гирлянды осветительных ракет. Сухо лаяли автоматические пушки. Однако трассы их шли в разные стороны. Вероятно, на кораблях не знали и не понимали, откуда пришла смерть.
Совершив послезалповый маневр, «тринадцатая» на полном ходу оторвалась от дозорных кораблей и незадачливого охранения, уйдя в темную часть горизонта. Только спустя почти четыре часа «тринадцатая» ушла на глубину, легла на грунт.
В историческом журнале лодки появилась новая запись:
«10 февраля на фарватере в районе Устки в 2 часа 50 минут потоплен военный транспорт водоизмещением 15 000 тонн».
Да, это оказался не вспомогательный крейсер типа «Эмден», как поначалу сообщала радиограмма штаба флота, а военный транспорт «Генерал фон Штойбен». Тот самый «Генерал фон Штойбен», который построен был в 1922 году как туристское судно для Северонемецкого Ллойда на судостроительном заводе «Вулкан» в Штеттине и считался по тем временам одним из самых больших и современных пароходов. Водоизмещение судна было 14660 тонн, длина – 168 метров, ширина – 20, скорость хода – 16 узлов, экипаж – 356 человек. Комфортабельные каюты парохода были рассчитаны на 1100 пассажиров. Правда, история поведала о том, что при репатриации немецких поселенцев из Латвии в 1937 году, например, во время одного из рейсов он взял на борт 2042 пассажира из Риги.
Оказалось, что и это – не рекорд. 1945 год заставил принять на борт уже 3600 человек – личный состав танковой дивизии, перебрасываемый для усиления обороны Берлина. Только теперь путешествие их закончилось смертной морской купелью. Охранявшие его миноносцы и подоспевшие корабли дозора сумели спасти только 300 человек.
Таким оказался еще один ощутительный удар подводной лодки «С-13» по немецкой армии, по фашистскому рейху.
Надо отдать должное штурману «тринадцатой» Николаю Редкобородову: когда он подтвердил, что обнаружен крейсер типа «Эмден», он не так уж грубо ошибся, сбитый с толку штабной радиограммой. Силуэт «Штойбена» на самом деле поразительно напоминал силуэт крейсера. Тем более что на Балтике такой корабль был всего-навсего один. Ошибка оказалась приятной: вычеркнута из списков вермахта танковая дивизия!
VIII
Любопытнейшее свидетельство о микроклимате в экипаже (как сказали бы нынче), о мире чувств и переживаний команды подводной лодки на заключительном этапе войны нашел я в предоставленных мне записях радиста «С-13» матроса Михаила Коробейника. Написанные бесхитростно, простым матросским языком, не склонным ко всякого рода реверансам и экивокам, они сказали мне, побывавшему подводником, куда больше, чем томики заумных изысков, занаученных рассуждений, в которых подчас и суть теряется, и душа исчезает.
Однако обратимся к дневнику.
«Новый, 1945-й, год встречали на финском пароходике «Полярная звезда», где жили мы в каютах с 27 декабря. Сначала посмотрели артиллерийский салют, послушали звон церковных колоколов, потом выпили за Новый год, за счастье родных и близких. В таком виде сошел на берег вместе с В. Ревякиным и А. Припутнем. По глупости Алексей попал в полицейское управление. Вызванному туда комдиву он признался, что был в городе не один. Словом, все мы оказались на гауптвахте. Лишь 6 января, в связи с подготовкой лодки к новому боевому походу, возвратились с «губы». А тут ходят тревожные слухи то о расформировании экипажа, то об очередном боевом походе. С нетерпением ждем приказа о выходе в море, чтобы оправдать себя за проступки, добиться снова уважения командования. Обидно: десять дней назад за предыдущий боевой поход быть награжденным (кстати, М. Коробейнику за тот поход вручили весьма ценящуюся моряками медаль Ушакова. – В. Г.), а сегодня получить строгий выговор с предупреждением от комсомольской организации! Словом, утеряно доверие товарищей, знавших меня умелым и дисциплинированным моряком. Надо во что бы то ни стало доказать, что случившееся – случайность…»
Итак, чувство горечи, обиды, разочарования ряда матросов, Подобное, не будем скрывать, испытывал и командир лодки Александр Иванович Маринеско, мягко говоря, «задержавшийся в гостях» у хозяйки финской гостиницы-ресторана после встречи Нового года. Вольность, допущенная командиром, справедливо бросила тень на его доброе имя.
Так возникло парадоксальное явление: еще вчера героически проявившие себя в море, в боевом походе, командир и некоторые члены экипажа оказались как бы опальными, так как были повинны в прегрешениях.
Можно без преувеличения сказать: весь экипаж подлодки ждал выхода в боевой поход как возможность реабилитировать свой коллектив делом. Каждый мечтал о больших и звучных победах, которые сразу доказали бы, что моряки «тринадцатой» случайно допустили эту горькую оплошность, споткнулись «на ровном месте».
Психологически можно понять сложившуюся ситуацию. Естественно, что каждый человек имеет право на «разведку» после нелегких испытаний морем в боем. Недаром даже такой строгий в вопросах дисциплины, субординации и нравственности человек, как начальник Главного политического управления Военно-Морского Флота армейский комиссар 2 ранга Иван Васильевич Рогов уже в самом начале войны на совещании политработников заявил: «Снимите с людей, ежечасно глядящих в глаза смерти, лишнюю опеку. Дайте вернувшемуся из похода командиру встряхнутся, пусть он погуляет в свое удовольствие, он этого заслужил. Не шпыняйте его, а лучше создайте ему для этого условия»…
«Иван Грозный», как звали Рогова моряки, прекрасно понял психологическое состояние людей в условиях боя, особенно же – в условиях боя подводного, когда особую трудность составляет неопределенность положения. Невыносимо тяжело из-за невозможности своими глазами посмотреть на опасность, сориентироваться и что-то предпринять. А больше того – из-за невозможности «дать сдачи», когда тебя засыпают глубинками или по борту скребут минрепы минного заграждения. Все это до предела напрягает нервы, создает настоящий психологический стресс, а порой и нервные срывы.
Вероятно, подобные рассуждения имели место, когда комдив А. Е. Орел с комбригом и командующим флотом решали, как поступить с допустившим ошибку командиром и провинившимися его подчиненными. И хорошо, что возобладал здравый смысл: экипаж был отправлен в боевой поход. Как сказано было в напутствии, чтобы «кровью смыть позор».
Обрадованные таким исходом дела, воодушевленные тем, что им верят или, по крайней мере, хотят верить, моряки «тринадцатой» шли в море, вернее, не шли, а как бы летели на крыльях, готовые в любую секунду, встретив врага, нанести ему удар – меткий, стремительный, несущий возмездие. И, как мы уже знаем, добились своего. Все пять торпед, выпущенных и из носовых, и из кормовых торпедных аппаратов, попали в цель и нанесли врагу страшнейший урон.
Чья заслуга в этих победах? Разумеется, рулевого-сигнальщика Анатолия Виноградова обнаружившего в тяжелейших погодных условиях лайнер «Вильгельм Густлоф»; естественно, гидроакустика Ивана Шнапцева, в какофонии подводных шумов и собственных помех лодки определившего точные пеленги на «Густлофа», а затем и на «Генерала фон Штойбена»; само собой разумеется, всех мотористов а электриков во главе с инженер-механиком Яковом Коваленко, в немыслимых обстоятельствах позволивших «тринадцатой» догнать лайнер, выйти в атаку на транспорт; конечно же, торпедистов, руководимых командиром «бече» Константином Василенко, умело подготовивших торпеды, которые дошли до бортов вражеских судов; безусловно, старпома Льва Ефременкова и штурмана Николая Редкобородова, безукоризненно рассчитавших курс лодки на поиске и данные для выхода в атаку; наконец – командира Александра Ивановича Маринеско, сумевшего не только найти тактически грамотные, хотя и весьма рискованные, решения, но и сконцентрировать усилия всех своих подчиненных на обеспечение их выполнения. Причем особо – этого человека, храбро принявшего на себя все возможные последствия неудачи, не безрассудно, а глубоко продуманно ведшего экипаж на подвиг.
Следует отдать Александру Ивановичу должное еще и в том, что даже в минуту бурной радости всего экипажа он не терял головы, оставался по-прежнему собранным, внутренне мобилизованным. Море есть море, тем более военное. Ведь с окончанием атаки не кончается война, справедливо полагал он. Враг может нанести удар в самый неподходящий момент. И практика доказала правильность этих мыслей.
…Наступили третья сутки подводного перехода «тринадцатой» из заданного района в базу. Через каждые час-два старпом, замполит или сам командир обходил отсеки подлодки, чтобы удостовериться, что везде по-прежнему поддерживается тишина, позволяющая самим, оставаясь неслышимыми, слышать все вокруг; убедиться, что электрики и трюмные, рулевые и гидроакустики, другие специалисты предельно собраны, добросовестно несут вахту. Проходя по отсекам, офицеры накоротке напоминали морякам о суровом законе войны: кто расслабился, успокоился, почил на лаврах одержанной победы, тот рискует.
– Недаром говорят: риск – дело благородное. Я и сам не прочь рискнуть, – повторял Александр Иванович. – Только нужно каждый раз разобраться, а нужен ли он, что он дает, такой риск?! В любом случае риск должен быть оправданным, иметь определенную цель. Риск ради бахвальства я не признаю…
Ближе к вечеру, когда подводная лодка, по штурманским расчетам, уже подходила к небольшому островку Готска-Сандэ, что располагается у северной оконечности острова Гогланд, командир приказал боцману подвсплыть под перископ. Николай Степанович Торопов мгновенно переложил горизонтальные рули на всплытие. Лодка, приподняв нос, заскользила к поверхности, 20 метров, 15 метров глубины… Сейчас уже вполне хватало выдвинутого перископа, чтобы увидеть, что там, над волнами. Маринеско сжал ладонями рубчатую поверхность перископных рукояток, повел их вправо. Перед его глазами побежала рябь зеленоватых волн, за которыми угадывались тяжелые скалистые очертания дальнего островка. Но тут же послышался торопливый доклад младшего гидроакустика матроса Вячеслава Никишина:
– Слева 145 градусов – шум винтов подводной лодки!
Никаких ориентировок о выходе наших подлодок в шифрограммах, поступивших из штаба бригады, командир не получал. «Логически рассуждая, – так Александр Иванович уверял себя, – командование ни в коем случае не могло построить график выхода и возвращения своих лодок так, чтобы они встретились в подводном положении на одном фарватере». Вывод был однозначным: враг, каким-то образом узнав, где пролегают пути наших лодок, возвращающихся в базу и выходящих из базы, устроил засаду.
Была дорога каждая секунда – промедление грозит гибелью.
– Боевая тревога! Боцман, держать глубину 40 метров! – принял решение Маринеско.
Щелкнули манипуляторы горизонтальных рулей. Крохотный воздушный пузырек на рубиновом фоне дифферентометра медленно пополз вправо – один градус, два, три… Лодка, набирая скорость, неслышно пошла на глубину.