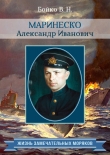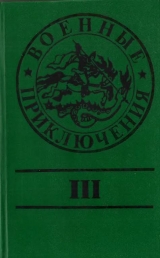
Текст книги "Военные приключения. Выпуск 3"
Автор книги: Николай Стариков
Соавторы: Алексей Шишов,Юрий Лубченков,Юрий Маслов,Виктор Пшеничников,Валерий Федосеев,Виктор Геманов,Оксана Могила
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
РАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОССИИ
Алексей Шишов
ЗАБЫТАЯ БИТВА У ВЕДРОШИ
Историческая повесть
Разведчик воеводы Щени
Над утопавшим в зелени Вильно опускался вечер. Моросил дождичек. Весной уже и не дышалось.
Двери харчевни были широко открыты для всех, кто мог расплатиться за обильную пищу и кров. Стояла она у въезда в город, и ее владельцы не терпели убытков ни в военное время, ни в редкие мирные годы. Посетителей хватала всегда.
В полутьме зала с решетчатыми оконцами под низкими каменными сводами стоял гам разноязычных голосов. Горело несколько чадящих факелов. Пахло подвальной сыростью и жареным мясом. О дубовые столы стучали оловянные бокалы с пивом и вином. Купцы и шляхтичи со своими слугами, рыцари-наемники с оруженосцами, монахи всех известных Риму орденов вечеряли.
Хозяин харчевни, внимательно следивший за всем, что творилось в его весьма прибыльных владениях, перегнулся через стойку. Босоногий мальчишка-разносчик что-то опасливо шепнул ему. Отослав его прочь, кабатчик незаметно вышел из-за стойки. И скользнул между столами в дальний от входа закуток зала. Там, за столбом, мирно ужинали двое, с виду полоцких купцов. Меж собой они вели тихую беседу.
Наклонившись над ухом старшего из них, кабатчик вполголоса сказал:
– Тот ливонский монах, что харчился один за столом у входа, кажется, узнал вас.
Купец, подняв русоволосую, стриженную под горшок голову, спокойно ответил:
– Что ему до нас. Мы не ведем торговых дел с орденскими братьями.
Кабатчик на такой ответ лишь усмехнулся краешком губ, затерявшихся в густой бороде:
– Но мой служка уследил, что монах спешно послал нищего в Верхний замок за стражей, сказав, что выследил лазутчиков-московитов. И дал убогому золотой.
Купец молча переложил из своего кожаного кошеля, висевшего у пояса, на раскрытую ладонь хозяина харчевни горсть серебра.
Тот шепотом добавил:
– Великокняжеские стражники скоро будут здесь. А монах сторожит с улицы вход.
В еще не сжатую ладонь легло несколько золотых монет…
Закутавшись в плащи, двое купцов осторожно вышли из узких дверей харчевни. На миг приостановились, чтобы дать глазам привыкнуть к темени. Руки держали на рукоятках широких ножей, что были заткнуты за пояс.
Откуда-то сбоку вынырнула фигура приземистого монаха, похожего по походке больше на орденского рыцаря, чем на слугу божьего. В руках он угрожающе держал увесистый посох со стальным наконечником, скорее похожий на короткое копье для метания.
– Я узнал тебя, русич! – зло выкрикнул монах. Мешая русские слова с немецкими и литовскими, со смешком, он горланил: – Я помню тебя по границе нашей земли эстов с Псковом, Тогда твой воевода Щеня не дал святому ордену взять рабов с русских деревень…
Старший из купцов, прерывая злобную речь ливонца, ответил:
– Ты ошибся, благочестивый монах. Мы торговые люди из Полоцка.
Но монах лишь распалился от такого ответа, преграждая им дорогу.
– Тебя прислал в Литву князь Иван! Ты московский лазутчик!
Где-то вдали по дороге от великокняжеского замка застучали копыта скачущих коней, Это сразу придало ливонцу решимости. И когда русские сделали шаг вперед, он ударил посохом в грудь ближнего от него. Тот с предсмертным вскриком упал у дверей харчевни. Второй купец, что был старшим, в ответ свалил монаха ударом ножа.
И сразу же бросился к упавшему товарищу. Приподнял голову и глянул без слов в уже незрячие глаза. Только тогда понял, что надо уходить самому. Конники слышались недалече.
Русский разведчик бросился прочь от харчевни. На боковой улочке, во дворе одного из бедных домишек, надежный хозяин укрывал двух коней…
Подскакавший к харчевне немалый отряд ночной замковой стражи нашел на ее дворе только двух убитых людей да потревоженных кабатчика и его посетителей. Свидетелей не было. Нищий, посланный ливонцем за помощью, сразу опознал погибших.
Один из московских лазутчиков, действовавших под видом полоцких купцов, по-видимому, обратился в бегство из Вильно.
Великокняжеские воины, не теряя времени даром, понеслись вскачь перекрывать дороги, ведущие из города. Конные стражники быстро и надежно загородили пути и дороги из столицы. Но их старания и ночное бдение оказались тщетными.
Тот, для кого выставили крепкие и зоркие заставы, перехитрил всех. Старший из мнимых купцов торгового города Полоцка, что стоял на перекрестке дорог на Белой Руси, уже мчался о «дву конь» прочь от Вильно по проселочным дорогам. Путь до Москвы лежал ему далекий. И держал он его в обход смоленской крепости. Севернее…
Всадник не жалел ни себя, ни резвых коней. Он не спасал себе жизнь, а нес в Москву важные вести о готовящейся войне великому князю Ивану III Васильевичу и его главному воеводе Даниилу Васильевичу Щене. Через каждые две-три версты пересаживался на отдохнувшего от седока скакуна. Погони русский разведчик не опасался. Мог уйти от любых преследователей, так как дороги на восток знал хорошо.
На случай же встречи с всегда вооруженным местным паном-шляхтичем или лесными разбойниками под плащом скрывались острый меч да увесистый кистень на короткой рукоятке. А под богатым кафтаном тонкая стальная кольчуга плотно облегала сильное, тренированное тело воина.
Разведчик, уходивший окольными дорогами из столицы Великого княжества Литовского, был сотником русского войска. Звали его Кузьмой Новгородцем, и являлся он ближним человеком московскому полководцу князю Щене.
В Литву Новгородец ходил не первый раз. Был он смекалистым и отважным воином, бесстрашным человеком в разведке, отличаясь при этом терпеливостью и завидным умением из крох составлять целостную картину. Языком белых русичей – белорусским – владел как русским, мог понять литовца, объясниться с поляком и немцем. Дар такой дала Кузьме природа, да в жизнь заставляла знать больше, чем положено простому сотнику.
Великий князь московский Иван III Васильевич много потаенных замыслов доверял ближним боярам-воеводам. Те понимали главный смысл в деяниях владыки, смысл его жизни – собирание в горсть, единый кулак древние русские земли, лежащие на западе. Русь после Батыева нашествия тянулась к Москве.
Даниил Васильевич Щеня через верных лазутчиков знал, что утихшая на несколько беспокойных лет война между двумя великими княжествами – Московским и Литовским – за обладание западными русскими землями вспыхнет вновь. На то были свои причины.
Литва являлась государством всевольных, могущественных магнатов и польской шляхты – многочисленной и жаждущей обогащения. А за спиной Александра Казимировича, сидевшего тогда на великокняжеском троне в Вильно, зримо маячил алчный Ливонский орден, уже поработивший земли латышей и эстов, И не раз немецкие рыцари-крестоносцы пытались мечом и огнем добыть земли вольных городов Пскова и Новгорода. Но те успешно отбивались сами или с помощью московской рати.
Иван III попытался решить судьбу Смоленщины, Северской земли с помощью династического брака. Такое не было новым приемом в отношениях между государствами, прежде всего соседями, во все времена. Великая княгиня Елена Ивановна, дочь московского владыки, стала женой великого литовского князя Александра, сына Казимира IV.
Напутствуя ее, отец просил о главном, сокровенном:
– Будь у трона Александра великой княгиней по деяниям, защищай «греческий закон». В княжестве твоего жениха возлюбленного православных людей большое число. Но ксендзы из Рима во всем губят православие, нашу святую веру. Они – правая рука Ливонского ордена, Руси заклятого врага. Будь тверда в вере православной и стой всегда за русских людей, что под Литвой находятся…
Среди почетной охраны, сопровождавшей великую княжну Елену Ивановну в дальней дороге, шла конная сотня Кузьмы Новгородца. Велик был свадебный поезд невесты правителя Литвы и будущего короля Польши. И встретили его в Вильно подобающим образом, кроме прибывших с Еленой православных отцов-священников. Да еще уж очень косо посматривали заезжие ливонские рыцари на русских воинов.
С ними у Новгородца были личные счеты: родная деревушка на Псковщине, стоявшая на рубеже с землей дружественных эстов, была выжжена рыцарями-ливонцами. Семьи не стало. А потом и старший брат, с которым Кузьма пошел в порубежные стражники, лег на поле брани. Тогда и стала смыслом жизни ратная служба для молодого псковича, защита русской земли от крестоносцев и прочих ее врагов.
Приметным супротивником на многие годы явился для орденских братьев московский сотник, разивший врага, идя только в первых рядах. Оттого и признал его в полоцком купце ливонский рыцарь в монашеском одеянии.
Через воеводу Щеню Иван Васильевич приметил бесстрашного и смышленого сотника в большом московском войске. Скуп был великий князь – род вел от Калиты. Но Кузьму Новгородца порой одаривал не только похвальным словом. Ценил за верность. Награждал за заслуги.
Сотник не раз и не два ходил лазутчиком в Литву то через Смоленск, то через Чернигов. Умел преображаться и в расчетливого, небогатого купца, и в идущего на богомолье странника, и в ищущего достойного хозяина разорившегося вконец городского шляхтича.
Известия в Москву Кузьма Новгородец с товарищами приносил с каждым разом все тревожнее. С великой княгиней Еленой Ивановной русским купцам с «красным товаром» видеться с глазу на глаз уже не разрешалось. Ближние к двору католические священники Вильно, ставшие в своем большинстве через несколько лет членами нового ордена иезуитов, неусыпно следили за ней. Все меньше оставалось в ее окружении русских людей, православных. И все больше велось в великокняжеском замке разговоров о новой войне о Московией.
Католическая церковь, Ливонский орден старались не зря. Уже на следующий год после замужества любимой дочери великий князь Иван III Васильевич стал упрекать в письмах своего зятя, Александра Казимировича, в нарушении данного им обещания – «не нудить» великую княгиню к «римскому закону»…
Кузьма Новгородец привез из последней разведки совсем худые вести. Магистр Ливонского ордена Вальтер Плеттенберг, комтур – комендант – Кенигсберга Людвиг Зансгейм и другие высшие чины ордена, готовя войну с Россией, стремились создать союз против Москвы с Литвой. Союз с соседом, которого крестоносцы готовы были проглотить в любой удобный момент. Свидетельств тому лазутчик воеводы Щени вызнал немало…
Возвращавшегося из Литвы разведчика «перехватили» на первой же русской порубежной заставе. На всех дорогах воеводы пограничных крепостиц, званьем и чином, как правило, выше Новгородца, знали сотника в лицо. И кто он, и зачем ходит на ту сторону. А кто не знал в лицо, знал по грамотам, что читались великокняжеским гонцом в порубежном остроге только одному человеку – его начальнику.
Умели в Великом княжестве Московском хранить тайны, молчать где надо. Иначе быть беде земле русской, а себе – погибель и позор роду твоему.
…Порубежные стражники «приняли» Кузьму на руки с загнанного коня – на литовской границе стража тоже не дремала. Пришлось тому уходить от потони. В остроге лазутчику дали час-другой выспаться. Накормили, посадили на свежего коня, дали воинов в сопровождающие. Чтоб уберечь разведчика от всякой напасти, а то и злого умысла тех, от кого он опять удачливо ушел.
До Москвы теперь оставалось только рукой подать. Можно было и подремать в седле там, где наезженная дорога шла среди ржаных полей и луговых сенокосов.
…Князь Даниил Васильевич, разбуженный под утро, принял сотника сразу, без промедлений. Велел накрыть стол для возвратившегося разведчика. Да не в людской, а у себя, наверху. Еще не отошедшие от сна слуги только молча переглянулись, бросившись в поварню и погреба выполнять приказание боярина.
Когда длинный стол накрыли под иконостасом, Щеня выслал всех прочь. Сотника не торопил с рассказом. Солнце еще тогда вставало за дальними московскими слободками. Великий же князь в неурочный час все равно никого не примет. Не война ведь и не крымский набег на засечную – оборонительную – линию начались.
Пригубив лишь кувшин холодного кваска, воевода думал о предстоящей войне, искоса посматривая за долгожданного вестника. Тот как бы читал ход мыслей главного московского военачальника. И, сидя за трапезой, впервые не торопил себя с той тяжкой для памяти минуты, когда перед уходом из корчмы закрыл собственной рукой померкшие очи товарища.
Степенно утолив голод, Кузьма Новгородец встал из-за стола, поклонился красному углу, где маленькая лампадка таинственно высвечивала лики святых с древних икон. Затем отдал земной поклон князю. И стал рассказывать: что видел, что слышал, что додумал сам. Говорил не торопясь, чтобы не упустить чего-нибудь.
Многое из того, что поведал сотник, воевода уже знал от других разведчиков. Всерьез встревожило то, что зачастили в Вильно гости из далекого Рима. Что все настойчивей стали требовать при великокняжеском дворе перехода великой княгини в католическую веру. Что все больше гонцов от магистра Ливонского ордена и комтура Кенигсберга появлялось в замке Александра Казимировича.
Выслушав Новгородца до конца, местами уточняя что-то в его рассказе, Даниил Васильевич, хоть и был рода боярского, спросил удачливого разведчика:
– А сам-то что думаешь о нонешней Литве? Чему быть в этом году? Дело к лету идет, дороги просыхают.
Кузьма вопроса как бы ждал. Ответил с поклоном:
– Быть большому походу, князь Даниил Васильевич. Православным все труднее жить и веровать в Великой Литве. Все больше людей к Москве тянутся. Упредим союз князя Александра с ливонцами – будут и земли возвращенные. С победой над литвинами и крымский хан посчитается, и орден земли псковские да новгородские год, а то и другой, не потревожит…
Боярин Щеня рода Патрикеевых малость схитрил, чуть припоздав во дворец к великому князю московскому. Из того опоздания были для него выгоды. Иван Васильевич сердиться за то сегодня не будет – знал с утра о прибывшем разведчике, о том, что засиделся тот у воеводы. Пусть другие бояре лишний раз увидят, кто в почете ныне на Москве.
Иван III хитрость полководца раскусил сразу – сам был хитрее многих. Сердиться для пользы дела не стал. Знал, что тому надо хорошо продумать, что и как сказать в боярском кругу.
Пока ожидался приезд Щени, Иван Васильевич со сдержанной улыбкой – хранить свои чувства мог как никто другой – говаривал за столом ближним боярам:
– Князя Щеню я люблю. Велик сей муж, и умен, и дороден, и верен Москве, и воинскою доблестью украшен – всем взял…
Бояре слушали молча и только головами кивали: да, великий князь, все так оно и есть. А про себя каждый из них подумывал иное – и в наших родах в больших воеводах ходили. Не одни Патрикеевы Русь обороняли да земли к Москве присоединяли. И мы за победами с дедовским оружием в походы хаживали, на приступы крепостей шли. Славу великим князьям добывали, а отцовскому роду – честь.
Прибывший князь Даниил Васильевич пересказал великому князю и боярам все, с чем прискакал в Москву сотник Кузьма Новгородец. Хвалить разведчика не стал – вести сами за себя говорили. Большая война вновь стояла на пороге Руси.
Иван III дал слово боярам. Те, не кипятясь, как часто бывало, повели государственный разговор. То, что войне с Литвой быть летом, – в том сомнений не было, А вот куда ударить с большей силой, какие крепости брать у князя Александра Казимировича, близкой родни великому князю московскому, кому быть в предстоящем походе воеводами – о том «лаялись» нещадно…
Дошла очередь высказаться и до боярина Щени. Поклонившись царю и думе (гордость в таком деле была просто никчемной), он сказал свое слово:
– Не во гнев тебе будет, великий князь, а то хочу сказать, что пора подбирать ключи к самому Смоленску, издревле городу русскому. А ключи сии – город Дорогобуж, что крепостью стоит на большой Московской дороге. Пошли, великий князь, воеводой большого полка – возьму тебе те ключи-то…
Тут уж бояре расходились, сдерживать себя на стали. Ишь, мол, Патрикеев, всю славу забрать вновь хочет, Иван III Васильевич «разделил» общее негодование ближних бояр с выгодой для государства. Как делал обычно. Но «разделил» по-своему. Воеводу Даниила Щеню решил придержать при себе.
А задумал вот что неутомимый собиратель земли русской:
– Упредить союз ливонцев с Литвой надо. Как и православную веру защитить от Рима. Ударим по супротивнику не кулаком в боевой рукавице, а пошлем в него три равные стрелы с разных сторон. От всех не прикроешься. А там, где прикроется мой родич главным своим войском, – там и быть решающей битве.
И, обращаясь к князю Даниилу, сказал так строго, чтобы каждый из бояр понял и не вздумал местничать – судиться – со Щеней:
– Тверской рати стоять подле Москвы. Быть ей моей последней силой и большим полком в войне. Тебе, боярин Даниил Васильевич, – ее воеводой. Главным воеводой московского войска. Пойдешь с Тверью туда, куда Литва своим войском ударит…
Великий князь московский встал. Встали за ним с лавок бояре и, кланяясь, стали расходиться. Многим из них в который уже раз приходилось заступать на воеводство. То была большая честь.
Иван III подозвал к себе Щеню:
– Скажи сотнику Новгородцу мое похвальное слово. И после обедни пусть будет у меня. Хочу знать, как дочь моя Елена княжит…
Митьково поле
Ведрошь струилась среди луговины, спокойная и глубокая. Ее пустынные воды искрились под лучами восходящего солнца. От утренней росы слезился прибрежный кустарник. Ноги коней скользили в мокрой траве.
Воевода легко выехал на песчаный косогор и огляделся. За его спиной, придерживая всхрапывающих коней, застыли полукругом следовавшие за ним воеводы московского войска. Чтоб взглядом охватить ширь Митькова поля, Щеня привстал на стременах.
Сзади уходил вдоль реки вековой дубняк с густым подлеском на опушке. Лес от Ведроши подступал к большой Московской дороге. За нею угадывался Днепр, довольно широкий, в болотистых берегах. Князь Даниил знал – брода в здешних местах не было. Вправо простиралось обширное Митьково поле, перерезанное пополам небольшой речушкой. Оно, давно не знавшее плуга пахаря (какой уж год по этим смоленским местам бушевало пламя войны), поросло невысоким кустарником.
Поле хорошо просматривалось с небольших древних курганов, возвышавшихся там, где Днепр делал крутой изгиб. Через дорогу от них виднелись обвалившиеся земляные валы безымянной славянской крепостицы, невесть кем и когда разрушенной. Дальше, верстах в пяти, находился укрепленный русский деревянный городок Дорогобуж, совсем еще недавно принадлежавший великому князю литовскому Александру, будущему королю польскому.
– Лучшего места для битвы нет, – уверенно сказал подъехавший боярин Юрий Захарьевич Кошкин.
– До самой Ужи нет? – спросил Щеня.
– Мои разведчики хаживали за Ведрошь, забегали и за Ужу – поле одно такое на рубеже, годное для большой битвы. Ты не сомневайся в том, Даниил Васильевич.
Щеня молча кивнул. Еще раз охватив воеводским оком Митьково поле, твердо уже сказал:
– Здесь будем биться! А супротивника встретим за Ведрошью…
Тронув коня, князь поскакал вдоль реки к Московской дороге. За ним понеслись его спутники. У моста, переброшенного через Ведрошь, уже стояли сторожи. Увидев среди подскакавших всадников главного воеводу, бородатые ратники склонили в знак приветствия головы. Старший, сотник-смолянин, подбежав к князю, доложил:
– Ворогов не видели. А сотник твой Кузьма Новгородец с охотниками ушел конным по дороге к рубежу.
– Добро. Сами-то смотрите в оба…
Воевода выехал на довольно широкий мост. Кованые копыта коня отбивали каждый шаг по плотно пригнанным сосновым плахам, иссушенным под солнцем. Под мостом неторопливо бежала Ведрошь, кружась в водовороте у свай.
– Глубока! Всаднику, если за коня держаться покрепче, вплавь можно перебраться. Иначе броня-то враз утащит ко дну, – сказал кто-то из сопровождавших.
– То хорошо, – заметил в ответ Щеня. Про себя подумал: «Дерево моста сухое, жаркий огонь возьмет его быстро – только чтоб не помешали».
…Развернув коней, поскакали назад по успевшей порасти травой дороге к Дорогобужу, занятому полком боярина Юрия Кошкина. В город уже входила тверская рать воеводы Даниила Васильевича Щени. Московское войско собиралось и единый кулак, чтобы у стен смоленского городка сразиться с польско-литовским войском, которое вел к пограничному городку князь Константин Иванович Острожский.
Побывав на Митьковом поле у Ведроши, старший московский воевода составил план действий в предстоящем сражении. Щеня всегда был верен себе – он не признавал пассивного ведения боя при численном превосходстве противника. Выдающийся полководец Москвы, ее князей Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича (деда и отца царя Ивана Грозного) – собирателей русской земли, – побеждал потому, что никогда не считал решающим залогом успеха только одну силу. Щеня помнил всегда, что есть еще и умение, что называется военной хитростью. Исповедовал он ее и в малом бою, и в большом сражении. Не зря о нем по Москве говорили: «Ох уж и хитер сей воевода из рода бояр Патрикеевых. Потому-то его великие князья и почитают…»
Князь Даниил не знал еще о численности, составе и вооружении войска главного александровского воеводы гетмана Константина Острожского. То ему расскажет посланный в разведку сотник Кузьма Новгородец. Но имел Щеня от перебежчиков точные сведения: главные силы противника пойдут по большой Московской дороге на Дорогобуж, который прикрывала рать боярина Кошкина.
Тревожную весть гонцы Юрия Захарьевича быстро донесли до Москвы. Поэтому и послал воеводу Щеню так поспешно к Дорогобужу великий князь Иван Васильевич, вверив любимому полководцу главные силы свои. Он знал, что быть большому сражению. Поэтому и берег на такой случай главный резерв московского войска – тверскую рать.
Возвратившись с Митькова поля, Щеня в чудом уцелевшей воеводской избе дорогобужского острога собрал военный совет из ближних ему людей. Разговор вели за крепкой стражей – вражеские лазутчики тоже не дремали. Только скрыв замыслы на предстоящее сражение, можно было уверенно ожидать успеха.
Военачальники съезжались в подновленный острог один за другим. Спешивались у крыльца. Отдав поводья слугам, разминали ноги и шли в избу мимо молчаливого десятника, придирчиво следившего, чтобы среди приглашенных не оказалось лишнего человека из числа любопытных боярских детей. Князь Даниил был суров во всем и крут на расправу с ослушниками – своевольничать никому не позволял, чего не делал и сам под строгим великокняжеским оком.
Участники военного совета входили в избу, снимали шлемы, с достоинством кланялись старшему воеводе, крестились на иконы в красном углу и не торопясь рассаживались по лавкам. Садились строго по чину, не толкаясь. Иначе быть кровной обиде, быть долгому местничеству.
На широком дубовом столе было пусто. Лишь стоявший посреди бронзовый подсвечник освещал ярко горевшими свечами дневной полумрак избы. Перед Щеней лежал большой лист пергамента с умело вычерченной картой Смоленской земли. Умные, с лукавой хитринкой глаза воеводы смотрели на входивших спокойно. Люди догадывались – решение на предстоящее сражение он уже и продумал, и затвердил.
На дальнем углу стола стояла чернильница, что носили на шее, с воткнутыми в нее остро отточенными перьями. Здесь же, поудобнее, примостился войсковой писец. Изготовился – ему писать донесение великому князю московскому.
Ближе всех к Даниилу Васильевичу уселся боярин Кошкин. Юрий Захарьевич был древнего и знатного рода Кошкиных, что составляло его главную в жизни гордость. Командовал он многотысячной ратью, посланной Иваном III воевать на запад. Под его начальством решительным приступом несколько недель назад взяли Дорогобуж, город-крепость на большой Московской дороге, что вела к древнему русскому Смоленску. С подходом тверской рати – большого полка князя Щени – его полк стал исполнять обязанности сторожевого. Был боярин Кошкин воеводой опытным и заслуженным. И не раз скрещивались а совместной ратной службе его пути-дороги с патрикеевским Щеней.
Рядом с Юрием Захарьевичем Кошкиным уселся его младший брат – Яков Кошкин, Храбрым считался воеводой, хотя на первых ролях, как старший, еще не ходил, но славу к древнему боярскому роду, роду русских воевод, прибавлял.
К слову сказать, великие московские князья считала правилом в походах не разделять братьев. Считали, что единокровные в битвах будут сражаться локоть к локтю, значит, и славы великому князю добудут больше. И в том они редко ошибались.
Чуть поодаль младшего Кошкина расположился воевода-гулявый Федор Иванович Рязанцев. Тоже военачальник с большим опытом московских походов за возвращение исконно русских земель. Ведал он подвижной деревянной крепостью – гуляй-городом, непременной частью русского войска во многие века до и после битвы на Ведроши, Про нее говорили: «Мудростью на колесницах устроен и к бранному ополчению зело угоден». К Дорогобужу гуляй-город прибыл вместе с обозом большого полка, а воевода Щеня возлагал на него большие надежды, не раз видев и применяв его в сражениях.
Рядом сидели князья Иосиф Дорогобужский и Иван Михайлович Воротынский. Великому князю московскому служить стали недавно – старались верной службой завоевать его расположение к себе. Оба князя еще до военного совета успели перекинуться словом с главным воеводой. Знали – быть им в сражении под его княжеским знаменем в большом полку.
В углу у печи в дедовском колонтаре – панцире – сидел еще совсем молодой Дмитрий Патрикеев. Князь Даниил Васильевич назначил племянника воеводой передового полка. Вместе хаживали в походы против Ливонского ордена, защищая псковские да новгородские земли от рыцарей-крестоносцев. Были вместе и под Вязьмой, и под древней новгородской крепостью Выбором, которую завладевшие ею шведы переименовали в Выборг. Заслужил младший Патрикеев славу храброго и рассудительного воеводы, умел схитрить в бою, навязать конному противнику свою волю. Да и вообще воеводы из рода бояр Патрикеевых за верную службу свою были всегда в большом почете у великих князей московских.
Старшим наряда – великокняжеской артиллерии – являлся московский служилый человек Василий Собакин. Хотя и был он боярского рода, а пушкарское дело знал отменно, не чуждался профессии простых мужиков-воинов. Отличился еще при «стоянии на Угре», где огненным боем не раз отбрасывал от позиций русского войска по реке конные наскоки золотоордынских тысяч.
Пришли на военный совет и тысяцкие – бывшие удельные князья, ныне вставшие под руку великого московского князя, опытные и еще совсем молодые воеводы из древних княжеских родов.
Щеня медлил с началом совета – под вечер должен был возвратиться из дальней разведки сотник его большого полка Кузьма Новгородец. А пока расспрашивал о делах походных: кто еще не подошел к Дорогобужу, где размещаются ратники, много ли отставшего обоза, как с припасами. И о многом другом, о чем положено знать старшему воеводе, ибо на войне мелочей не бывает – все и всё при деле.
Докладывали князю коротко – главное он уже знал сам. Походная жизнь шла в московском войске по строгому расписанию. Было тихо в воеводской избе – разговаривала только двое. Остальные терпеливо ожидали или своей очереди разговора с главным воеводой, или начала военного совета. Усердно скрипел перьями писарь. Порой то в одном, то в другом углу позвякивали металлом доспехи собравшихся.
Пока шел такой обстоятельный и неторопливый разговор, воеводы про себя прикидывали: какую роль им приготовил князь Даниил в предстоящем сражении, где будут биться, какой бранной славой пополнят родовую летопись свою. А то, что разведка еще не вернулась, знали все. И терпеливо ждали вестей.
Наконец прибыл и Кузьма Новгородец. По его запыленной одежде и утомленному виду можно было судить, что он вместе со своими конными охотниками проделал туда и обратно немалый путь. То был хороший признак – значит, есть еще достаточно времени изготовиться для встречи с гетманом Острожским. А ясные глаза сотника-псковчанина как бы говорили: вражеское войско выследил, разведал о нем все, что наказывал старший воевода.
С появлением сотника в воеводской избе все настороженно притихли, стараясь не пропустить ни слова из разговора с ним князя Даниила Васильевича.
Выйдя на средину избы, Новгородец молча отвесил ему земной поклон. Выпрямившись, ждал расспроса.
– Какие вести привез, Кузьма? Рассказывай, – с привычной для воеводы строгостью приказал Щеня.
– Князь Острожский подходит к Уже. Его войско идет скоро по большой Московской дороге, не сворачивая с пути. Привалов долгих не делают, а на них даже для гетмана шатров не разбивают. Литовцы торопятся выйти к рубежу. Но обозов у них много, что их и сдерживает в пути. К Ведроши подойдут не раньше, чем к утру второго дня. Все.
– Много ли войска у Константина Ивановича? Что пленные в своих сказках показывают?
– Языка взяли. Из простых шляхтичей, но кормится при дворе князя Александра Казимировича. Знает многое. Показал – войска у них не менее сорока тыщ. В поход собрали всех, кого могли. Оружие и доспехи из великокняжеского замка роздали почти все.
В разговор осторожно вставил свое слово на правах второго воеводы московского войска боярин Юрий Кошкин:
– Даниил Васильевич, и смоляне, что к нам перешли сегодня, сказывают о том же.
Щеня утвердительно кивнул и глазами повелел писарю: «Записывай о том».
По воеводской избе прокатился потревоженный шепот собравшихся на военный совет. С минуту молчал и Щеня: русская рать под Дорогобужем была меньше, хотя и насчитывала около тех же сорока тысяч воинов. Прикинув в уме соотношение сил, старший воевода все тем же ровным голосом продолжал расспросы:
– Много ли конницы у литовцев?
– Больше половины войска. Почти все всадники у них в броне. Легкоконных почти нет.
– Как идет гетман Острожский? Каким порядком?
– Дальних сторожей не видели. Идут без опаски, кучно. Оружие пеших воинов везут на телегах. В походе не растягиваются – гетманские похалики – слуги – следят за походным порядком строго. Могут ударить при встрече разом – конница быстро сойдется воедино, дорога позволяет.
– Огневой бой есть? Много ли пищалей у гетмана?
– Есть, но мало. Огневого боя у нас поболее.
– Где идет сам князь Константин?
– Гетман Острожский держится в голове войска. Свита у князя большая. И знамен вокруг него много.
– Сторожить по пути ворогов оставил людей?
– Оставил, князь Даниил Васильевич. Воинов надежных. Новости какие будут – прибегут в Дорогобуж о дву конь.
По лицу и по тону голоса было видно, что первый воевода московского войска доволен. Он теперь впал о подходившем противнике все, что ему и требовалось знать. Еще раз одобрительно оглядев сотника, с которым ратная судьба свела его еще на ливонской границе, Щеня сказал: