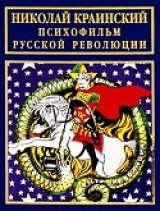
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
Царская Россия накопила громадные богатства, и потребовалось много времени, чтобы все ограбить и уничтожить.
Золото и серебро исчезли в первые дни революции, и так и не может никто сказать, куда они делись. Транспорт был разрушен, а железнодорожники стали привилегированным элементом революции. Подвозу не было. Началось недоедание. Шутили, что при старом режиме мы привыкли слишком много есть. Все интересы людей сосредоточивались на том, чтобы достать съестное.
Начинавший вводиться социализм в форме карточек ничему не помогал. Чай пили без сахара, и прислуга испытывала большое удовольствие, когда по карточкам получала сахару больше, чем ее хозяева. Возникли длиннейшие очереди у магазинов, и это стало классическим симптомом революции. От голода люди стали капризными и раздражительными. Низы были грубы, а интеллигенция привыкла к унижениям. Честь и гордость были упразднены: их считали предрассудками старого режима. Люди боялись и не доверяли друг другу.
В психике боролись два влечения: мечты о получении кусочка выгоды в новой жизни и скрытое сожаление о потерянном рае. Царил страх за личную безопасность. Ничего не стоило быть обвиненным в приверженности к старому режиму. Только из животного страха председатель одного из окружных судов, слывший раньше отъявленным черносотенцем, надел красный бант. Но таких людей не уважали. Очень любопытно, что во всех революциях выделяются как деятели фармацевты, парикмахеры, фельдшера, а из интеллигенции – адвокаты. Аристократия и бюрократия сдали свои позиции без боя. Характерно было стремление к славе, почестям и величию. Честолюбцы часто преуспевали. Самоуверенность и наглость новых вершителей судеб были безграничны. Ничего святого для людей не существовало, хотя еще не наступил период безбожия.
Этот подлый период русской революции получил название керенщины. Но Керенский не только не был вождем, но сам впитал в себя всю грязь революции.
В середине лета поднялось значение Совета рабочих и крестьянских депутатов, который имелся и в Киеве. В Центральном Петербургском совете сконцентрировались будущие вожди большевизма: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Мартов, Урицкий. Этот Совет смотрел через головы Европы и поражал своей смелостью и цинизмом. Его первое творение – это «похабный Брест-Литовский мир». Германцы заключили этот диктант, как впоследствии, выражаясь словами Гитлера, навязали такой же диктант в Версале немцам. Заявления Совета не были трусливым языком керенщины. Это были новые ноты, которые потом на протяжении десятилетий повторяли все цивилизованные государства Европы, аннулируя долги, не выполняя договоров. Но тогда это казалось диким. Акты превратились в ненужные клочки бумаги. Были опубликованы тайные договоры. То, что говорил во время керенщины Совет рабочих депутатов, звучало ужасом. Его проповеди казались неосуществимыми утопиями. Все это реализовалось только впоследствии.
Войска без боя покинули фронт – явление беспримерное в истории. Смелости хватало на все. Ныне всеми забытый поручик Шнауэр, вышедший из недр небытия и впоследствии спившийся, вместе с мадам Боценко с Сибирской каторги под руководством умного еврея Иоффе подписали Брестский договор. Эта безудержная наглость ломала, как солому, вековые традиции и методы международных отношений. Хам разнуздывался, а интеллигенция его культивировала.
Не чувствовалось сраму переживаемого, ибо стыда в те дни не существовало. Смешна была картина, когда Временное правительство потребовало себе присягу, само только что нарушив присягу Царю. С небывалым цинизмом издевались над подвигом. Всюду царили трусы и дезертиры. Коллегии в форме комитетов были бесстыдны и безответственны: пакость, которую никогда бы не решился совершить отдельный человек, коллегия совершала не задумываясь. Спихивая человека, чтобы занять его должность, говорили ему: «Знаете, вы не отвечаете духу времени, вам надо уйти!»
Революция утверждала, что всякий человек может занять любое место в государственном аппарате, что специальных знаний вовсе не требуется, была бы революционная совесть.
В то время как гибнущая русская интеллигенция металась в погоне за синею птицей счастья, еврейство шло своим умным путем и сроднилось с революцией – обращая ее в свою пользу.
На моем психофильме прошел один из красочных деятелей этого периода революции – Шингарев. Этот разрушитель России по заслугам был наказан большевиками. Он был убит матросами в больнице еще до воцарения большевиков, вместе с Кокошкиным. В России в земской медицине существовал институт земских санитарных врачей, имевшихся при каждой губернской управе. В преддверии революции это были своего рода маленькие министры здравия, игравшие роль спецов при ничего не понимающих в медицине земцах. Большинство русских земцев были левыми, и на эти посты обыкновенно выдвигались полуреволюционеры и политические болтуны, ибо заниматься празднословием, статистикой и администрацией много легче, чем бороться с эпидемиями. В Воронежском земстве в качестве земского санитарного врача выделился Шингарев, с которым мне пришлось встречаться по службе в 1906-1907 годах. Это был очень ловкий, крайне честолюбивый человек, никуда не годный врач, болтун без всяких серьезных знаний. Карьеру он сделал на либеральных разговорах – как это ни смешно – в правых кругах воронежских земцев. Тогда эти баре гонялись за популярностью и находились в руках своего третьего элемента. Шингарев быстро сумел получить популярность. Как консультант при губернской управе, он влиял на все назначения, а официально заведовал медицинским делом совершенно безличный помещик, уже проживший свое имение. Очень скоро большое число мест в губернии оказалось занято евреями – врачами и фельдшерицами, в том числе экземплярами из породы бесов Достоевского.
С наступлением 1905 года он ловко стал подготовлять через своих ставленников и через либеральные круги свою кандидатуру в члены Государственной думы. Глупые земцы были у Шингарева в руках. Он обладал приятным характером и одурачил общественное мнение, попав членом в Думу. Здесь его звезда, как тактичного оппозиционера правительству, быстро восходит, и он делается своим в предреволюционных кругах.
В это время одним из центров подготовки революции был Петербургский политехникум. Все почти университеты того времени были левые, и молодые преподаватели делали свою карьеру уже не по ученым заслугам и не по цензу знаний, а по левым политическим убеждениям. Шингарев сходится с доцентами и ассистентами Политехникума и волшебным преображением становится специалистом по финансовым вопросам. Мне говорили тогда, что все доклады и материалы для его выступлений в Думе готовили ассистенты Политехникума. Имя Шингарева, как видного члена кадетской партии, становится известным. Он проводит левую идеологию и выдвигается на положение лидера своей партии. Он выступает с оппозицией министру финансов по всяким пустякам и проваливает Амурскую дорогу. Он находится всецело в еврейских руках и становится кумиром левой интеллигенции.
После отречения Государя Шингарев поочередно делается министром финансов и земледелия. Он ничего решительно не понимал в этих делах и проводит все то, что окончательно разрушает Империю. Перед революцией в одном доме я встречал его дочь, которая была врачом. Надо было видеть самоуверенность и апломб этой молодой особы! В своей жизни я встречался с женами и дочерьми царских министров, но ничего подобного этой фанаберии не видал. Своим поразительным невежеством Шингарев, будучи членом Временного правительства, быстро разрушил финансовый аппарат государства. Инстинкт русского человека подсказал диким матросам сорвать с революционного поля этот красный цветок, и они его просто, без пафоса и без проявления героизма с его стороны, зарезали в больнице. Когда я узнал об этом, я вздохнул свободнее: одним врагом России будет меньше. Возмездие по делам его.
На протяжении Февральской революции чернь выступала на арену в той же форме, как это наблюдалось на протяжении веков во время крушения великих империй. Революция творила своих преступников из обычных средних людей. Воровали в это время все, даже самые культурные интеллигенты.
К началу 1918 года в Киеве царили хаос и анархия. Над городом звучала симфония ружейной трескотни. Стреляли товарищи без смысла и цели, попадая в мирных граждан. Уже осенью 1917 года периодически шли уличные бои, которые причудливо разыгрывались на фоне хаотичной жизни города. Сначала шли бои с украинцами, потом с большевиками. Октябрьский переворот прошел в Киеве малозаметно, ибо и своего смятения было достаточно. О петроградских событиях размышляли мало. Совет рабочих депутатов в Киеве называли «советом собачьих депутатов» и не относились к нему серьезно.
Властей за это время сменилось несколько. В период Временного правительства сначала существовал исполнительный самозваный комитет под председательством доктора Страдомского. Позже его сменила эсеровская городская дума. Параллельно существовал совет рабочих депутатов и Украинская рада. Сыпались декларации, а Рада писала универсалы, вносившие чистую пугачевщину. Про большевиков слышали, и трудно было понять, что еще нового могла придумать Рада. Смутно слышали, что с падением Временного правительства и с бегством Керенского в Петрограде воцарилась твердая власть, о которой давно мечтали. И здесь думали, что было бы хорошо, если бы твердая власть сменила украинскую. Говорили, что большевистское выступление здесь должно начаться с Арсенала местными силами.
Теперь начало выкристаллизовываться украинское движение.
Я родился в пределах Малороссии, окончил гимназию и университет в Харькове, где работал в качестве врача несколько лет. Мое имение и мой санаторий находились в двадцати верстах от Киева, в Черниговской губернии.
Я утверждаю, что украинского вопроса в той форме, в какой его поставила революция, не существовало. Все мы понимали и любили малорусское наречие, но единственным культурным языком был русский. Сепаратическое движение сливалось с революционным и было искусственно. Кроме небольшой группы самостийников, опиравшейся на полуинтеллигентов и помещиков, причисляющихся к русской аристократии и пользовавшихся всеми благами Российской империи, сепаратистов не было. Решительно никакими ограничениями на всей территории Империи малороссы не были стеснены. И только поскольку сепаратисты вели борьбу против государственного единства, они встречали слабый отпор со стороны правительства.
В украинском движении воплотилась вся гнусность Февральской революции. На верхи его выступили фельдшера, писаря, телеграфисты с бухгалтером земской управы Петлюрой во главе. А с другой стороны в него влились русские бары-изменники с гетманом Скоропадским во главе.
Хам гулял по украинскому полю со всем его цинизмом. Позже, под влиянием страха и искания выгод, к этому движению присоединилась интеллигенция сортом пониже и поглупее. И многие действительные статские советники, по традициям всех революций, перелетели в стан украинцев и стали, как их тогда называли, «шдрими».
Приблизительно через месяц после начала революции ко мне в мой госпиталь, находившийся между Киевом и Борисполем, приехал исполнять требы священник из Борисполя, настоящий хохол, говоривший на местном наречии. Он обратился ко мне с вопросом: «Мыколай Васильевич, скажить мени, пожалуйста, що цэ такэ украинци? Откуда вони взялись?» Оказывается, что и в этом большом селении, где, по преданию, скрывался Мазепа, завелась эта язва и сейчас же обнаружила свое австрийское происхождение.
Во главе украинского движения стал австрийский профессор Грушевский. Это движение началось с низов, а на фронте украинизировал войска претендент на гетманский престол, бывший кавалергард, приближенный Царя, русский генерал Скоропадский, волею судеб превратившийся в ясновельможного пана Павло Скоропадского. Ему давали оправдание, будто бы эта украинизация спасет фронт от разложения.
Пропаганда отделения Украины велась еще во время войны, и это был один из тех психических ядов, которыми противник стремился разложить Россию. Самый термин «Украина» был мало распространен. Местное население называли «малороссами» или «хохлами». За время революции украинское движение развивалось параллельно с керенщиной и, впитав в себя всю грязь последней, было еще пагубнее для России.
Как и во всех партиях, у украинцев были разные варианты. Тут были и щирые, и самостийники – это были самые глупые и самые некультурные. Были федералисты и всех оттенков социалисты. Из них самою свирепою была партия левых украинских эсеров. Полуграмотные люди занимали все места в аппарате новой власти. Сначала украинцы не имели силы. Они не могли выдвинуть хоть сколько-нибудь выдающуюся личность. Петлюру презирали все, зная, что этот человек был выгнан из семинарии за воровство. Украинцы первые подписали Брестский мир и предали Украину на оккупацию германцам.
В то время интеллигенция еще мечтала об учредительном собрании и подготовляла выборы. Украинская рада существовала только номинально. В конце лета пронеслась весть, что трио в лице Керенского, Терещенко и Церетели официально провозгласило отделение Украины от России.
Я помню одну из безобразных сцен революции летом 1917 года. Я вышел на улицу и заметил большое движение. На одной из улиц трудно было протолпиться, и я спросил, в чем дело. Мне ответили, что ждут проезда Керенского, приехавшего отделять Украину, и что его ждут, чтобы устроить ему овацию. Я резко повернулся спиной и быстро пошел в другую сторону. Это была единственная фигура, которую я не желал иметь на своем психофильме. Я хотел, чтобы глаза мои не осквернились лицезрением этого гробокопателя России.
Но даже это отделение Украины Временным правительством прошло по верхам общественного мнения и не изменило хода событий. Украинизация наступила позже, и, к стыду русских людей, также была произведена царскими генералами, русскими профессорами, сановниками и помещиками при гетмане.
Украинским движением периода Рады руководили профессор Грушевский и писатель Винниченко. Грушевского я видел однажды проезжающим в карете. Это был глубокий старик с длинною белою бородой и с худым изможденным лицом. Вокруг же Петлюры ютился полуинтеллигентный сброд.
Разные учреждения стали украинизироваться, самые обыкновенные обыватели вдруг почувствовали себя нерусскими и превратились в щирых украинцев. Царские офицеры перестали понимать по-русски. Они пробовали «балакать по-хохлацки», но дело не вышло: Грушевский требовал «галицийской мовы», которой никто из хохлов не понимал.
Украинская рада сразу пошла социалистическим путем, то есть путем экспроприаций. Несколько универсалов, опубликованных Радою, развернули чисто большевистскую программу. По деревням вспыхнули пожары усадьб, и пошла пугачевщина. Старались перещеголять настоящих большевиков.
Что представляли собой настоящие большевики, в Киеве еще хорошо не знали. Пропаганда украинцев сводилась к грабежу усадеб и введению галицийской мовы. К осени 1917 года, с подписанием Брестского договора, Украина была признана раньше, чем договор был расширен на Россию. Наряжались под запорожцев, отпускали чубы (оселедцы), коверкали русский язык. Множество офицеров объявили себя украинцами. Печатались на мове газеты и брошюры. Вместо полков формировались «курени», а если к офицерам обращались по-русски, они нагло отвечали: «По-русски не разумием».
Очень типичную страничку предбольшевистского периода представляет собою Быховское сидение арестованных в городе Быхове генералов Императорской армии, пошедших за изменниками Ставки. Семь царских генералов вырабатывают программу отречения от старых основ и новые пути для России. По словам генерала Головина, пишущего историю революции, быховская программа, составленная генералами, тождественна с корниловскою (Головин. История революции. Ч. 2. Кн. 3. С. 97). А корниловская программа ничем не отличается от таковой Керенского. «Так же, как и Керенский, Корнилов всею душою признавал завоевания революции, так же, как и Керенский, он был сторонником передачи земли крестьянам, так же, как и Керенский, он признает суверенную власть народа, а потому совершенно искренне хотел довести страну до учредительного собрания».
В Ставке после переворота бушующая солдатня из почетного Георгиевского батальона превращается в разбойничью шайку и оскорбляет своих офицеров.
Над быховскими арестантами висит дамоклов меч расправы, постигшей в ближайшем будущем генерала Духонина в Ставке, и общество, еще проникнутое уважением к своим боевым генералам, тревожится за их судьбу. Но сами генералы, выработавшие вошедшую в историю программу измены долгу и присяге, толкают Русскую армию на путь гибели. Головин говорит, что Корнилов многократно во всеуслышание заявлял, что он республиканец.
Многие из эмигрантов помнят Корнилова с красным бантом на груди, как революционного генерала.
Державный гимн в Добровольческой армии впоследствии был заменен Преображенским маршем. От старой армии остались только императорские погоны, за что белое офицерство и получило от большевиков титул золотопогонной сволочи.
ГЛАВА IV
Личная жизнь во время революции и мое отношение к ней
В первые периоды революции я оставался сторонним ее наблюдателем и переносил ее невзгоды, как и все другие. Поскольку учреждения, в которых я работал, подпадали под переходные периоды, я испытывал все их прелести, но не был активным их деятелем. С приходом в Киев добровольцев я вступил в Белое движение, которое мы тогда идеализировали, и с тех пор воображал себя активным борцом против революции, и потому все дальнейшие события я описываю как участник и активный деятель. Тогда я не знал истинного лица вождей Белого движения и не имел понятия о быховской программе. Я считал Добровольческую армию борющейся за спасение единственной России, которую знала история, – России исторической, Царской. И потому, как и все другие монархисты, часто чувствовал на протяжении этой борьбы тот диссонанс и отсутствие ясных лозунгов, которые, по моему разумению, и погубили Белое движение.
По складу моего духа, если бы я мог предвидеть будущее непредрешенческое течение в эмиграции, отречение от лозунга исторического девиза «За Веру, Царя и Отечество», отречение от державного гимна и все прочее, я бы решительно остался в гибнущей России, и, если бы уцелел, может быть, там лучше послужил бы русскому народу, чем в эмиграции.
Революцию я предвидел во всем ее ужасе и ненавидел ее до глубины души. К либеральным общественным деятелям, неуклонно разрушавшим Россию, я относился с глубоким презрением. С первых дней февральской катастрофы гибель России была для меня совершенно ясна. Ко всем событиям революции я чувствовал одно лишь омерзение. Вот почему странно было бы требовать от меня объективности: я шлю революции, всем ее титанам, фанатикам, мошенникам, а особенно изменникам Царю одно только проклятие.
Я пишу то, что видели мои глаза, не для розового читателя и не для непредрешенца, а потому хорошо знаю, как этот труд будет встречен. Но надо же иметь мужество хоть раз сказать правду о том, что принято замалчивать и маскировать. Я не вижу жемчужного зерна в навозной куче революции.
В самые первые дни революции я встретил одного своего ученика-студента, который с восторгом стал мне говорить о светлом празднике новой жизни. Я выслушал его спокойно и, посмотрев ему в глаза, сказал: «Разве вы не видите, что все погибло?» Он посмотрел на меня с изумлением и написал мне в своей душе приговор неисправимого черносотенца. Мы молча разошлись. Через месяц я его встретил в другой обстановке, и он сам обратился ко мне со словами: «А как вы были правы!»
К началу революции я жил в своем имении под Киевом, между станциями Дарницей и Борисполем, где мною был выстроен великолепный санаторий, в котором теперь разместился госпиталь для душевнобольных солдат с Юго-Западного фронта в 350 человек! Я предоставил государству весь санаторий, инвентарь и мой труд на все время войны безвозмездно и вел госпиталь под флагом Красного Креста в качестве главного врача. Оплачивалось только содержание больных.
Проведя первый период войны на фронте, я был потом привлечен к обслуживанию психиатрической помощью солдат Юго-Западного фронта и устроил свой госпиталь, вложив в него все достижения современной психиатрии, мой опыт и знания и все мои личные средства, которые были значительны.
Госпиталь находился в ведении главноуполномоченного Московского района А. Д. Самарина, а ближайшим моим сотрудником в качестве уполномоченного, руководившего отправкою ко мне душевнобольных с фронта, был известный психиатр профессор В. Ф. Чиж. У меня была чудесная собственная лаборатория, библиотека, и я продолжал свои научные работы, одновременно поддерживая связь с физиологической лабораторией профессора В. Ю. Чаговца. Позднее я в качестве приват-доцента Киевского университета читал там лекции по общей психиатрии и психологии, работая в физиологической лаборатории.
Будучи тем, что тогда называлось презрительным термином черносотенца, я был среди окружающих течений совершенно одинок и только в лице профессора В. Ф. Чижа имел твердого единомышленника и горячего русского патриота. Все остальное кругом было левое.
У меня был превосходный штат служащих, в большинстве испытанных моих друзей и сотрудников по прежней моей службе в качестве директора больших и хороших окружных правительственных психиатрических больниц. Были люди, которые служили со мною от десяти до восемнадцати лет. Санитары, выученные мною, были из деревни Александрова, при которой было имение моего отца, часть которого теперь находилась в моем владении. Дело было поставлено самым гуманным образом, и служащие были обставлены хорошо.
Но были среди служащих и неудачно выбранные наспех во время войны. Я не мог отказать моим друзьям, отвергнув их протекции. И между прочим мне всучили ординатора-еврея Сегалина, который оказался убогим существом и ненавистником России. Он показал свои когти с первых дней революции, а впоследствии играл роль у большевиков. Вторая моя ошибка была плодом гуманности моего брата, который был тюремным инспектором в городе Чернигове.
В черниговской тюрьме содержался каторжник фельдшер Иван Иванович Хоменко, убивший в 1905 году исправника. Он был присужден к смертной казни, но помилован и отбывал наказание в тюрьме. Это был революционер-фанатик со святыми глазами, мягким голосом, достаточно интеллигентный и хороший знаток своего дела. В тюрьме он вел себя безупречно и производил впечатление раскаявшегося. Через шесть лет мой брат выхлопотал ему Высочайшее помилование, и Хоменко был освобожден под надзор полиции.
Когда осенью 1915 года я открыл свой госпиталь, то по просьбе брата взял его на поруки и назначил фельдшером в свой госпиталь. Человек это был необыкновенно выдержанный, умный, симпатичный. Дело вел образцово. Он был женат и жил с женою в одном из моих домиков.
Как только разразилась революция, Хоменко снял маску: он оказался левым эсером и быстро вошел в связь с партией.
Как и во всех учреждениях, катастрофа не миновала и моего госпиталя: по революционному трафарету появился комитет во главе с кухаркой Галькою, выросшей на кухне моего отца. Кончилось дело так, как оно кончалось везде: полным разграблением имущества, митингованием, революционными бреднями и, наконец, экспроприацией комитетом под руководством фельдшера Хоменко моего собственного госпиталя. Я отнесся к этому философски: все равно все гибло, и вести дело было невозможно. Поэтому, сдав госпиталь, забрав часть своих вещей, я пере -ехал в Киев, где у меня была комната, и ушел в научную работу.
Не описываю разгрома моего госпиталя, потому что он ничем не от -личался от всех подобных, тогда чинимых по всей России.
В версте от моего госпиталя в своем имении жил мой отец, тогда уже глубокий старик, но его пока не трогали. Как у всякого помещика в Малороссии, у моего отца было два своих жида, Гершко и Берко, оба даже малограмотные, но чрезвычайно предприимчивые и для хозяина полезные. От отца они перешли ко мне и были мне при ведении сложного хозяйства очень полезны и честны. Комиссионную работу они выполняли в совершенстве. С бориспольскими евреями я был в хороших отношениях, и они поставляли мне все для госпиталя. Однако когда во время керенщины в 1917 году я, по установившемуся обычаю, отпустил несколько пациентов-евреев на пасху к тамошним евреям, то они вернулись в госпиталь совершенно распропагандированными. Большинство из них были симулянты.
С первых часов революции еврейская молодежь, в том числе сыновья и дочери моих жидов, сразу стали наглыми и экспансивными революционерами. В то время как молодежь бредила социализмом, их отцы бросились покупать землю, мечтая стать помещиками. Берко сейчас же купил себе хутор, ибо евреи получили право на владение землею, которого раньше вне черты оседлости не имели.
Уехав в Киев, я перестал интересоваться госпиталем, ибо не было приятно видеть, как разрушается все созданное трудом и знанием.
В Киеве во всех госпиталях происходило то же самое: расхищалось казенное имущество и воцарялось полнейшее безделье.
Казалось бы, что кое-что хорошее должна была дать революция. Возникли бесчисленные союзы врачей, в том числе союз психиатров. Конечно, на все руководящие посты выдвинулись евреи. Почти все они превратились в профессоров в нововозникшем «клиническом институте». Я принял участие в этой новой жизни, читал лекции, делал доклады в научных обществах, но мало кто в это время этим интересовался.
В моей длинной жизни, полной приключений и перемен, мне приходилось бывать в разных положениях и вести различный образ жизни. Но этот период революции в Киеве я жил совершенно мещанской жизнью. К счастью, я был совершенно одинок, и это одиночество, пожалуй, было тем, чем я больше всего дорожил. Мне было тогда 46 лет. Никем и ничем я не был связан, никому не отдавал отчета в своих действиях. Я жил на квартире у своего школьного товарища, чиновника Контрольной палаты Заламатьева. Жил он с дочерью и со свояченицей бедно. Мы были дружны и одинаково ненавидели революцию. Комната у меня была студенческая, почти без всякой обстановки; и я, привыкший к очень богатой жизни, нисколько не тяготился этим опрощением. Перезнакомился я с жильцами и часто заходил к ним на чай. Ко мне относились очень хорошо. Дома я целыми днями занимался научно, уходил только в госпиталь, в котором работал, и в физиологическую лабораторию. Долгие вечера проводил со своими хозяевами, иногда играл на виолончели. Позже я стал постоянным фаготистом в опере, и это доставляло мне большое удовольствие.
В госпитале Красного Креста, в котором я был консультантом, положение было сложное – сначала при керенщине, потом при петлюровщине и при большевиках. Я заведовал лабораторией госпиталя, и она всегда была полна студентов и курсисток, особенно евреев, которые меня любили. Оригинально было то, что в ней царила чисто научная атмосфера, и даже в дни большевиков о них не говорили, хотя между посетителями были и большевики.
В Киеве у меня было много знакомых, и ко мне заходило много разных людей. Жизнь моя того времени была неплоха. Об ограбленном имуществе я нисколько не жалел.
Время было опасное, при керенщине больше подлое, при большевиках страшное. Среда, в которой я вращался, была демократическая. В домашней жизни царили полуголод, грязь.
Деньги у меня еще были. Домик, в котором мы жили, был во дворе. Отсюда я наблюдал всю революцию до прихода большевиков в феврале 1919 года, когда явились меня расстреливать и мне пришлось скрыться, как скрывались многие. После того я перебрался в госпиталь, где помещался в комнате лаборатории. По вечерам, бывало, когда с улицы доносилась редкая стрельба, когда электричество тускло горело со сниженным вольтажом, а в водопроводе не было воды, я сидел в своей комнате за столом и штудировал формулы механики. А за стеной мой школьный товарищ фантазировал на пианино, чрезвычайно музыкально и грустно. Когда я приходил в столовую пить чай почти без сахару, мы вспоминали детские годы – и какой прекрасной казалась нам старая жизнь на фоне революции! Иногда в эту хмурую жизнь врезался флирт: женщины необыкновенно легко отдавались в это время и любили приходить ко мне. Связи были проходящие, прочных привязанностей не было, жили сегодняшним днем. Для меня будущего не было: я привык к мысли, что все гибнет, и я не видел никакого выхода из создавшегося положения. Нормальный человек в нормальное время имеет свое будущее в своей фантазии. Теперь этого не было. Люди становились равнодушны к своей судьбе: все равно ничего не изменишь. В дни бомбардировок и террора жизнь людей висела на волоске. Знали, что своего жребия не избежишь. Не было даже того страха, в котором проявляется инстинкт самосохранения. Когда я был осужден на расстрел и скрывался, на душе у меня было спокойное равновесие и тупое сознание неизбежности: скрываться вечно ведь нельзя. И если я пробовал заглянуть в ленту будущего, она просто обрывалась.
Утром проснешься голодным и мечтаешь о том, как пойдешь в лавку купить французскую трехкопеечную булку, которая при керенщине стоила уже полтора рубля, а при большевиках – четыре. И какою вкусною она казалась в мечтах! Грезы о съестном занимали в психике огромное место. В фантазии рисовались блюда старого режима, и о них было столько разговоров! Вся Россия переживала «Сирену» Чехова. Обед в кухмистерских стоил три рубля, был невкусен и скуден, а сервировка примитивна.
Мне как врачу приходилось исследовать интеллигентных больных и раньше бывших нарядными женщин. Их белье было до крайности грязно, а тело издавало нестерпимый запах.
В комнате было холодно, и, ложась в постель, я наваливал на себя сверху все теплое из тканей, что у меня было в комнате. Грело свое собственное тело.
Однажды я сидел за своим столом, заваленным книгами, и занимался. На краю стола, между книгами, стояла тарелка с халвой, которую я купил себе как лакомство. Внезапно я услышал шорох и, обернувшись в сторону тарелки, увидел, что в растаявшей халве застрял мышонок. Он так и захлебнулся в липкой массе. В старое время, при царском режиме, я брезгливо выкинул бы всю халву. Теперь брезгливость была буржуазным предрассудком. Я вытащил мышонка и выкинул его на улицу, а халву с удовольствием съел.
Бывали у нас во врачебной компании скромные, убогие пирушки, где царская водка все больше заменялась самогоном.








