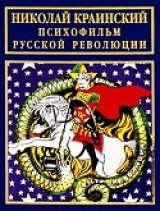
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
В нашей роте шла обычная военная жизнь. Мосты надо было охранять зорко. У самого входа на мост на наших глазах офицеры стреляли из орудия. Видно было, как снаряды рвались над городом. Орудия откатывались, и артиллеристы работали, мало обращая внимания на окружающих.
Мы поместились в двух маленьких комнатах в квартире зубного врача-еврея и сидели за небольшим столом. Сюда поступали все донесения, и сюда же приводили задерживаемых подозрительных лиц. Теперь каждый человек казался подозрительным. С двумя такими задержанными пришлось иметь дело и мне.
Первым задержали еврея-прапорщика в офицерской форме стрелка, с георгиевской лентой, по фамилии Шварцман. Фамилия была не из приятных. Его задержали как знаменитого комиссара чрезвычайки, свирепого полуграмотного чекиста, который упивался кровью русских интеллигентов. Этот человек уже попадался мне в руки в тюрьме, когда я вел расследование киевской чрезвычайки. Он был арестован и сидел в тюрьме. В губернской чрезвычайке одним из самых свирепых комиссаров был Янкель Шварцман. Но было очень трудно выяснить, то ли самое это лицо или нет. Установить это точно не удавалось. Он называл себя прапорщиком Сибирского стрелкового полка. Вчера его вместе со всеми офицерами выпустили из тюрьмы, а сегодня задержали как подозрительного. Собственно говоря, задержали его потому, что все были страшно обозлены на евреев, а физиономия у него была такая типичная, что одного вида было достаточно, чтобы повесить его без разговоров. Его привели к нам, и мне пришлось решать его судьбу. Одного моего жеста было бы достаточно, чтобы этого жалкого человека, с надеждою и мольбой глядящего на меня, расстреляли.
Но кто мог точно сказать, кто такой Шварцман? Его никто точно не опознал. Предъявили его мне. Так как он числился в нашей роте, мы отпустили его. Он ушел с добровольцами в Одессу, и я еще там видел его и слышал излияния благодарности за спасение.
Вечером мы сидели перед домом у края шоссе, когда к нам привели второго подозрительного. То был полковник Лебель, бывший воспитатель военного училища. Его поведение показалось странным. Он говорил несуразные вещи и странно путался, будучи беспечно-веселым. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы узнать в нем душевнобольного, одержимого прогрессивным параличом. Мое слово на сегодня спасло и его, и он был отпущен с миром.
Перед вечером я зашел к моему знакомому колбаснику. Там стол был полон всяких прелестей. На столе, накрытом белоснежной скатертью, стояла бутылка водки и красовалась колбаса, а тарелка вкусного борща испускала аппетитный пар. После утренних похождений я был голоден и ел как волк.
Хорошо здесь жили. Мы сидели в этой мещанской обстановке, полной уюта и довольства, и вели беседу, словно над нами не висела гроза.
В соседний дом принесли труп замученной большевиками сестры милосердия, и никто не мог узнать, кто она.
В Слободке, как будто бы заранее зная, что произойдет, исчезли все евреи. Их теперь страшно ненавидели: они слишком рано открыли свои карты.
К вечеру бой в городе опять усилился, положение запутывалось. Много надеялись на подкрепления, которые будто бы откуда-то подходят.
Вечером мы сидели в комнате и пили чай, как вдруг раздался тревожный колокол, и, заглянув в окно, мы увидели, как все кругом вдруг озарилось заревом пожара. То – каждый вечер и ночь – горели еврейские дома, которые поджигали ненавидевшие евреев жители.
Когда мы выскочили на улицу, против нас уже пылал деревянный дом. Все кругом радовались, ликовали и проклинали евреев. Офицерам стоило большого труда наладить тушение: работали одни лишь военные, жители же бездействовали, говоря: «Так им, проклятым, и надо, пусть горит!»
Картина была зловещая. За мостом гремела канонада, здесь пылал пожар. Холодная осенняя ночь придавала картине особенную жуть.
Когда я наблюдал такие картины, какими жалкими казались мне потрясающие драмы, которые я видывал в кинематографе! Здесь все было проще, а потому ужаснее. Это были не актеры и не бутафорский пожар, а люди во всей их наготе и зверстве. Смерть, гибель, разрушение царили кругом, а люди не понимали этого. Когда убивали кого-нибудь, к этому относились спокойно, равнодушно.
Мы вернулись в дом, и было неспокойно на душе. Уверенности в положении не было. Мы легли на полу не раздеваясь, каждый при своем оружии: катастрофа могла разразиться ежесекундно. Не спалось.
В одной шинели было холодно. Твердо и неудобно было лежать на полу, и ночь тянулась долго.
На утро следующего дня как будто стало лучше. Канонада звучала дальше, и одно время даже не было слышно ружейной трескотни. Утром у моста скопились тысячи людей, стремившихся обратно в город. Нетерпеливая толпа металась зря, в панике бежала, но, чуть в городе стало спокойнее, рвалась назад. Теперь не велено было пропускать через мост, и потому шли пререкания. Мост по-прежнему охранялся.
Делать было нечего, и я снова отправился в город посмотреть, что там делается, и поработать в боевых частях. По дороге не замечалось ничего необыкновенного. Казалось, что дело улучшается. Говорили, что наши части продвинулись вперед и вытеснили неприятеля из города. Войск двигалось мало, но по Александровскому спуску движение было живее. Я видел, как в городе по направлению к месту боя спокойным шагом, верхом проехал генерал Бредов. Он ехал не торопясь, медленно, в сопровождения немногих всадников. Около 11 часов дня сюда же прошел только что спешно прибывший из Чернигова Якутский полк. Он проходил мимо меня в составе около 300 человек знаменитых бойцов, имевших вид далеко не прежних вымуштрованных людей. Но шли они прямо к месту боя спокойно, хорошо. Одна беда – их было слишком мало.
В этот раз я не заходил далеко. Работы как врачу по перевязке раненых и здесь было достаточно, а бой шел уже далеко на окраине. Медленно подходили раненые.
Около часу дня я работал у Мариинского парка, когда заметил, что снизу от Крещатика торопливо двигаются сначала отдельные повозки, затем обрывки обозов. Появились отдельные люди в шинелях с винтовками. Эта волна молчаливо отходила наверх, и никто не знал почему. Опытный глаз сразу узнавал в этой картине отход, и притом отход неровный: там что-то случилось впереди. Я стал внимательно следить. Вскоре обнаружились небольшие группы вооруженных людей, и росло число одиночных. Вдруг быстро покажется автомобиль и так же молча прокатит к мосту.
Я подвинулся к Никольским воротам и продолжал следить за движением. Через какие-нибудь четверть часа поток отступающих повозок и людей пошел уже быстрее. Части, пока тыловые, начинали неудержимо отступать. Меня удивило, что у поворота на спуск эту волну никто не удерживает, и я медленно пошел туда по тротуару, наблюдая, как быстро развивалась волна паники. Повозки уже начинали обгонять друг друга, уже хлестали по лошадям. Лица были тревожные, и все это совершалось молча. Никто не понимал, в чем дело, но все чувствовали, что совершается что-то неладное. Против гимназии я увидел, как вся толпа торопливо заворачивала на спуск и никто не останавливал. Начинался беспорядок и толкотня. Я остановился и искал глазами кого-нибудь из старших, удивляясь, почему не остановят этой чепухи, но никого из старших офицеров здесь не оказалось. На углу стояло в запряжке подбитое орудие и при нем поручик-артиллерист. Я спросил его, в чем дело и почему не остановят этого безобразия. Он, пожав плечами, ответил, что и сам ничего не понимает. Снаряды здесь не падали, и если бы даже большевики прорвали линию, то так отходить нельзя.
Мне такие картины приходилось видеть и переживать не раз. Как всегда в такие моменты, меня охватывало чувство жгучей злобы и презрения к этой бегущей сволочи: опыт боя ведь хорошо учит, что именно в панике гибнут люди. И в эти моменты тех, кто не поддался панике, захватывает упорное чувство противодействия. Я остановился на углу и видел, как все торопливее заворачивали повозки, готовые столкнуть друг друга с дороги.
Один солдат, сидя на облучке повозки, погонял белую лошадь и прямо наперся на меня.
Быстрым порывом я схватил лошадь под уздцы и властно крикнул:
– Шагом! Не торопись!
Солдат растерянно взглянул и подчинился. Повозка пошла шагом.
Этого толчка было достаточно. Толпа, беспорядочно стремившаяся к повороту, как бы очнулась от одного слова, сказанного спокойно и властно. Она инстинктивно осела. Я уловил момент. Толпа мне подчинилась безмолвно и слепо. Я пригрозил кое-кому винтовкой и громко скомандовал:
– Стой! Помогите мне, – обратился я к поручику. Мы вдвоем, став поперек дороги, задержали головные повозки угрозою стрелять в них, если они двинутся с места. В толпе было много людей с винтовками, бежавших из цепей. Мы задержали первых пять-шесть и приказали встать в шеренгу, преградив дорогу. Шагом стали пропускать по одной повозке тех, кто ехал по делам за Днепр. В первый же момент на нас наперлась группа человек в десять государственной стражи.
– Вы кто?
– Стража.
Они были с винтовками, но, почуяв тревогу, также стали отходить.
– Назад! Стройся здесь, налево. Задержать толпу и не пропускать!
Солдаты, случайно бывшие в толпе с винтовками, с момента,
когда паника была пресечена, сами становились в шеренгу. У меня под командой образовалась заградительная застава. Поручик строил людей, а многие из беглецов сами превратились в останавливающих. В каких-нибудь пять минут вся эта каша организовалась, воцарился полный порядок, и вся масса людей слушала мою команду беспрекословно. Отдельные фигуры пробовали молча обойти цепь и пробраться на спуск. Пропустить их – значило потерять дело, и я приказал их задерживать. Беглецов мы отсылали назад, и многие уже сами останавливались, поворачивая к месту боя.
Мы медленно и в порядке пропускали обозы на спуск, задерживая всех беглецов.
Я не успел осмотреться, как задержали какого-то подозрительного субъекта, у которого не было документов. Но зато у него в портфеле оказался чисто большевистский счет из гостиницы «Континенталь». Так во время большевиков могли платить только комиссары. Счет за ужин на 17 тысяч рублей. Куриная котлета стоила 500 рублей, другое блюдо – 300 рублей и т.д. Он не мог дать никаких объяснений о происхождении счета, и его в сопровождении солдата отправили в штаб охраны мостов. Он подчинился, но, отойдя несколько шагов от заставы, бросился бежать и скрылся от сопровождавшего, который не решился в него стрелять. Этот факт повлек за собой печальные последствия для тех, кого задерживали потом. Я прошел на несколько минут вперед, чтобы навести порядок в стоящих обозах, ибо фактически командовал всем я за неимением никого из старших начальников, кто бы взял на себя распоряжение.
Когда я вернулся к заставе, там уже расстреляли четырех человек.
Цепь заставы упиралась с правой стороны от поворота на спуск в сторожевую будку. Здесь на скамеечке сидел городской голова Рябцов в штатском пальто и черной фетровой шляпе, а рядом с ним сидел сформировавшийся тут же военно-полевой суд из двух военных юристов и какого-то офицера.
Я ужаснулся решительности их действий. Но все делалось правильно, расстреляны были настоящие большевики-коммунисты, пойманные с поличным. Не трудились даже далеко отводить осужденных – шагах в пятидесяти от заставы лежал труп. Я подошел к нему. У края дороги, разбросав руки, с раной в черепе, на спине лежал спасенный мною вчера прогрессивный паралитик полковник Лебель. У него оказались коммунистические документы и список офицеров, преданных большевикам. Увы, в это время многие не только душевнобольные, но и просто слабые волей люди становились большевиками, ибо за ними была сила.
Я на минуту задумался. Эта подлая привычка моя всегда и во всех случаях жизни все анализировать и рассуждать иногда мне становилась противной. У ног моих лежал труп, открытые глаза которого спокойно глядели вверх. На лице покойника играли пробивавшиеся сквозь листву развесистого тополя золотистые лучи склоняющегося к горизонту осеннего солнца. Вдали открывалась дивная картина Днепра с беспредельным простором заднепровских лугов, лесов, открытой плоскостью уходящих до самого горизонта. И опять вся эта борьба кучек людей показалась мне такой малой в масштабе природных явлений. Уже тысячу лет так заходило осеннее солнце над Аскольдовой могилой, и, вероятно, тысячу лет будет каждый день рисоваться эта картина на Днепр будущему человеку. А этот маленький эпизод суеты на спуске, этот безмолвный труп полковника под тополем и невдалеке от него ничком лежащий другой труп, китайца, неведомым сплетением нитей судьбы переброшенного из недр Небесной империи сюда для того, что -бы умереть здесь в этот тихий вечер, – все это не что иное, как тонкий намет на ленте исторических событий в жизни человечества, до которых бесстрастному течению процессов нет никакого дела. И завтра так же будет заходить солнце, освещая других людей, другие картины из жизни «бескровной» революции на фоне тех же декораций. Когда-нибудь закончится и эта житейская драма, а гуляющая здесь в осенний тихий вечер влюбленная парочка, остановившись под тополем и любуясь на Заднепровье, едва ли сможет себе в фантазии представить труп полковника под деревом и никому неведомого китайца, покончившего здесь свои невеселые странствования.
Мне эти расстрелы были омерзительны. Я понимал, что идет война, что колебаться не приходится. Шла охота на людей, месть и расправа за преступления путем преступления.
Трусы и дезертиры стремились уходить с линии боя через линию заставы.
Против нас на перевязочном пункте в 5-й гимназии также бродили сотни солдат и офицеров, уклоняющихся от участия в бою.
Я наблюдал за Рябцовым и думал. Теперь он был мил с добровольцами. Сидел на скамейке рядышком с членами военно-полевого суда и ласково поддакивал им, когда они осуждали человека на смерть. Был он и свидетелем всей этой паники, и того, как я ее остановил, и был очень любезен со мной. Лично он меня не знал, а видел только по форме, что я военный врач.
Да, как все меняется: эсер, демагог, прогрессивный интеллигент, присяжный поверенный! Во время войны тыловой прапорщик запаса, уловивший курс жизни, – его любило старорежимное начальство, и он был на хорошем счету. Несколько глупых, экспансивных демагогических речей, – и нечистая пена революции выкинула его на поверхность взбаламученного моря. Дешево досталась ему шапка Мономаха, но нелегко было ему нести ее теперь. И жалкая приниженно-приветливая улыбка на его лице дисгармонировала с его внутренними переживаниями. Этот молодой человек бежал теперь от настоящей революции, которую создал сам. Впоследствии его унесла с нами волна до Одессы и Новороссийска. Это был обыкновенный мягкий, милый русский человек. Он в числе ему подобных создал весь этот хаос, от которого погибал теперь сам. Социалист он был такой же, как и мы все. Глядя на него, я раздумывал: в чем же, собственно, заключается социализм?
Я тщетно искал кого-нибудь из старших начальников, которому мог бы сдать командование заставой, и только около пяти часов я увидал полковника гвардейской части Рутковского, которому изложил положение дела и спросил, что делать. Он шел в штаб на Банковскую, № 11, и посоветовал мне пойти туда же за получением инструкций. Сдав команду артиллерийскому поручику, я пошел вместе с полковником.
Против штаба стоял отряд кавалерии в боевой готовности. Мы вошли в комнату, где сидел генерал Непенин. Я доложил о панике, об организации заставы и спросил, что делать дальше. Ответ был лаконический:
– Держитесь дальше.
Я направился к заставе и передал поручику приказание Непенина. Поручик принял на себя командование, а я отправился к мостам.
И снова поздней ночью ударил набатный колокол, и снова горел еврейский дом, а мстящая толпа, спокойно созерцая, наслаждалась. Неизвестно было, кто поджигал. Просто не тушили и радовались. Не грабили, и порядок не нарушался.
Рано утром 4 октября у моста скопились толпы людей, стремившихся в город. А утро холодное, осеннее, ясное и светлое было великолепно.
Поверхность вод Днепра была зеркальна и слегка дымилась утренним туманом. За Днепром сверкали золотом купола Лавры.
У нас не было продовольствия, и меня командировали в Дарницу, где было интендантство и земский союз. Мне надо было раздобыть для нашего отряда хлеб. Я пошел пешком. По дороге шли люди, военные и штатские. Двигались повозки. В Дарнице скопились штабы и тыловые части. Дарница напоминала военный лагерь.
Я направился в земский союз. Здесь сразу запахло третьим элементом. Это позорное учреждение сыграло немалую роль в гибели России и теперь продолжало свою гнусную работу по деморализации армии. Вместо хлеба для команды мне преподнесли ругань по адресу интенданта, который что-то-де запретил. Мне стоило много слов, чтобы доказать, что роте, охраняющей мосты, нужен хлеб.
Все говорили одно и то же, что натиск большевиков отбит, но пожимали плечами, и чувствовалось, что люди в чем-то сомневаются. Настоящих войск нигде не было видно: их было очень мало.
Этот вечер мы провели спокойно. В мыслях офицеров нашей роты царил удивительный сумбур политических взглядов. Это были не настоящие добровольцы, а присоединившиеся только теперь, со взятием Киева. Под шкурой офицера обнаруживался со всеми своими качествами русский интеллигент.
За чайным столом болтали, спорили и рассуждали. А ночью горел очередной пожар в Слободке, на который уже никто не обращал внимания. Во всех мозгах была отрыжка революции, и видно было, что плод ее далеко не созрел. Не было конечной цели, и что будет в случае победы добровольцев, никто не знал. Старой России не хотели, а что такое новая Россия – никто не знал.
5 октября рота получила приказание отправиться в город. Мы шли строем. Город уже имел другой вид. Бой слышался лишь издали. На улицах попадались трупы. Мы входили в город в роли победителей, и поэтому, идя в строю, люди чувствовали подъем и взгляды публики на себе. Всюду нас встречали приветливо, кое-где аплодировали нам и даже бросали цветы. Я получил разрешение на минуту забежать к себе на квартиру и воспользоваться временем стоянки роты, рассчитывая догнать ее на обратном пути.
Пришлось и мне пережить тяжелый душевный конфликт. На столе у себя я нашел отчаянное письмо, не с мольбою, а с воплем о спасении. Мать просила о погибающем сыне. Еще весной на своих лекциях я обратил внимание на необыкновенно способного юношу – восемнадцатилетнего еврея Кранца, поразившего меня своей начитанностью и бойким соображением. Я подружился с ним, и он стал заниматься у меня в лаборатории. Мы в шутку называли его «приват-доцентом», и я надеялся, что из него со временем выйдет талантливый ученый. Отец его был управляющим типографией «Киевской мысли». По внешности и по складу психики Кранц был типичным еврейским юношей. Он всей душой ненавидел русских, презирал их и имел чисто большевистский кодекс суждений, что, однако, не мешало ему очень дорожить своей собственностью в виде великолепного микроскопа, который подарила ему мать, и нескольких книг. Мы с ним много и долго вели за работой научные беседы, но, как только дело доходило до политики, он нес нестерпимый бред. Закусив удила, он оправдывал самые дикие деяния чекистов. Было ясно, что в лице этого юноши мы имеем непримиримого врага России, талантливого и сильного. Я его очень любил как своего ученика, хотя мы непримиримо расходились во взглядах. Тогда, под игом большевиков, наше положение ведь было безнадежно, и ничего удивительного в большевистском миросозерцании не было.
Однажды ко мне пришла его мать, превосходная женщина, добрая и умная. В ней было столько любви к своему Бобе, который, между прочим, был столь же некрасив, как и талантлив. Она знала, что сын ее дружен со мною, и пришла тайком от сына спросить меня о нем. Сердце матери радовалось, когда я рисовал ей блестящие перспективы жизни ее сына. Я сказал ей: «Держите его подальше от политики». А Боба вращался среди еврейских юношей, чекистов и комиссаров, горевших революционным фанатизмом. Мать понимала меня, но не сумела повернуть руля судьбы.
Письмо матери гласило: «Спасите, Боба арестован». Быть арестованным в эти страшные дни значило погибнуть. Что мог сделать я теперь? Письмо было написано вчера, а в это время еще везде шел бой. Мне нужно было догонять свою роту, и я не мог отлучиться из строя.
Мне стало нестерпимо жалко. Я знал, что гибнет талантливый юноша, гибнет мой личный друг и любимец. Но знал я и другое: в его лице гибнет непримиримый враг моего народа и России. Нас не жалели. За эти дни на улице в меня стреляли из окон, как в зайца на охоте. Идет война. Кто из наших попадался в руки – не видел пощады. Я вспомнил труп замученной сестры...
«Пусть завершится рок судьбы», – решил я. Как человека, друга, мне жаль его. Но после смерти непримиримого врага России ей станет легче. Спасти его значит изменить Родине. Конечно, он попался недаром. И я не ошибся. Его арестовал тот самый полковник Рутковский, которого я встретил накануне у заставы. У него была найдена пачка большевистских воззваний и шифр, принадлежащий большевикам. Его повели в штаб Стесселя и тут же на улице «вывели в расход». Я вспомнил, что его мать – давнишний личный друг Виктора Чернова, с которым она жила во время эмигрантства за границей.
В эти дни погибали многие. Жалеть друг друга было нечего. Бой ведь еще не кончен. Быть может, сегодня участь Бобы постигнет и меня, и, уж конечно, не стану я просить моих врагов о помиловании.
Я бросился догонять свою роту. На тротуаре у Крещатика я столкнулся со своим братом. Он удивился немного, увидев меня в такой роли, но одобрительно улыбнулся.
Теперь у нас на биваке уже шла обычная военная жизнь, какая бывает вне огня. Едва миновала первая волна опасности, по русскому обычаю воцарилась беспечность.
Слободка успокаивалась, и жизнь входила в обычную колею.
Опять многострадальный зал анатомического театра университета был полон трупов, но это были трупы не из чека. То были жертвы страшной междоусобной войны, где братья убивали братьев. Тех, кто руководил этой бойней, среди трупов не было. Они были слишком умны для того, чтобы гибнуть в бою.
Во время большевиков все трупы были изуродованы выстрелом в затылок. Теперь покойники лежали вплотную, рядом, какими они были подобраны на поле битвы. Все почти молодые деревенские парни, безусые красноармейцы. Все сплошь «демократия» на стороне красных и офицеры у белых. На лицах нет выражения ни злобы, ни страданий. Сотни жизней гибли без смысла и цели в угоду демагогам... Вся зала была уложена рядами трупов большевиков.
Я пошел туда, чтобы отыскать среди них тело моего любимца-ученика. Евреи не могли сюда показаться: толпа их слишком ненавидела. Тут только я узнал, что Борис Кранц был лютеранином. Я нашел его среди других. Он лежал на полу с окровавленным лицом: пуля попала в череп. Руки были перебиты, вероятно, ударами прикладов. Так добивали в экстазе мести врага, а Кранц ведь был непримиримым врагом русского народа. Мозг, носивший, быть может, задатки гения, теперь был раздроблен.
Перед зданием анатомического театра я застал величественное зрелище: хоронили первую партию погибших в боях добровольцев. Улица была полна народом. Длинная вереница катафалков, а за ними площадки ломовых извозчиков стояли у подъезда. На каждой платформе стояло по два-три гроба. Покойникам отдавали воинские почести. Каждая колесница была покрыта поверх гробов русскими национальными трехцветными флагами. Повсюду были венки цветов. Играл оркестр военной музыки. Был выстроен батальон местного гарнизона. Под звуки «Коль славен» выносили все новые гробы, и батальон держал «на караул». Спокойно, торжественно и тихо. Часть гробов была открыта; в других гробах – закрытых – были останки деформированных и разорванных снарядами тел. При звуках гимна толпа замерла. Сжималось сердце, подступали слезы, и многие тихо плакали.
Мы видывали картины иные – гражданских похорон жертв революции. Все там было огненно-красное, кровавое, и лица были озарены экстазом ненависти и злобы.
Здесь было иное: вековые формы жизни заковали в обряды вечно юные переживания, украшающие жизнь из тьмы веков. У открытых гробов никто не ненавидел и не поносил отбитого врага. Отдавали дань уважения за других погибшим на поле брани. Плавно, не жестикулируя и не волнуясь, провожала толпа покойников. Это ведь не последние! Их много еще там неопознанных, смешавшихся с врагами. Завтра будут хоронить другую партию...
Когда на фронте под гром канонады мы хоронили своих товарищей, особенно торжественно звучал церковный хор. С этими символами была связана история великого народа, который теперь так жестоко казнил и истреблял себя в угоду своим врагам и честолюбцам.
Читателю этой книги не может не броситься в глаза много повторений. Я безжалостно вычеркивал их, пока не убедился, что это неправильно, ибо по существу вся революция есть непрерывное повторение одного и того же. На ее протяжении нет почти ничего нового. Повторяются даже люди, а особенно пороки и преступления. Лейтмотивы революции очень стойки: в главном это грабеж всех видов, уничтожение материальных и духовных ценностей, разрушение старого и несоздание нового. Во взаимоотношениях людей – звериная ненависть, недоверие, подозрительность. В деяниях по отношению к себе подобным – предательство, доносы, интриги. В головке революции – утопические и бредовые идеи, в массах – больные верования, а в низах – звериная психология толп с ее насильственными и импульсивными действиями. Вот почему все явления на протяжении революции повторяются до надоедливости, и при изложении событий их избежать нельзя: это повело бы к искажению истины во имя улучшения формы литературного изложения.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОТКАТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ И СКАЧОК В БЕЗДНУ ЭМИГРАЦИИ
ГЛАВА XII
Развал
После октябрьского нашествия Киев переменил свою физиономию. Большевиков отбили, но не отогнали далеко.
Непрерывно слышалась канонада, а временами раскаты пулеметного и ружейного огня. Над городом висел вопрос: придут большевики или не придут? А ведь деваться фактически было некуда, ибо в это время откат Добровольческой армии от Орла уже начался, и никакие силы не могли его остановить. Это отлично сознавал наш штаб, и начальник штаба полковник X. однажды с карандашом в руках точно вычислил мне, сколько времени будет длиться откат и как распылится армия. Это осуществилось математически точно. Кто только мог, уезжал в Таганрог. Одесса и юг были еще в руках добровольцев. Большевики шевелились по всему фронту. Армия же Колчака в это время погибала.
Евреи временно притихли и по своему обыкновению все как один отрицали факты, утверждая, что ничего подобного тому, что им приписывают, не было, что стрельба из окон есть черносотенная выдумка и клевета на ни в чем не повинный еврейский народ. Кричали вовсю о погромах и о том, как их обижает Добровольческая армия. За это время в Слободке разыгрался инцидент между генералом Драгомировым и гвардией. Учинили небольшой еврейский погром. Генерал Драгомиров сделал перед войсками очень резкий разнос, обвинив гвардию в грабежах, и гвардия сочла себя обиженной. Началось помрачение ореола Драгомирова и потеря им авторитета. Его обвиняли в покровительстве жидам. Но вскоре еврейская интеллигенция снова развила ярую агитацию против добровольцев, а русская – повторяла легенды о том, что кто-то кого-то давит и что режим добровольцев недостаточно либерален, что нет свободы. Только режим большевиков русская интеллигенция сносила покорно и даже видела в Ленине и Троцком черты гениальности.
Начался развал психики, и это определило гибель армии. Добровольцев было мало, население их не поддерживало, и хваленая «народная воля» склонялась в сторону большевиков.
С мобилизацией медлили, да ведь это была не императорская власть, которой бы послушались. Имя Драгомирова по отцу импонировало, но других вождей никто не знал. Удивлялись, как могли добровольцы с ничтожными средствами отбить октябрьское нашествие на Киев. Много говорили о том, что на этот раз рабочие Арсенала, всегда бывшие на стороне большевиков, не только не изменили, но сражались с большевиками в составе рабочей роты под начальством инженера Кирсты. Устроен был парад, на котором генерал Драгомиров торжественно надел крест военного ордена рабочему, захватившему большевистский пулемет.
Контрразведка 1 октября бежала в Дарницу, бросив все дела и документы. Большевики туда не ворвались, и тем не менее все там было разгромлено и все документы исчезли, в том числе и свыше 400 смертных подлинных приговоров, сданных мною туда дли привлечения чекистов к суду. Эти документы могли стать уникумом в истории преступности революции. Кто уничтожил их? И надо было думать, что это сделали те самые агенты большевиков, которые были оставлены в контрразведке и теперь держали связь с большевиками.
После октябрьского вторжения большевиков в Киев контрразведка Добровольческой армии была переименована в особый отдел. Странным образом и название, и организация были взяты целиком от большевиков и построены по образцу чека. Во главе его стоял полковник Сульженков. Были открыты отделения: оперативное, судное, политическое. Состав был пестрый: были хорошие и храбрые офицеры, убежденные борцы с революцией и монархисты, но были и люди с сомнительной моралью, и настоящие авантюристы. Я всех их знал и сталкивался с ними по моей деятельности члена Комиссии.
Полковник Сульженков был активный и честный деятель, но человек сумбурный, легкомысленный и мистик. Как юрист он был законник, но скоро это оказалось неосуществимым, ибо вся революция основана на тайных деяниях, в борьбе с которыми легальные приемы совершенно бессильны. Особый отдел должен был вылавливать большевиков, чекистов, агитаторов и шпионов. Для этой цели он должен был иметь агентов и использовать доносы, большинство которых в это время были ложными. Служба в контрразведке была исключительно опасная: служившие в ней были обречены, и жизнь их висела на волоске. Поэтому подбор людей был очень труден.
Политическим отделом заведовал бывший жандармский полковник Каменский – спокойный, выдержанный и знающий свое дело человек, без авантюризма и без предосудительных приемов в своей деятельности. Он хорошо дополнял полковника Сульженкова, не вносил в свое дело страстности и казался человеком порядочным и честным.
Начальником оперативного отделения был кавказского типа офицер Арзамасов. Это был чистого типа авантюрист, страстный, энергичный предприимчивый, иногда с двойной загадочной ролью. Появился он из штаба Деникина, как сам высказывался, с особыми тайными поручениями, и все нити, насколько их можно обнаружить, связывали его с одной из самых отрицательных фигур русской революции и Белого движения, генералом Лукомским.








