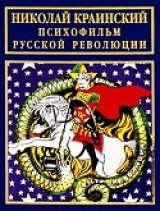
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
Вторым помощником коменданта в вучека был Никифоров. Похож на латыша, но хорошо говорил по-русски. Одевался с шиком, в синем френче и в панталонах-галифе, в хороших сапогах. Любил играть стеком перед носом арестованных. По манерам это был полуинтеллигент. Лицо плоское, бесцветное, наглое. На арестантов смотрел как на собак. На вопросы отвечал дерзостью. Если его о чем-нибудь просили – делал наоборот. Однажды посадили в женскую камеру пьяных мужчин. Красноармейцы в дни его дежурств устраивали под окнами женских камер оргии и пели непристойные песни. Никифорова арестованные ненавидели больше всех. В нем не видели никогда проявления человечности. Прогулок не разрешал: «А мне какое дело, пусть хоть все передохнут». Заявлений не принимал.
Еврей Анцель Извощиков, бывший билетер кинематографа в Чернигове, был исключительный по жестокости палач. Одет был в военную форму со шпорами. Одни говорили, что его даже любили. Ему около 20 лет. С первых дней революции в Чернигове он занял видное место. Он знал весь интеллигентный Чернигов и потому с ними жестоко расправлялся. Тех, кто когда-то был ласков с ним и давал ему на чай, он жаловал и щадил. Он выдал чеке большинство старорежимников. Одного слова Извощикова было достаточно, чтобы быть расстрелянным. Где он появлялся, там была смерть. Любил пугать и терроризировать. Семья Анцеля была бедна: отец его был папиросник.
Число жертв в вучека было меньше, чем в ГЧК, ибо дело велось более идейно.
Фамилии деятелей вучека установлены. Членами комиссии были Алексеев и два брата Шишковы. Эти люди не так крикливы, как евреи из ГЧК.
Интересна фигура Андрюшина. Он был следователем. Убежденный коммунист, сын богатых и интеллигентных родителей-помещиков. Он сошелся с коммунистом Рязановым, который теперь был следователем в вучека. Рязанов был сын начальника округа путей сообщения старого режима. Таким образом, оба они не были пролетарского происхождения. Это молодое поколение старой России. Андрюшин был арестован за гуманное обращение с арестованными и сам теперь превратился в арестанта, получив возмездие за свои революционные порывы. Он был учеником Фигнера и хорошо пел. Некоторые его подозревали в шпионаже. Постепенно он сошел с ума, принимал от 10 до 15 порошков веронала. Он много делал для арестованных. Многие считали Андрюшина порядочным человеком, пострадавшим за свои убеждения. Тоже из типов Достоевского.
Среди заключенных было много атаманов партизанских шаек, боровшихся против большевиков: Сметана, старик Струк. Сметану схватили после долгих преследований. Он вошел в камеру совершенно спокойно, заявив, что через 45 минут его расстреляют. Был весел и вышел на расстрел с большим достоинством. Когда за ним пришли, он спросил: «Что, умирать уже? Подожди, дай закурить!».
Был среди арестованных какой-то рябой человек. Пять раз бегал он от немцев из плена. Будучи начальником комитета бедноты, стащил 60 тысяч и сбежал.
Один из краснокрестных деятелей держал себя крайне недостойно. Сваливал вину на своего брата. Валялся в ногах и умирал подло.
Промелькнул в вучека какой-то негр, которого «видели входящим, но не видели выходящим».
Очень характерно дело инженера Павловского, начальника Подольской железной дороги. Среди комиссаров находился некий Колесников, которого когда-то уволили со службы с железной дороги. Теперь он свел счеты с начальником дороги. Он донес на него как на контрреволюционера. Павловского арестовали и расстреляли.
Женщины в чека. Одну из самых гнусных фигур революционных женщин представляет собою медичка-коммунистка Цитович, дочь известного в Киеве и пользовавшегося уважением деятеля, бывшего убежденным контрреволюционером. Когда к нему явились убийцы, чтобы забрать его, он с презрением клеймил их: «Каким я был – таким и умру, а вас я презираю». Но что было презрение для людей, не имеющих чести? Родная дочь-медичка присутствовала при обыске у отца. Она бесстрастно стояла у окна, словно дело ее не касалось. Комиссар шарил в бумагах отца. Но вдруг «дочь века» встрепенулась: комиссар потянулся за фунтом чая в шкафу. «Этого не трогать! Мое! – сказала коммунистка. – Бог с ним, – кивнула она в сторону отца, – делайте что хотите, этого не троньте». Отца расстреляли, а чай остался. Где-то теперь эта фурия революции? И что она об этом думает теперь?
В большевистской революции женщины играли большую роль, особенно еврейки. Я лично не видал главных героинь того времени в Киеве, но мое исследование коснулось и Евгении Бош, и Коллонтай. Коллонтай была дочь генерала. Ее фигура цельная – фанатичка и храбрая, но бесстыдная и циничная. Перед самым отходом большевиков она бесстрашно появлялась всюду. Я видел много женщин-врачей, рядовых коммунисток, которые, надо признать, с присущей им добросовестностью и убогим умом делали свое дело.
Красочна была и наивна в своей преступности фигурка дочери царского генерала Маньковского, служившей в чека переписчицей. Женственная и милая, она была изящно одета. Она явилась к председателю Комиссии, генералу, знавшему ее отца. Он обласкал ее и поручил мне отобрать от нее показания. С милой улыбкой, совершенно не чувствуя своей вины, она рассказала мне: «Да, я служила. Да, я знала, что убивают...» Но ей «надо было служить». За кровь человеческую, как писарь на бойне, получала милая девушка эти деньги. На машинке, сидя перед окном, выходившим на бойню, переписывала она смертные приговоры. И не было ей теперь нисколько не стыдно. Ее мило приняли и отпустили. Да, добровольческая мораль всепрощения не могла победить большевистскую власть всесокрушения! Если когда-нибудь эти строки дойдут до детей этой женщины, пусть они задумаются над образом своей матери. Быть может, они поймут, что такое мораль.
Красочную фигуру представляет собою и чекист Егорова. Русская, молодая, красивая, сильная, с ясно выраженными вторичными половыми признаками. С симптомами садизма. Хорошего происхождения – ее даже считают княжной Мансуровой. Жила до революции в Париже, где сошлась с революционными кругами. Вышла замуж и разошлась. Вторично вышла замуж за рабочего Егорова, который теперь где-то углублял революцию. Вторично разошлась. Мне о ней дала подробные показания знавшая ее женщина-врач. Егорова была умная и интеллигентная женщина. Она носила немножко по-мужски фуражку мужского покроя с пятиконечной звездой. В ее порывистых движениях было что-то, указывающее, что гормоны ее не в полном порядке. Любила кутить, участвовала в оргиях и не раз старалась ущипнуть свою красивую подругу – женщину-врача. Однажды надо было кого-то спасти, и для этого чекистам с Егоровой устроили пикник. Егорова веселилась, много пила и стала шутя за кем-то гоняться. Она вдруг вошла в азарт и серьезно стала кричать, чтобы тот, за которым она гонится, остановился, иначе
она будет стрелять. Егорова рассказывала своей подруге, как она расстреливала. Со вкусом производила допросы, и тот, кто попадал в ее руки, живым не выходил. В пьяном чаду она хвалилась, что ей приятно расстреливать. Это была карамазовщина в юбке, полная телесных и душевных диссонансов. Революция сделала ее чекисткой.
Другая женская фигура – это полька-фанатичка Касперович. Олицетворенная жестокость и ненависть к русским. Эта женщина до такой степени свирепствовала при постановлении смертных приговоров, что даже матерый волк революции Феликс Кон однажды покачал головою и сказал: «Однако».
Русская революция не нашла своей Шарлоты Корде, но добрые ангелы между ними были. Обслуживали чека сестры из международного Красного Креста и были безупречны. Они не были героинями, ибо там нельзя было проявлять геройства, но долг своего служения они исполняли до конца. У меня остались в памяти образы сестер Медведевой и баронессы Толь. На фоне мрака революции это светлые образы русской женщины.
Отдельные процессы чека. Время от времени чекисты создавали искусственно процессы, вроде тех, которые впоследствии применяли большевики в виде показательных. Таково было дело Солнцева. Незначительный чиновник банка возведен был в организаторы заговора. Арестовали всех его знакомых. Следствие не дало никаких данных. Тем не менее подозреваемых мучили в казематах вучека. Солнцева неоднократно водили «на испуг», били так, что он возвращался в камеру весь в кровоподтеках. Расправа была необыкновенно жестока. От истязаний Солнцев в конце концов сошел с ума, и его застрелили уже сумасшедшим.
В связи с этим делом истязали в особом отделе жену артиллерийского капитана Спекторскую. Я видел маленький чулан, в который была заключена несчастная: там нельзя было ни стоять, ни лежать, а можно было лишь сидеть в скрюченном положении. И так днями.
Очень характерным было дело бразильского консула Перро. Здесь имелась настоящая провокация. Прием столь же редкий, как часто неправильно применяется этот термин. Провоцировать значит предумышленно вызвать определенное выступление. А это вовсе не так легко и встречается редко. С провокацией часто смешивают доносы и слежку.
В деле Перро была ловушка. Большевики задумали выловить контрреволюционеров и от имени бразильского консула объявили покровительство офицерам, которые будто бы принимаются туда для охраны. Несколько офицеров неосторожно отозвались и погибли. Консулом Перро оказался переодетый чекист, который будто бы был даже осужден вместе с другими. Но в числе казненных его не оказалось, история так и осталась загадочной. Из дипломатов никто бразильского консула Перро не знал.
Характерно также дело Стасюка – Бимонта. По одним сведениям, Стасюк был раньше жандармом, по другим – мелким помещиком. Он был убежденный и смелый контрреволюционер. Когда к нему пришли с обыском, он довольно хитро завлек комиссара в свой кабинет и, улучив момент, выстрелил в него. Револьвер дал осечку, и тогда он стал избивать чекиста револьвером. На крик чекиста вбежали его товарищи и обезоружили Стасюка. Почему-то в этом обыске участвовал сам Савчук. Стасюк был посажен в чека вместе с дочерью и ее женихом, поручиком Бимонтом. Сидя в чека, Бимонт писал карандашом на стене свой дневник. Всех трех мучили на допросах – и, переведя в тюрьму, там однажды расстреляли, как это описано выше.
Типично и дело Гальске, которого я видел в тюрьме уже осужденного на смертную казнь. Во время большевиков я встречал его у моего знакомого врача-грузина и его жены-медички, моей ученицы. Ничто не давало основания думать, что видишь перед собой чекиста и шпиона-предателя. Вырождающийся барон Гальске был слабой натурой. Происходил из хорошей семьи и рано вступил на путь морального падения. Это был молодой человек, ничем не выдающийся. Он любил пожить и нуждался в деньгах. Сначала он был студентом в Москве, потом в роли крупье в каком-то игорном притоне. Непонятным образом он попал в руки чекистов. Узел завязался, и, чтобы спасти свою шкуру, он выдал свою невесту, свояченицу и жену офицера Глинского, которые и погибли в чека. Самому Глинскому, которого я лично допрашивал, удалось бежать. Этот побег превосходит по авантюрности все похождения МонтеКристо и выполнен самым невероятным образом. Я видел взломанную решетку в окне погреба Особого отдела на Елизаветинской улице, где содержались арестанты. Глинский умудрился согнуть железный прут под влиянием большой дозы кокаина. Четверо заключенных вылезли в окно и ушли от большевиков через сад между их рук. Такие приключения бывают только в романах.
В прошедшем передо мною фильме чека я видел трагедии, драмы, романы и водевили куда более сильные, чем это дает самая изощренная фантазия писателей. Только действительность была как-то проще, как и самая моя жизнь в роли участника революционных авантюр. Только теперь, когда заносишь их на фильм моего повествования, я удивляюсь силе этих картин и переживаний и часто говорю себе: «Совсем как в романе!»
В борьбе Белого движения с чека мы видим, с одной стороны, слабость, мягкость с претензией на гуманность и соблюдение правовых норм, а с другой – дикую отвагу, дерзание и решительность. Никакой морали и никаких правовых норм, и ясно, что первая сила не может быть противопоставлена второй.
Если бы во главе Киевской области стоял такой генерал Императорской армии, как Меллер-Закомельский, действия которого я видел в 1905 году, он, быть может, и справился бы с чека. Но что мог сделать генерал, уже тогда окруженный кадетами и эсерами, а впоследствии ставший пророком «непредрешенства?» А бессильный комендант Киева, находящийся в руках своего адъютанта, крадущего мешки с сахаром и лжесвидетельствующего на суде? Разве не была такая власть и возглавляемое ею движение осуждено на гибель? А военно-окружной суд над Валлером? Разве это не добровольческая оперетка? Разве такая власть могла бороться с большевизмом и победить его?
Настоящая контрреволюционная власть должна была бы по приговору военно-полевого суда в первые три дня расстрелять всех причастных к чека. А расстреляна была одна Роза, да и то через несколько дней после приговора, потому что не могли найти палача и потому что приговор должен был быть выполнен по форме.
Во всех показаниях заключенных в мрачных тонах проходила деятельность одного лица, служившего в губчека, которого обвиняли в жестоком обращении с заключенными, в неподаче помощи, в дружбе с чекистами и, наконец, подозревали в доносах на заключенных. Эти показания закреплены в целом ряде актов и зафиксированы в документах, которые впоследствии странствовали по канцеляриям четырех государств, когда это лицо находилось уже в эмиграции. В этих документах приводились все его поступки, и он трактовался как бывший чекист. С приходом добровольцев произошла обычная метаморфоза: этот деятель остался в Киеве и явился с предложением своих услуг в одно из управлений Добровольческой армии. Однако он был разоблачен и арестован. Но прочные связи быстро нажали пружины, и он был освобожден, а впоследствии очутился в эмиграции. В одном городе с ним очутился и другой деятель чека, соратник известной Толмачевой, которая уже во времена эмиграции также однажды посетила этот город. Прошли года, и бывшего деятеля чека обнаружили. Разоблачения появились в прессе со всеми тонкостями и фактами. Но прошло уже много лет, и доказать в судебном порядке эти факты было трудно. Этот бывший служащий чека возбудил дело о клевете, и за недоказанностью фактов два совершенно достойных лица из числа русской эмиграции за разоблачения бывшего деятеля чека были обвинены в клевете. Официальное учреждение, ведающее русскими делами в этом государстве, обратилось ко мне, как к бывшему члену комиссии по расследованию деятельности чека, с просьбою, не могу ли я дать показания. Я таковые дал. Инкриминируемое лицо возбудило дело о клевете. Несмотря на все документы и показания, дело в первой инстанции было решено в пользу бывшего деятеля чека, хотя служба в ней была доказана, но документально его жестокость и предательство не были признаны доказанным. Во второй инстанции я дело выиграл, и дача моих показаний была признана судом правильной.
Но в этом деле обнаружились чрезвычайно странные обстоятельства. В русском учреждении, которое просило меня дать ему показания о деятельности инкриминируемого лица, находилось подлинное дело об этом деятеле, где были все документы о его разыскании от контрразведок четырех держав, все показания свидетелей, которые совершенно совпадали с моими. И когда эти документы понадобились для предъявления в суд, их не оказалось. Они были похищены. В скором времени лицо, в руках которого эти документы находились, было арестовано и предано суду по обвинению в связи с большевиками. Есть и еще непонятные странности. Мои показания на суде были опубликованы прессой. В них я, между прочим, сослался на бывшего начальника контрразведки полковника Сульженкова. Через четыре месяца после этого в Канаде, в Монреале, где в качестве эмигранта жил Сульженков, коммунисты завлекли его в ловушку и убили. Еще через два месяца ко мне на прием является женщина и начинает меня мистифицировать, симулируя болезнь и указывая, что у нее по ночам бывают какие-то та -инственные припадки. Она просила меня приехать к ней во время припадков и говорила, что пришлет за мною автомобиль. Ловушка была довольно наивна, ибо я не мог не понять, что припадки эти выдуманные. Я стал присматриваться к мнимо больной и узнал в ней уже обнаруженную полицией большевистскую агентку. Я ее тут же разоблачил и, выпроводив любезно через приемную, в которой сидели больные, рассказал им о похождении авантюристки.
Конечно, все это могло быть и «случаем», но тем не менее совпадение странное, как и скоро приключившаяся со мною болезнь с симптомами отравления.
Из этой эпопеи видно два положения. Во-первых, бывшие чекисты могут превратиться вне революции опять в обыкновенных людей, которые могут жить в обществе вполне мирно, ничем не проявляя аморальных качеств. А во-вторых, что преступления революции, даже самые кровавые, через много лет очень трудно доказать. Свидетели лжесвидетельствуют или из трусости, или из партийных соображений, документы же исчезают, или вообще эти преступления не закрепляют. Как общее правило, все преступления революции не наказуются, и ее деятели могут жить в послереволюционном обществе и пользоваться полным уважением.
Предреволюция очень много кричала об ужасах царского самодержавия, о насилиях и бесправии, чинимых жандармами. Вот картинка из прошлого, списанная с натуры, которую полезно привести как пример тому как жандармы относились к своим клиентам, и провести параллель с описанными выше деяниями чекистов.
На Дальнем Востоке царская армия вела неравный бой с сильным и благородным противником, пробивая великой Державе Российской путь к Тихому океану. Изнемогая под напором превосходящих сил, славный 12-й Восточно-сибирский стрелковый полк, истекая кровью, за десять тысяч верст от столицы, под Тюренченом, геройски защищал ворота своей Родины от вторжения неприятеля, сражавшегося почти что у себя дома.
На берегах Невы, в столице Империи, бушевала молодая кровь, отравленная ядовитыми газами революции. Курсистки Лесгафта и студенты Императорского университета посылали японскому микадо телеграмму с пожеланиями победы над варварской Россией, дабы на крови русского солдата воздвигнуть знамя свободы и приблизиться к осуществлению земного рая.
В это время в Харькове волновалась студенческая молодежь. В тускло освещенной студенческой комнате шло собрание. Смешались потертые студенческие мундиры с тужурками технологов и ветеринаров. Между ними маячили в тусклом освещении накуренного помещения темные платья курсисток. Слышались речи, одухотворенные радостными надеждами на скорое наступление социалистического рая и на победу революции. Звучали старые напевы об ужасах царского самодержавия, и смаковались неудачи Маньчжурской армии. Непримиримые эсдеки на этот раз сходились с подхлестываемыми террором эсерами в своем презрении к черносотенной студенческой сволочи, ко -торая позорит своими патриотическими выступлениями славные революционные традиции студенчества.
На видавшем лучшие времена растрепанном диване у стены, в полумраке, развалившись, сидел восторженный юноша, вдохновляемый взглядами своей соседки, и с пафосом цитировал отрывки из только что полученного для распространения зарубежного органа Петра Струве «Освобождение». Там поносился Император Николай II и русские силы призывались к свержению самодержавия. «Господа военные, – декламировал юноша, – нам не нужно вашей пассивной, бессмысленной храбрости в Маньчжурии! Обратитесь против истинного врага страны. Он в Петербурге, в Москве. Этот враг – самодержавие и самодержавники. Революция должна стать в России правительством...»
В экстазе впивались блестящими глазами в студента курсистки, и ропот одобрения пронизывал накуренную атмосферу студенческой комнаты.
«И станет!» – вопил призыву дружный хор молодых голосов. По обычаю студенческих собраний был выставлен маячащий на сторожевом посту. Но молодой студент замечтался и прозевал шпиков.
В самый разгар пафоса и пожеланий провала Маньчжурской войны в запертую дверь раздался стук: «Именем закона отворите!»
Короткое смятение. Суета. Но нет времени замести следы, спрятать «литературу». Находчивая курсистка собрала быстро тонкие листки «зарубежного органа» и неумело засунула пачку под подушку на ветхом диване, на котором только что наслаждалась героизмом юноши, желавшего гибели русских солдат во имя революции. Быстро расселись по местам и приняли независимо-невинный вид.
Дверь отворилась, и среди общей тишины в комнате появился жандармский полковник Кобылинский с городовым и классическими «шпиками» в гороховом пальто.
– Что у вас тут за собрание? – обратился к молодежи полковник.
Обычная нерешительная мотивация: обсуждаем-де учебные дела. Тогда молодежь еще не умела так нагло лгать.
Опытным взглядом обвел пожилой полковник комнату. Медленным, спокойным шагом подошел к дивану и добродушно опустился на него, спиною к той самой подушке, под которую неумело засунула курсистка пачки «Освобождения». Отечески повернувшись лицом к молодежи, полковник поучал ее тому, что собрания без разрешения не допускаются.
– По долгу службы должен произвести обыск. – И он махнул рукой помощнику пристава.
Агенты и городовые пощупали столы, слегка пошарили и, не обнаружив ничего преступного, кроме нескольких бумажек с глупыми стихотворениями типа «Буревестника», обратились к начальнику:
– Прикажете обыскать господ студентов?
Полковник отрицательно махнул рукой и отпустил свой персонал.
Стояла тишина. На лицах пламенных и некрасивых курсисток, недавно вдохновлявших юношей, появилось смущение, а сердце радостно трепетало в надежде: «Не нашли!».
Полковник молчал. Все стояли и сидели в ожидании. Спокойно засунул руку назад, за спину, и невозмутимо вытащил из-под подушки растрепанные листки «Освобождения».
– Ну, а это что? И на что вам нужна эта гадость? Вы, цвет России и будущий мозг ее, читаете эту мерзость, жаждущую поражения Русской армии! Скорее сожгите это, иначе я должен буду вас арестовать и причинить вам неприятности...
Немного говорил царский опричник и не задевал чутких струн самолюбивой русской молодежи. Спокойно встал, ласково простился и вышел...
Немного было сказано и после его ухода. В печке вспыхнул очистительный огонь, и пламя поглотило ядовитую отраву, которую вселял в душу молодежи растлитель земли Русской. Из страны, недосягаемой для рук царских жандармов, он вещал первый лозунг пораженчества: «Чем хуже, тем лучше». На крови русского солдата он сокрушал весь старый мир.
А в трагический для России день встретивший меня в одном обществе студент торжественно заявил: «Сегодня для меня радостный день: наших разбили под Цусимой!».
Через мои исследования прошла фигура крупного статиста русской революции, впоследствии возведенного в звание красного маршала, Ворошилова. Лично я его не видал, но в мои руки попал весь материал чека и Министерства внутренних дел Украины того времени, когда Ворошилов был там министром внутренних дел. В то время большевики еще не находились в фазе созидания своего режима, а стихийно разрушали старое. Поэтому министры были бездеятельны и никакой роли не играли.
Ворошилова мне охарактеризовала служившая в его министерстве русская княжна, моя хорошая знакомая. Не надо удивляться такому симбиозу: в это время служить у большевиков не считалось зазорным, ибо другого выхода для русской интеллигенции не было, и все стремились стать советскими служащими. Иначе предстояла перспектива умереть с голода. Она охарактеризовала Ворошилова как тупого, но честного идеалиста, целиком ушедшего в революционную идеологию. Последнюю же он понимал как кровопускание русской буржуазии и интеллигенции, ибо его тупой ум и невежество не могли одолеть тайн революции. Раньше, в период от Царицына до Киева, этот рабочий котельного завода оказался чуть ли не руководителем военных операций, и отсюда взошла звезда будущего маршала. Тогда передавали, что он вместе с офицером-латышом Круселем брал Екатеринослав. И опять переплелись нити жизни: Крусель когда-то во времена моего студенчества играл на скрипке в оркестре, которым я дирижировал. Он был убит под Екатеринославом, а его победные лавры пожал Ворошилов. Впрочем, насколько все это отвечает истине, не ручаюсь, так об этом говорили тогда.
В Киеве Ворошилов руководил всеми преступлениями большевиков и попал во главу чекистского триумвирата: Ворошилов – Петерс – Лацис, который и осуществил все августовские убийства в Киеве. Впоследствии палач-убийца превратился в красного маршала: надо думать, что в мировоззрении большевиков различия между бойней и битвой не существует...
Каким образом Ворошилов стал знатоком военного дела, об этом повествуют революционные легенды. Передавали, что будто бы он про -шел курсы академии красного Генерального штаба и самообразовался. Сомневаюсь, чтобы его тупые мозги могли воспринять военную науку, ибо чекистская бойня и поле сражения не одно и то же. Но характерно, что впоследствии даже эмиграция идеализировала Ворошилова и видела в нем чуть ли не спасителя России от большевизма. Как перед ним пресмыкались русские спецы и бывшие интеллигенты, видно из одной фотографии, которая мне попалась через пятнадцать лет после киевской эпопеи. На ней был снят Ворошилов в группе профессоров Военно-медицинской академии, а рядом с ним мой бывший коллега, профессор психиатрии Осипов. Весь томик журнала низко льстил Сталину и Ворошилову, попирая те достоинство и честь, которые когда-то были присущи русским ученым.
Через многие годы только опыт показал, что ни бандит Ворошилов, ни террорист Пилсудский не могли быть военными маршалами, и что войска, ими ведомые, осуждены на разгром. Оказалось, что для военного дела нужно немного и знания.
По моему психофильму прогулялся и другой красный маршал, Тухачевский, правда еще тогда, когда он, будучи незаконнорожденным младенцем моего соседа-помещика и деревенской девки Мавруши, красовался в голубом пакетике, в пеленках, перевязанных ленточкой. Эта картина описана в моей книге «Без будущего».
Перед нами прошла длинная галерея чекистов и частью руководителей большевизма в реальных образах. Это были палачи революции, в большей или меньшей мере облитые русской кровью. Вне моего непосредственного кругозора остались многие главари этого движения и его идеологии. О многих из них, косвенно прошедших в моем поле зрения, я могу судить не лучше, чем другие, по рассказам очевидцев. В дальнейшем моем фильме пройдет другая галерея деятелей Белого движения, и также фигуры главных его руководителей непосредственно не попадут на мою ленту зрения. Сравнение этих двух групп очень поучительно. Много будет у белых вождей заблуждений, много будет вокруг них порока, и много неумного найдет историк в их идеологии, но нельзя же будет отрицать, что, насколько фигуры революции были проникнуты преступностью, пороком и злыми идеалами насилия, настолько вторая группа была одухотворена идеологией борьбы со злом и верила в светлые идеалы. Если она в целом сбилась с пути, это объясняется той психической эпидемией, которая захватывала решительно всех людей. Революционное движение было сплошь аморально, Белое движение стояло на строго моральных началах в абстракции. И если на руководителях его и лежит грех измены Царю и отречения от императорских заветов, то и это было не чем иным, как страшным симптомом повального предреволюционного безумия.
В смертной борьбе этих двух начал мы увидим и массакрации, и зверства, и пытки с обеих сторон, когда ожесточение дойдет до крайности. На полях сражения белых армий мы найдем повальный вывод в расход целых групп комиссаров, еврейских и латышских бойцов. Найдем и грабеж. Но все же его физиономия будет другая, и как основной мотив здесь найдем месть и возмездие, но не зло как принцип.
Одной группы мы совершенно не найдем на фильме русской революции – это настоящих контрреволюционеров, каковые имелись налицо во Французской революции. Не было совершенно контрреволюционных вождей, боровшихся за восстановление Императорского Престола и исторической России. Все Белое движение пошло под лозунгом построения новой России и воплями, что к старому возврата нет. Мы, контрреволюционеры, в преобладающем количестве влившиеся в белые армии, должны были таить свои вожделения, так как не время было бунтовать против белых вождей, из которых многие находились в добросовестном заблуждении момента. Оба движения – и монархическое, контрреволюционное, и непредрешенческое вылились уже впоследствии в эмиграции в новую, уже бескровную войну, также проникнутую ненавистью и страстями. В самом деле: старая Императорская Россия не дала ни одно -го борца за историческую традицию, и вся Россия безмолвно смотрела, как распинают ее Царя, не сделав ни одной попытки его спасти.
Это, пожалуй, можно было бы поставить в вину русскому народу, если бы пример других великих империй не показал бы, что и там сметалось прошлое и отрекались от истерических эмблем, корон и скипетров. Таково было время, и таков был в эти годы повальный бред всего человечества.
Во второй половине моего фильма мы уйдем от большевиков, ибо будем видеть их через завесу фронта, и если душа будет сжиматься от ужасов картин, нами переживавшихся, то надо всегда держать в памяти, что это было больное и подлое время, от которого валились все устои морали и права.
Но зато в конце фильма выплывут новые элементы: смрад концентрационных лагерей, в которых бывшие союзники будут лупить остатки белых войск дубинами чернокожих. Пышные речи лидеров мировой демократии, которые будут возвещать, что «краденые деньги не пахнут» и что «торговать можно и с людоедами». Мы познакомимся с моральными ценностями нового послевоенного мира, которые старому миру казались бы невероятными, а в Лиге Наций на долгие годы воцарится ореол бывшего фальшивомонетчика, героев ограбления казначейств и террористов. Пожалуй, полезно было бы изучить и эту группу деятелей. К счастью, это не входит в мою программу.
Во всем ужасе чрезвычаек и в трагедии русского народа есть одна психологическая черта, которая указывает на полное падение общечеловеческих моральных ценностей и на порочность так называемого цивилизованного мира. В то время, когда в России гибли миллионы людей в муках и несчастье, весь цивилизованный мир молчал и признанием разбойной власти над русским народом санкционировал преступления большевизма.








